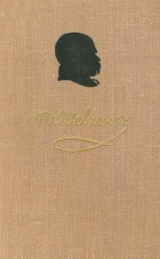
Текст книги "Драматические произведения. Повести."
Автор книги: Тарас Шевченко
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Следовательно, все балы описаны, начиная от бала на «Фрегате Надежда» {116}до русской пирушки на немецкий лад, где усть-сысольские ребята немножко пошалили.
И в отношении провинциального бала я могу сказать смело, что мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами провинциальных красавиц,
Одно меня немного озадачило на этом бале, именно то, что не видно было ни одного мундира, несмотря на то, что в Прилуцком уезде квартировал стрелковый батальон. Не постигая сей причины, я обратился к моему Виргилию.
А Виргилий мой в эту самую секунду выделывал в кадрили па самым классическим образом. Я терпеливо ожидал конца последней фигуры кадрили, а между тем разгадывал вопрос предположениями. «Может быть, – думал я, – они того? Но нет, эта профессия принадлежит более гусарам и вообще кавалерии, а ведь они пехотинцы, да еще с ученым кантом {117}. Нет, тут что-нибудь да не так!»
В эту минуту кадриль кончилась и вспотевший мой Виргилий подошел ко мне.
– А! каково пляшем! – проговорил он утираясь.
– Ничего, изрядно, – отвечал я рассеянно. – А вот что, – сказал я ему почти шепотом, – отчего это военных нет на бале?
– Их почти нигде не принимают, тем более в таком доме, как дом нашего амфитриона.
«Странно!» – подумал я и, подумавши, спросил: – А барышни ничего?
– Ничего.
– Таки совершенно ничего?
– Совершенно ничего.
В это время заиграл вальс, и ментор мой завертелся с какой-то аппетитною брюнеткой. А я, протолкавшися кое-как между зрителей и зрительниц, то есть между горничных и лакеев, столпившихся у растворенных дверей, вышел на террасу и думал о том, [что]
Мы подвигаемся заметно.
Бал был увенчан самым роскошным ужином и не спрыснут, не запит, а буквально был залит шампанским всех наименований. Меня просто ужаснула такая роскошь.
После ужина амфитрион предложил гросс-фатер {118}, что и было принято с восторгом счастливыми гостями.
Гросс-фатер начался и продолжался со всей деревенской простотой до самого восхода солнца.
«Красавицы, особенно красавицы вроде героинь покойного Бальзака {119}, то есть красавицы не первой свежести, не советую вам танцевать до восхода солнечного! Власть, утвержденная при свете свечей над нашим бедным сердцем, распадается при свете солнца, и обаяние, навеянное вами в продолжение ночи, сменяется каким-то горько-неприятным чувством, похожим на пресыщение. Но вы, алчные пожирательницы бедных сердец наших, в торжестве своем и не замечаете, как близится день, и могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман, разостлавшийся над болотом».
Так думал я, оставляя веселый, непринужденный гросс-фатер и пробираясь между дубами к нашему лагерю (гости не помещались в зданиях: разбивалося несколько палаток в конце сада, что и означало лагерь, или, ближе, цыганский табор). Приближаясь к палаткам, блестевшим на темной зелени, я, к немалому моему удивлению, услышал песни и хохот в одной палатке. То были друзья-собутыльники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать совершенному. Я кое-как прокрался в свою палатку, наскоро переменил фрак на блузу и скрылся в кустах орешника.
Я не знал, что к саду примыкает пруд, и мне показалося странным, когда густые, темные ветви орешника стали рисоваться на белом фоне. Я вышел на полянку, и мне во всей красе своей представилося озеро, осененное старыми берестами, или вязами, и живописнейшими вербами. Чудная картина! Вода не шелохнется, – совершенное зеркало, и вербы-красавицы как бы подошли к нему группами полюбоваться своими роскошными широкими ветвями. Долго я стоял на одном месте, очарованный этой дивною картиной. Мне казалося святотатством нарушить малейшим движением эту торжественную тишину святой красавицы природы.
Подумавши, я решился, однакож, на такое святотатство. Мне пришло в голову, что недурно было бы окунуться раза два-три в этом волшебном озере, что я тотчас же и исполнил.
После купанья мне стало так легко и отрадно, что я вдвойне почувствовал прелесть пейзажа и решился им вполне насладиться. Для этого я уселся под развесистым вязом и предался сладкому созерцанию очаровательной природы.
Созерцание, однакож, не долго длилося. Я прислонился к бересту и безмятежно уснул. Во сне повторилася та же самая отрадная картина, с прибавлением бала, и только странно – вместо обыкновенного вальса я видел во сне известную картину Гольбеина «Танец смерти» {120}.
Видения мои были прерваны пронзительным женским хохотом. Раскрывши глаза, я увидел резвую стаю нимф, плескавшихся и визжавших в воде, и мне волею-неволею пришлося разыграть роль нескромного Актеона-пастуха {121}. Я, однакоже, вскоре овладел собою и ползком скрылся в кустарниках орешника.
В одиннадцать часов утра посредством колокола сказано было холостым гостям, что чай готов (женатые гости наслаждалися им в своих номерах). На сей отрадный благовест гости потянулися из своих уединенных приютов к великолепной террасе, украшенной столами с чайными приборами и несколькими пузатыми самоварами и кофейниками. Не успел я кончить вторую чашку светлокоричневого сиропа со сливками, как грянул вальс, и в открытые двери в зале я увидел вертящихся несколько пар. «Когда же они навертятся!» – подумал я и, сходя с террасы, встретил своего Просперо {122}, который сообщил мне по секрету, что сегодняшний вечер начнется концертом, чему я немало обрадовался, хоть, правду сказать, многого и не ожидал. Я, однакоже, ошибся.
Вскоре после вечерней прогулки гости собралися кто в чем попало, то есть кто в сюртуке, кто в пальто, а кто держался хорошего тона или корчил из себя англомана, – такие пришли во фраках. А о костюмах нежного пола и говорить нечего. Это уже всему миру известно, что ни одна, в какой бы степени ни была она красавица, не задумается раз двадцать в сутки переменить свой костюм, если имеет в виду встретить толпу хотя бы даже уродов, только не своей породы. Прошу не прогневаться, мои милые читательницы, – это не сочинение, а неопровержимый факт.
Гости собрались и заняли свои места, разумеется, с некоторою сортировкой: что покрупнее, выдвинулося вперед, а мелочь (в том числе и нас, господи, устрой) поместилася кое-как впотьмах, между колоннами. Когда все пришло в порядок, явился на подмостках, вроде сцены, вольноотпущенный капельмейстер, довольно объемистой стати и самой лакейской физиономии.
– Ученик знаменитого Шпора {123}! – кто-то шепнул возле меня.
Еще миг, и грянула «Буря» Мендельсона, и, правду сказать, грянула и продолжала греметь удачно. Меня задела не на шутку виолончель. Виолончелист сидел ближе других музыкантов к авансцене, как бы напоказ (что действительно и было так). Это был молодой человек, бледный и худощавый, – все, что я мог заметить из-за виолончели. Соло свои он исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве так впору {124}. Меня удивляло одно, – отчего ему не аплодируют. Самому же мне начинать было неприлично. Что я за судья, да и что я за гость такой? Бог знает что и бог знает откуда! Что скажут гости первого разбора!
Между тем «Буря» кончилась, и я услышал произносимые вполголоса похвалы артисту такого рода: «Ай да Тарас! Ай да молодец! Недаром побывал в Италии!»
Пока оркестр строился, я успел узнать от соседа кое-что о заинтересовавшем меня артисте. Началась увертюра из «Прециозы» Вебера {125}, и я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером, и теперь я его мог лучше рассмотреть.
Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими, едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентльмен первой породы и, вдобавок, самой симпатической породы.
Когда он исполнил арию Прециозы, я не утерпел, закричал браво!и изо всей мочи стал аплодировать. Все посмотрели на меня, разумеется, как на сумасшедшего. Я, однакож, не струсил и продолжал хлопать и кричать браво!пока, наконец, воловьи глаза самого хозяина не заставили меня опомниться.
Оркестр снова строился, но я, не ожидая услышать что-нибудь лучшее, вышел из залы в сад. Ночь была лунная, теплая и спокойная. Я бродил около дому недалеко, и до меня долетали из хаоса звуков чудные звуки виолончели или скрипки, и образ грустного артиста со своею меланхолическою улыбкою носился как бы живой передо мною. «Где я его видел? Где я с ним встречался?» – спрашивал я сам себя, и, после долгого напряжения памяти, я вспомнил, что я видел его во время обеда, с рукой, обернутой салфеткой, за стулом самого хозяина.
Мне сделалося почти дурно после такого открытия.
Музыка затихла, и я пошел через леваду по дорожке, к старосветским таинственным дубам. Пройдя немного, я услышал тихий шорох шагов за собою, оглянулся и узнал преследующего меня виолончелиста. Я обратился было к нему с вопросом, но он предупредил меня, схватил мои руки и со слезами прижал их к губам своим.
– Что вы, что вы? Что с вами сделалось? – спрашивал я его, стараясь освободить руки.
– Благодарю вас! благодарю! – говорил он шепотом. – Вы! вы один-единственный человек, который слушал меня и понял меня!
Он не мог продолжать за слезами. Я молча взял его под руку и привел к дерновой скамейке, устроенной вокруг столетнего развесистого дуба.
Долго мы сидели молча, наконец он заговорил:
– Вы со мной очень милостивы.
В это время раздался голос, называвший его по имени.
– Идите в виноградную беседку, – сказал он, вставая, – я сию минуту приду к вам.
И он поспешно удалился.
Глядя вслед ему, я думал: «Вот вдохновенный миннезингер {126}XII века. Как мы недалеко, однакож, ушли от благородных рыцарей, разбойников того плачевного века! А просвещение идет себе вперед крупными шагами».
Я встал со скамьи и пошел по дорожке, ведущей к виноградной беседке. Не знаю почему, а я не надеялся услышать от него его безотрадную повесть, как это обыкновенно бывает, и я, слава богу, не совсем ошибся. Правда, он предо мной высказался даже, может быть, больше, нежели сам хотел, но то не простой наш бедный язык, которым он заговорил со мною, то были чудные, божественные звуки, в которых отразились стоны рыдающего непорочного сердца.
Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не сказав ни слова, начал настраивать инструмент и вроде пробы, как бы шутя, проиграл знаменитую каватину из «Нормы» {127}. У меня дух захватило при этих звуках.
Не отнимая смычка от струн, он заиграл одну из задушевных мазурок вдохновенного Шопена. Кончивши мазурку, он едва внятно проговорил: «Вот у нас свой бал». Проиграл он еще несколько мазурок Шопена, одну другой лучше, одну другой задушевнее.
К концу последней мазурки я заметил сквозь виноградные листья безмолвные лица многочисленных слушателей, – то были горничные, лакеи и форейторы приезжих господ. Они оставили окна, в которые глазели на немецкие танцы вымуштрованных господ и госпож своих, и пришли послушать, как Тарас играет.
Орфей мой, отдохнув немного и настроив свою лиру, повел медленно смычком по струнам, и полилася полная сердечной, сладкой грусти моя родная мелодия (на слова):
Котилися вози з гори,
А в долинi стали.
Проигравши тему, он варьировал ее на тысячу ладов, и так варьировал, что я ничего подобного в жизнь мою не слыхал, да, кажется, и не услышу никогда. Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не пошевелились и, когда он кончил свои чудные вариации, слушатели долго еще слушали, не переводя духа, разразились, наконец, общим вздохом и снова замолчали.
Я молча взял его за руки и знаком просил его выйти из беседки. Мы вышли и долго молча ходили по дорожке, как, бы боясь заговорить. Наконец, я, овладевши собой, спросил его:
– Где вы учились?
– Сначала дома.
– А потом?
– А потом барин с барыней ездили за границу и меня с собою брали, и, пока они жили в Берлине, я ходил несколько раз к Шпору {128}и больше нигде не учился.
– Да ведь Шпор играл на скрипке.
– Я на скрипке у него и учился, скрипка и есть мой настоящий инструмент, а виолончель – это уже так.
– Что же вы намерены теперь с собою делать? Ведь вы настоящий великий артист!
– А что с собою делать? Повеситься, ничего больше. – Правду сказать, я и сам не мог ему ничего лучшего предсказать.
– Прошедшего лета, – заговорил он, – приезжал к нам из Кочановки Глинка {129}, слушал мою игру на скрипке и на виолончели, хвалил меня и просил барина, чтобы отпустил меня на волю. Они обещали ему, но тем, кажется, и кончилось.
– Не унывайте, молитесь богу. Даст бог, все устроится.
– Я не отчаиваюсь. Михайло Иванович, кажется, добрый такой, – на него можно надеяться.
– Совершенно можно, если только он про вас не забыл. Напишите вы ему письмо.
– Написать-то я напишу, да как же я перешлю его? Ведь я адреса не знаю.
– Я знаю, и вы передайте письмо мне. Напишите письмо сегодня, а я завтра буду в городе и подам его на почту.
В это время мы подошли к беседке, и он спросил меня, наклонясь к виолончели:
– Не сыграть ли вам еще что-нибудь?
– Весьма вам благодарен. Вы устали, отдохните немного и приготовьте к завтрему письмо.
И мы расстались.
После ужина (перед восходом солнца), раскланявшись с хозяином и хозяйкой, я, не заходя в табор, пошел в село нанять лошадь с телегою для совершения обратного путешествия до города или хоть до почтовой станции. Но увы! во всем огромном селе ни лошади, ни телеги не оказалось. «Нечего сказать, мужики зажиточные! Пьяницы, я думаю, да лентяи по большей части, а то как бы не найтись во всем селе одной лошади с телегою! Удивительный народ наши мужики! Не припугни его, так ничего и не будет. А вас, однакож, как видно, чересчур припугнули», – подумал я, глядя на обнаженное село.
Делать нечего, отправился я к еврею в корчму и нанял у него (разумеется, за еврейскую цену) клячу на пять верст до какой-то фермы. «А там, – уверял меня еврей, – хоть четверку можно нанять до самой Прилуки».
С помощью услужливого Тараса Федоровича (виолончелиста) мы уложили кое-как свою мизерию и выехали из села по дороге в Прилуки.
– Скажите мне, что это такое за ферма, на которую он нас теперь везет? – спросил я у своего полусонного ментора.
– Ферма? Это хутор Антона Адамовича. Прекраснейшие люди, то есть он и Марьяна Акимовна! Прекраснейшие люди! Заедем, непременно заедем! Я уже их давно не видал.
– Пожалуй, заедем. Мне теперь заодно уж шляться, пока не выберусь на почтовую дорогу.
– Не будете жалеть. Антон Адамович презамечательный человек. Он, изволите видеть, начал и кончил свою службу во флоте лекарем, путешествовал раза два вокруг света, оставил службу, получает себе полный пенсион да теперь приватно занимает место домашнего лекаря у нашего амфитриона, а он ему, вдобавок, еще и хутор подарил со всеми угодьями. Чего ж еще? Живи да бога хвали!
– И давно он уже живет здесь?
– Да будет лет около десяти с небольшим.
– Что они, семейные люди?
– Нет, только вдвоем. Правда, под их непосредственным надзором воспитываются две дочери помещика – премиленькие дети, и они-то, можно сказать, и заменяют им настоящих детей. Одной, я думаю, будет уже лет около шести, а другая годом меньше.
– Что же их не видно было на бале? Ведь они, я думаю, уже качучу танцуют {130}. А это, вы знаете, такое украшение бала!
– Нет, я думаю, что они еще качучи не танцуют. И, знаете, мать хочет их воспитать в совершенном уединении и после выпустить их на свет совершенно невинных, как двух птенцов из-под крылышка. Знаете, мне эта идея чрезвычайно нравится, – нравственно-философская и, можно сказать, поэтическая идея, – как вы думаете?
– Действительно, поэтическая идея, но никак не больше. Я не подозревал, однакож, чтобы у Софии Самойловны были дети. Она еще так свежа.
– И прекрасна, прибавьте!
– Действительно, прекрасна.
В это время повстречался нам мужик и, снявши свой соломенный бриль, поклонился. И когда мы проехали мимо него, то он все еще стоял с открытой головой и смотрел на наш экипаж и, вероятно, думал: «Черт его знае, що воно таке, – чи воно паны, чи воно евреи?» – Паны, да еще из балу возвращающиеся.
Конечно, вы знаете лубочную картинку, изображающую, как евреи на шабаш поспешают. Много было общего между этою картинкою и нашим экипажем, – пожалуй, и пассажирами. Как же тут было мужику не остановиться и не полюбоваться таким величественным поездом? А надо вам сказать, что пыль не скрывала нашего великолепия, потому что мы двигалися шагом, и только наши особы торчали из глубокой еврейской брички, а сам хозяин шел пешком, погоняя свою тощую клячу.
Несколько раз до меня долетали какие-то еврейские слова, со вздохом произносимые нашим возницею. И так часто повторял он одну и ту же фразу, что я невольно ее затвердил и просил его перевести мне ее, на что он неохотно согласился, уверяя меня, что то были нехорошие слова.
– Такие скверные, – прибавил он, – что об них и думать нехорошо, а не то чтобы еще их говорить.
Когда же я ему посулил гривну меди на водку, то он, посмотревши на меня недоверчиво, сказал:
– Уни хушавке мес. По-вашему будет означать, что живой человек без денег – все равно что мертвый.
Настоящая еврейская поговорка.
Вот мы и едем себе тихонько по дорожке между прекраснейшей зелени, освещенной утренним солнцем. Роса уже немного подсохла, и кузнечики начинали в зеленом жите свой шепот, такой тихий, такой мелодический шепот, что если бы меня не укусила муха за нос, то я непременно бы заснул. Согнавши проклятую муху, я невольно взглянул вперед. Боже мой, да откуда же все это взялося? Представьте себе, из зеленой гладкой поверхности, можно сказать, перед самым [носом] выглянули верхушки тополей, потом показалися зеленые маковки верб, потом целый лес разостлался под горою, а за ним во всю долину раскинулося, как белая скатерть, тихое, светлое озеро. Прекрасная, душу радующая картина!
Я растолкал своего товарища и показал ему рукою на великолепный пейзаж.
– Это ферма Антона Адамовича. Мы тут встанем и пойдем через рощу пешком; а он пускай остановится около млынапод горою.
Сделавши наставление еврею, мы пошли к роще, но в рощу мы не так легко попали, как думали, потому что она обведена довольно широким рвом, а противоположная сторона рва была защищена живою изгородью, то есть усажена крыжовником.
Взявшись с приятелем под руки (чего я, между прочим, терпеть не могу), мы пошли вдоль изгороди, уставленной высокими роскошными тополями. Из-за тополей кое-где просвечивалась молодая березовая рощица или темнел стройный молодой дубняк; то вдруг стройный ряд тополей прерывался усевшимся над самым рвом старым дубом, протянувшим свои живописные ветви далеко за ров, на самую дорогу.
Пройдя добрые полверсты, мы дошли до угла изгороди и поворотили влево по тропинке, идущей параллельно со рвом под гору. При этом повороте нам открылося во всей красе своей тихое, светлое озеро, окаймленное густым зеленым камышом и раскидистыми огромными вербами. Подойдя к озеру, мне так и хотелося окунуться раза два-три в его прозрачной воде. Но вожатый мой заметил мне довольно основательно, что подобное действие было бы неприлично, тем более что в это время мы подошли к воротам парка, осененным двумя старыми вербами. Мы без труда отворили ворота и вошли в парк. Длинная тенистая дорожка вела к дому, вдали белеющему сквозь ветви. Не доходя до дома, мы в стороне, недалеко от дороги, между деревьями, увидели человеческую фигуру в белой полотняной блузе, в соломенной простой шляпе и с сигарою в [зубах].
– Антону Адамовичу имеем честь кланяться! – закричал мой вожатый.
Фигура в блузе приподняла шляпу и, вынувши сигару изо рта, сказала:
– Добро пожаловать!
Мы подошли друг к другу поближе. Это был сам хозяин парка, или фермы, свежий, коренастый старик самой немецкой физиономии. Я был отрекомендован моим разбитным путеводителем со всеми прилагательными, на что Антон Адамович с добродушной улыбкой протянул мне руку и проговорил:
– Очень рад.
Я со своей стороны проговорил тоже какую-то лаконическую вежливость, и мы вышли снова на дорогу. Не успели мы ступить несколько шагов, как к нам выбежали из-за куста цветущей душистой черемухи две белокурые прекрасные девочки лет по пяти или шести и бросились к Антону Адамовичу, крича:
– А что, испугали, испугали!
Антон Адамович молча указал им рукою на нас, и девочки оставили его и спряталися за куст черемухи.
Тем временем мы вышли на зеленую площадку, примыкающую одной стороной к озеру, а другой к крылечку чистенького беленького домика, кругом усаженного кустами сирени.
Дивное впечатление произвела на меня эта тихая грациозная картина!
Вслед за нами девочки выбежали на лужок, а из дома на крылечко [вышла] молодая, прекрасная собою женщина, с книгою и с зонтиком в руке, и пошла к детям. Это была гувернантка-француженка, как я после узнал.
Мы вошли на крылечко, и хозяин предложил нам отдохнуть в тени, а сам пошел в дом.
Я на досуге залюбовался на детей, играющих на зеленом лужке, и, правду сказать, на стройную, величественную фигуру прекрасной гувернантки, залюбовался до того, что не заметил, как к нам вышла на крылечко сама хозяйка.
Я, поклонившись, извинился в своей рассеянности.
– Ничего, ничего, любуйтесь. У нас, слава богу, есть на что полюбоваться.
И она лукаво улыбнулась и обратилась к моему товарищу. Тот начал было рекомендовать меня, но она ему сказала нецеремонно:
– Не беспокойтесь, мне уже Антон Адамович отрекомендовал. А вы лучше расскажите, каково вы повесе лились на бале.
И приятель мой пустился описывать ей бал, а я тем временем стал рассматривать нецеремонную хозяйку дома.
Это была лет тридцати пяти по крайней мере, прекрасно сохранившаяся брюнетка, с большими выразительными карими глазами, с довольно свежим для ее лет румянцем на полных щеках, со вздернутым носом, с прекрасными белыми крупными зубами и с едва отвисшим подбородком. А в целом она была настоящий тип малороссиянки. Даже голос ее, и особенно произношение, напоминал мне мою землячку, какую-нибудь чиновницу средней руки или высокой руки протопопшу, несмотря на то что она была одета, как настоящая барыня.
– А ну-те вас с вашим балом! – проговорила она скороговоркой, остановилася в дверях, да и затараторила:
– Прошу покорно в покои! Вы хоть из балу сегодня, а, верно, еще чаю не пили. Правду сказать, и мы еще только что поднялися.
Я пошел вслед за хозяйкою, а товарищ мой, как человек, знакомый с местностью, пошел отыскивать еврея и распорядиться насчет помещения.
В первой комнате, довольно большой, встретил нас Антон Адамович, уже не в полотняной блузе, а в сером пальто из летнего трико, и просил меня садиться без церемонии.
– А вы, Марьяна Акимовна, пошлите свою Ярину просить к завтраку Адольфину Францевну с детьми.
На зов Марьяны Акимовны явилась горничная, скромная и миловидная, в деревенском костюме и, получивши приказание от Марьяны Акимовны на чистом малороссийском языке, вышла из комнаты.
Через несколько минут вошла в комнату гувернантка с двумя девочками, а за нею и мой товарищ. И все мы уселись вокруг стола, увенчанного изрядным самоваром. Если бы я не знал, чьи это были дети, то я подумал бы, что Марьяна Акимовна была им настоящая мать, – так мило, так матерински мило она ухаживала за ними. И, к немалому моему удивлению, она, обращаясь к гувернантке, разговаривала с нею по-французски. «Вот тебе и чиновница средней руки! Вот тебе и протопопша высшей руки!» – подумал я. Я был просто очарован Марьяной Акимовной, и если б она обращалась к своей Ярине (кажется, единственной прислуге) хоть на великороссийском диалекте, то я подумал бы, что я имею счастье видеть перед собою по крайней мере графиню или хоть просто даму высшего полета.
Такова сила предубеждения против своего родного наречия.
За чаем я случайно узнал имена двух девочек; одну, кажется старшую (потому что они обе одинакового роста), звали Лизой, а другую Наташей. И так они были похожи одна на другую, что, пересади их с места на место, то и не знал бы, которая из них Лиза, а которая Наташа. А обе они были чрезвычайно похожи на свою милую маменьку.
Хозяйка, между прочим, обратилась ко мне и спросила, понравился ли мне концерт в Дигтярях.
– Ведь уж, верно, там не обошлось без концерта? – прибавила она.
Я отвечал утвердительно.
– А каков виолончелист? Не правда ли, прекрасный?
– Превосходный! – отвечал я.
– Это наш большой приятель, и, кроме того, что он артист превосходный, нужно знать, что он и человек самого нежного, самого благородного сердца. Но что будешь делать? – прибавила она со вздохом.
– Лиза и Наташа плачут, когда не видят его два дня сряду, а про Адольфину Францевну и говорить нечего, – сказала она шутя и поцеловала гувернантку в загоревшуюся щеку, из чего я заметил, что она понимает по-русски.
Мне было чрезвычайно приятно слышать подобный отзыв о человеке, которого я с одного разу полюбил, как что-то близкое моему сердцу.
После чая Антон Адамович обратился к нам и просил в свою хату.
– Я к ним только в гости захожу, а хата моя там, в саду. – И он взялся за свою шляпу. Мы последовали его примеру.
Белая, соломой крытая хата, к которой нас привел Антон Адамович, стояла между фруктовыми деревьями и служила кабинетом Антону Адамовичу и вместе караульней. Чисто немецкая штука.
Хата Антона Адамовича, как вообще малороссийские хаты, разделялася сенями на две половины: собственно на хату с комнатою и на так называемую комору. В коморе, освещенной одним окном, помещалась у него аптека и библиотека, в сенях – лаборатория. Это можно было заключить из стоявшего на широком камине алембика {131}, реторты и стеклянных и глиняных банок. Стены светлицы, или кабинета, были украшены луками, стрелами, томагауками и другими орудиями дикарей, что и свидетельствовало о кругосветном странствовании Антона Адамовича.
Около стен стояло две кушетки, а между ними, у стены, простой дубовый стол и на нем электрическая машина.
– Не угодно ли будет отдохнуть с дороги, а я пока наведаюсь в Дигтяри: ведь я их домашний медик. До свидания!
И он оставил нас в своем кабинете совершенными хозяевами.
– Не думал я, отправляясь на бал, попасть в кабинет ученого путешественника и, вдобавок, путешественника скромного, – подумал я вслух, когда мы остались одни.
– Да это что еще! – сказал мне товарищ. – Вы загляните в комнату, – вот где редкости!
И действительно редкости! Во всю длину комнаты, около стены, дубовый широкий стол уставлен разнообразнейшими и красивейшими раковинами тропических морей, а посередине стола, как раз против окошка, плоский ящик в аршин длины и ширины со стеклянной крышкой, заключавший в себе нумизматические редкости Антона Адамовича.
Между разной формы и величины монет я увидел австрийский талер XVII века с глубоко вдавленным клеймом, изображавшим московский герб.
– Не правда ли, любопытная монета? – сказал мне товарищ, указывая на талер, – или, лучше сказать, любопытное клеймо.
– Но что оно значит, это клеймо? – спросил я его.
– А вот, изволите видеть, когда в тысяча шестьсот пятьдесят четвертом или пятом году ходил наказным гетманом Иван Золоторенко с полками малороссийскими добывать Смоленска московскому царю, то, не знаю почему-то, наши казаки не захотели брать жалованья московскою монетою, вот им и выдали австрийскими талерами, положивши московское тавро на каждый талер.
Налюбопытствовавшись редкостями Антона Адамовича, я вышел в сад, оставивши своего товарища помечтать наедине, то есть маленько приуснуть.
Я обошел весь сад, или, лучше сказать, парк, и не мог довольно налюбоваться прелестью деревьев, чистотою дорожек и вообще истинно немецкой аккуратностию, с какой все это содержится. Например, у кого вы увидите, кроме немца, чтобы между фруктовыми деревьями были посажены арбузы, дыни и даже кукуруза? В Германии это понятно, но у нас это просто непостижимо.
Из сада вышел я на греблю, усаженную вербами. Полюбовался чистенькой, аккуратной мельницей об одном шумящем колесе и, пройдя плотину, я очутился в селе.
Село всего-навсе, может быть, хат двадцать. Но что это за прелесть! Что ни хата, то и картина!
«Вот, – подумал я, – и не великое село, а весело». Попробовал я у встретившегося мужика спросить, можно ли будет нанять у них лошадей до Прилук.
– Можна, чому не можна, – хоть пару, хоть дви пары, так можна!
– Хорошо, так я зайду после, поторгуюсь.
– Добре, поторгуйтесь.
За селом я увидел панскую клуню, или господское гумно, уставленное скирдами разного хлеба. Подходя к гумну, я встретил токового, и он показал мне подведомственный ему ток, или гумно. Я, как не агроном, то и смотрел на все поверхностно и расспрашивал тоже поверхностно, и из всего виденного и слышанного мною заключил, что не мешало бы записным агрономам поучиться кой-чему у Антона Адамовича или хоть у его токового. Насчет винокурни, когда спросил у него, почему, дескать, Антон Адамович, имея столько хлеба, не построит себе винокуренку, хоть небольшую, [токовой ответил]:
– Бог их святый знае. Я и сам им говорил, чтобы построить хоть небольшую. «Зачем, говорит, чтобы пьяниц голых пускать по свету? Не нужно!» Они у нас такие чудные, и, боже сохрани, как они того проклятого вина не любят.
– Действительно, странный человек. Ну, а мужики у вас в селе есть-таки пьющие?
– Ни одного.
– Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб?
– А куда сбываем? Никуда больше, как у Дигтяри. Видите, паны там банкетуют, а мужики голодают. Да еще мало того, в селе, кроме корчмы, что ни улица, то и шинок, а в каждом шинке, для приману людей, шарманка играет. Вот мужик бедный и пропивает последнюю нитку под немецкую музыку. Сказано, мужик дурак.
«Зато паны умудрилися. О, филантропия!» – подумал я и простился с токовым.
Подходя к гребле, я невольно остановился полюбоваться старыми вербами, опустившими свои длинные зеленые ветви в светлую прозрачную воду. А из-за этих роскошных ветвей, с противоположной стороны пруда, выглядывает из темной зелени беленький, улыбающийся домик Антона Адамовича, и, как красавица любуется своею прелестью перед зеркалом, так он любуется собою в прозрачном тихом озере.
«Благодать!» – подумал я и пошел через греблю к кокетливому домику.
К этому времени Антон Адамович возвратился от своих пациентов и, к великой моей радости, привез с собою милого моего виртуоза – и с виолончелью. Мы встретилися с ним при входе в сад и дружески приветствовали друг друга, как самые старые знакомые.
К нам подошла Марьяна Акимовна, нецеремонно взяла меня за руку и сказала:
– Вы должны быть благороднейший человек, коли полюбили нашего милого Тараса Федоровича. От души вам благодарна.
Я молча поцеловал ее руку. В это время подходил к нам Антон Адамович.
– Посмотри, посмотри, что наш гость делает! – сказала она, обращаясь к мужу.








