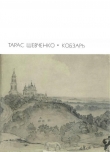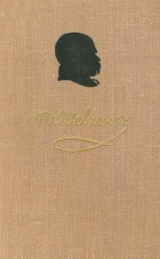
Текст книги "Драматические произведения. Повести."
Автор книги: Тарас Шевченко
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Раз зашли мы в одну хату. О! я этой хаты, пока живу на свете, не забуду! Отворили мы двери, – на нас так и пахнуло пусткою. Входим и видим: посередине хаты на полу лежат двое худых-прехудых детей, только одни колени толстые. Одно уже совсем скончалося, а другое еще губками шевелит, а около них сидит мать, простоволосая, худая, бледная, в разорванной рубахе и без запаски. А глаза у нее, – господи, какие страшные! и она ими не смотрит ни на детей, ни на кого, а так, бог знает на что смотрит. Когда мы остановились на пороге, она как будто взглянула на нас и закричала: «Не треба! не треба!! хлиба!» Я вынула из мешка кусок хлеба и подала ей. Она молча обеими руками схватила его, задрожала и поднесла к губам умершего дитяти и потом захохотала. Мы вышли из хаты.
– Да, ты-таки, Микитовна, видела на своем веку багато дечого! – говорил хозяин, с участием глядя на старушку.
– И не говорите, Степановичу! Не приведи господи никому того видеть, что я видела.
– Господь его милосердный знает, – продолжал хозяин, обращаясь ко мне, – как это воно все мудро да хитро устроено на свете! Я про себя скажу: меня эти проклятые голодные годы просто на ноги поставили. У меня своего хлеба-таки было довольно, да у людей еще прикупил, как будто знал, что будут неурожаи. Вот как настал голодный год, ко мне все и сунулись за хлебом. Я хотя и вчетверо продавал дешевле, нежели паны евреям продавали, а все-таки выручил порядочную копейку. Чумаки мои одну зиму зимовали с худобоюна Дону, а другую перезимовали за Днестром, а там голоду не було; волы, слава богу, и чумаки вернулыся живи и здорови, да еще и соли и рыбы мени привезлы, а хлиб святый дома проданый. Вот у меня и гроши, и скотина, слава богу, жива и здорова. Так и бог его знает, как это воно так делается на свете, так дивно! – прибавил он, обращаясь к рассказчице.
– Такой уже ваш талан, Степановичу, – сказала она вздыхая. – За то вам и господь посылает, что вы в нужде людей не оставляете! Вот хоть бы и я теперь, если бы не вы, куда бы я приклонилася с этою бедною сиротою? Хоть с горы та в воду…
– Господь с вами, Микитовна! Мы свои люди. С кем же нам делиться, как не с вами? А тым часом продолжайте, Микитовна, а то, може, нашому гостеви и заснуть треба, – говорил он, на меня поглядывая.
– Кое-как прошло лето, – продолжала старушка. – Осени мы и не видели, разом наступила зима – да лютая такая, да жестокая: и холод, и голод разом посетил нас. Лес, ободранный весь, высох, а князь, наш хозяин, запретил его на дрова рубить. «Кто, говорит, хоть веточку срубит, того, говорит, в гроб вгоню. Лес славный, сухой, летом примусь, говорит, палаты себе строить. Я люблю простор, мне нужен дворец, а не лачуга хохлацкая, в которой я теперь гнезжуся, как медведь в берлоге!» И люди бедные и мерзли, и мерли. А что с ним будешь делать? Сказано – пан, что хочет, то и делает.
На первой неделе филипповки {95}разрешилась она, бедная, от бремени и не хотела взять мамку, а сама кормила свое дитя. Вскоре после крестин поехал он в Козелец к товарищам и прогостил у них целую неделю. Отдохнули мы без него немного, слава богу. Только ночью, мы уже спать легли, приезжает он, ломится в двери да кричит. Я вскочила, отворила дверь, достала огня, только смотрю, какая-то женщина с ним, в картузе и офицерской шинели. Как крикнет он на меня: «Что ты, – говорит, – глаза вытаращила? Пошла вон, дура!» Я и ушла в свою комнату.
На другой день, за чаем, он сказал Катрусе:
– Знаешь, душенька, какой сюрприз мне сделала сестрица? Не написавши мне ни слова, что хочет с тобою лично познакомиться, взяла да и приехала, как говорится, не думавши. Такая, право, ветреница! И вообрази себе, на перекладных ведь приехала, – настоящая гусар-баба. Просто одолжила! Вчера, вообрази себе, подхожу я к почтовой станции, смотрю, тройка у ворот стоит совсем готовая. Я остановился: дай, думаю, посмотрю, кто такой поедет. Только смотрю, выходит дама. Я, знаешь, так того… ты прости меня, душоночек, – проклятая привычка! Смотрю… и представь себе мой восторг! – это была моя сестра. Тут мы, разумеется, бросились в объятия друг другу.
– А я и не знала, что у тебя есть сестра, – проговорила Катруся.
– Как же, есть, и не одна, а две. Одна замужем за графом Горбатовым, та постоянно живет в столице при дворе; она бы тоже ко мне прикатила, но, знаешь, нельзя, она слишком заметна при дворе. Я тебе, душенька, свою сестрицу сейчас представлю.
Как полотно побледнела моя бедная Катруся: она, верно, бесталанная, догадалась, какая это будет сестрица. Через минуту он ввел под руку женщину, не знаю – молодую, не знаю – старую, за белилами та румянами нельзя было узнать.
– Рекомендую тебе, душенька: княжна Жюли Мордатова.
И она вертляво поклонилась, проговорила что-то, не знаю – по-русски, не знаю – по-польски, – я ничего не разобрала, да Катруся, думаю, тоже, потому что она ей и головою не кивнула, а только побледнела пуще прежнего.
– Ты извини ее, друг мой: она у меня еще институтка, по-русски почти слова не выговорит, а в высшем кругу в русском языке никакой нет надобности. Да я про себя скажу, – я до двадцати лет не умел по-русски двух слов сказать. У нас в Грузии почти все равно, что и в столице – никто по-русски не говорит, – все пофранцузски. Такая мода, мой друг! Мы и свою крошку в столицу в институт пошлем, не правда ли?
Катруся не могла долее вытерпеть. Она молча встала и ушла в детскую, и я ушла за нею. А Катерина Лукьяновна осталася одна со своими князьями. Я была бы счастлива, Степановичу, если бы я забыла то, что у нас творилося в доме. Но бог меня, не знаю, за что, памятью покарал.
После этой проклятой сестры я ни на одну минуту не оставляла моей Катруси, да и она, моя бесталанница, с той поры ни шагу не выступала из своей комнаты. Господи! Святая Катерино великомученице, страдала ли ты так, как она, моя бедная Катруся, страдала? Бывало, день плачет, ночь плачет. Я уже не знала, что с нею и делать. Вот она плакала, плакала, да и начала уже в уме мешаться. Я хотела было ребенка отнять от груди, нет, не дает: «Умру, говорит, с ним вместе, пускай меня в одну трунуположат с ним, пускай, что хотят, делают, а его я никому не отдам!» Что же мне было делать с нею? Я так и оставила дитя; смотрю только, бывало, да плачу. Катерина Лукьяновна тоже, бывало, зайдет в нашу комнату, посмотрит на свою княгиню и хоть была гордая, но заплачет и выйдет из комнаты.
А тут же рядом в других комнатах песни да музыка, точно в корчме на перекрестном шляху, а еврейка Хайка, что князь назвал своею сестрицею, так и носится с драгунами, и поет, и пляшет, и всякие фигуры выделывает, отвратительная, – даже трубку курила!
Катруся, моя бедная, сначала показывала вид, что ничего не видит и не слышит; а после уже ей, сердечной, невмоготу стало, да что станешь делать с таким иродом? У нашей сестры, сказано, одни слезы, ничего больше не осталось. А слезы что? Вода! Ох! Не одну реку пролила она этой горькой воды! А он, как ни в чем не бывало, зайдет к ней иногда, да еще спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?» Как будто ослеп, – прости ты меня, господи, – не видит, что ее, бедную, едва ноги носят. «Не послать ли, друг мой, в Козелец за полковым штаб-доктором?» – «Не нужно», – скажет она, да и замолчит. «Ну, как знаешь; это твое дело, а не мое. Я в твои дела, друг мой, никогда не мешаюсь», – скажет, бывало, и уйдет, хлопнувши дверью.
Только мы и свет божий видели, когда, бывало, он уедет куда-нибудь недели на две, на три к своим товарищам драгунам. Тогда мы без него вымоем, выскоблим полы и выветрим немного покои, а то просто конюшня конюшнею. Раз он тоже ночью приехал и привез с собою другую сестру, уже не еврейку, а полячку или цыганку, кто ее знает, – помню только, что была черная, – и хотел тоже рекомендовать Катрусе, только она его и в комнату не пустила.
Зима уже близилась к концу. Как раз на середокрестной мужики наши, собравшися громадою, пришли к нему просить зернового хлеба для посеву. Что ежели, говорят, бог уродит, то они ему его добро возвратят седмерицею. Куда тебе! И выговорить слова не дал, прогнал их, бедных, да еще и собаками притравил. Хотела было вступиться за них сама Катерина Лукьяновна, да как он гаркнет на нее: «Молчать! – говорит. – Не ваше дело: я сам знаю, что делаю. Я в ваши чепцы да кофты не мешаюсь, так прошу не вмешиваться и в мои распоряжения». – Сказавши это, кликнул своего Яшку и велел закладывать тройку, чтобы ехать куда-нибудь к своим драгунам.
Когда он уехал, Катерина Лукьяновна пошла в клуню, чтобы выбрать полускирдок жита и пшеницы, да и велеть смолотить мужичкам для семян: она думала, что он по своему обыкновению долго проездит. Посмотрела около клуни и половины скирд хлеба не досчитала. «А куда же все это делося?» – спрашивает она у токового. А токовой отвечает, что сам князь по частям всё евреям продавал, да половину уже и продали: и солому и полову– все продали евреям, а евреи, разумеется, солому – драгунам, а полову (мякину) – нашим же мужикам, а они, бедные, и полове были рады! Катерина Лукьяновна выбрала одну скирду жита, а другую – пшеницы и велела мужикам молотить. «Только поскорее, говорит, молотите, а то приедет князь, так он не даст вам ничего». Так и сталося! На другой день, только что начали молотить, глядь! – въезжает сам на двор. «Что вы делаете, мошенники? – крикнул на них. – Как вы посмели? Кто вам приказал? Я вас!» – да как выхватил нагайку у кучера или у Яшки, да как принялся молотниковмолотить, так что ни одного на току не осталось, – все разбежалися. Досталось же и Катерине Лукьяновне за эту молотьбу! Она, бедная, три дня с постели не вставала!
После этого он уже все дома банкетовал, никуда не ездил, аж до зеленых свят. А на самой зеленой неделе и выехал он куда-то со своим Яшкою. Катерина Лукьяновна опять послала за мужиками и велела им намолотить хоть сколько-нибудь ярового хлеба для посева, потому что, благодаря бога, дожди перепали и земля-таки порядочно позеленела. Только что принялися они молотить просо и гречиху, как в тот же день возвращается он сам, а за ним видимо и невидимо драгуния, как орда тая за Мамаем валит. Кто на мужицком возу, а кто так просто без седла верхом, а денщики – те, бедные, пешком и босиком, только с трубкою да кисетом в руках плелися за своими драгунами.
Как только что на порог он вступил, кликнул своего Яшку и приказал ему, чтоб к трем часам был готов обед на пятьдесят персон, к трем часам непременно, а ужин ввечеру на сто персон, тоже чтоб был готов непременно. «Для обеда и для ужина стол накрой в саду: полно, говорит, в этой конюшне валяться, Теперь можно и на подножный выйти». А червонцами так и гремит в карманах. «Да слушай, говорит, скажи приказчику, чтобы завтра всех мужиков выгнал хлеб молотить. Нужно весь перемолотить, сколько его ни есть». Вот тут-то мы и догадались, откуда у него червонцы взялись. «Неужели он весь хлеб продал? – говорит Катерина Лукьяновна. – Что же люди бедные посеют?»
А драгуния тым часом со всею своею мизериею, не заходя в покои, отправилася прямо в сад и покотом на траве лежала и сквернословила да трубки курила, пока он не велел вынести им водку. Все стулья и столы тоже в сад вынесли. Велел было из спальни все забрать, да мы замкнулись и не пустили его к себе. Он выругался за дверью по-своему, по-московскому, и оставил нас в покое. Пока приготовляли обед, драгуния гуляла по саду и пила водку, расставленную чуть ли не под каждым деревом в больших графинах, а другие гости тоже пили водку и в карты играли. Наш князь с ними тоже пил и играл в карты, и все червонцы, что получил от еврея как задаток за хлеб, проиграл, потому что бросил на землю карты и вышел из-за стола, а товарищи его захохотали. Все это я в окно видела.
Смеркало уже, когда Яшка с другими денщиками начали накрывать на стол. Поставили столы, а на столы положили длинные доски, простые дубовые доски, и покрыли их холстом, потому что у нас хоть и была длинная скатерть, но Катерина Лукьяновна не дала ее, чтобы не испортили иногда пьяные гости, а скатерть была дорогая. Поставили на столе в трех местах свечи, а чтоб светлее было, то по концам длинного стола зажгли смоляные бочки. И только что вся драгуния села за стол, откуда ни возьмись, полковые трубачи, да как грянут, так только земля задрожала! Не успели они и одного марша проиграть, смотрю, клуня наша загорелась: смоляные бочки так и сыплют искры на скирды и на клуню, а гости смотрят и, звычайне, пьяные, знай хохочут, да кричат ура!
– Катрусю, – говорю, – серце мое, посмотрите, – говорю, – клуня наша горит, что мы будем делать? – Смотрю, а она – неживая. Я к Катерине Лукьяновне, и та без чувств лежит. Я на нее брызнула холодной водой, она очнулася. «Спасайте, говорю, Катрусю с младенцем, а то сгорит. Скирды уже все загорелися, скоро дойдет и до дома». Насилу-то, насилу мы ее в чувство привели, взяли ее под руки и вывели из дому. Я хотела было дитя взять у нее, но она его из рук не выпускала и только шептала: «Не дам, никому не отдам, сама его похороню». Мы испугалися, она как-то страшно все это шептала. Мы повели ее через греблю, прямо к вам, Степановичу, в хату Дай вам бог доброе здоровье, – сказала она, обращаясь к хозяину, – и уже из вашей хаты я видела это проклятое пожарище.
И господь его знает, откуда тот ветер взялся. Снопы так прямо и летели на будынокиз скирд, а потом ветер как будто переменился, тогда загорелися будынки, и поворотил прямо на хаты. Через минуту все село запылало. «Пропали мы», – говорю я моий Катруси; а она, моя бедная, лежит, только головою мне кивает и языка во рту не поворотит. «Катрусю! Катрусю!» – кричу я, – не слышит. Я стою ни жива ни мертва. «Катрусю!» – едва проговорила я. Она вдруг вскочила, посмотрела вокруг себя, да как бросит своего бедного ребенка на пол и как закричит не своим голосом, да и ну на себе волосы рвать. Я вижу, что она не в своем уме, взяла дитя и вынесла в другую хату, и ее, бедную, мы с Степановичем кое-как уласкали, да завернули ее в рядно(в простыню), да и стали лить ей холодную воду на голову. Она пришла в себя, да и говорит: «Не буду, не буду!» А что и чего не буду, – она и сама не знала, что говорила. Потом она захохотала, потом начала петь, а потом запела, да так жалобно, так страшно запела, что мы выбежали из хаты. Так она, бедная, промучилася до самого рассвета. Перед зарницею она немного успокои-лася, а я тем временем села у окна и смотрела, как наше бедное село догорает. Над ним кое-где только дым дымился, ничего не осталось! И дом, и клуня, и село – все пропало. Осталися одни дымари да печи от господского дому, а от мужичьих хат и того не осталось, потому что у них не каменные. Остался только сад, почерневший от дыму. Стоит себе в стороне, да такой черный и страшный, что я и смотреть на него боялася.
Заплакала я, грешная, глядя на это пожарище: что будешь делать? На все его святая воля. Разбудила я Катерину Лукьяновну и говорю ей: «Что же мы теперь будем делать? Где мы приютимся? Куда мы денемся с нашею бедною Катрусею?» – «А что?» – говорит она. «А то, – говорю я, – что она не в своем уме, что она помешалася». – «А ребенок?»– говорит она. «Ребенка, – говорю я, – я от нее отняла, а то она его чуть не задушила». Вскочила она и, простоволосая, выбежала на двор и кричит, чтобы бричку скорее заложили. Только видит, что двор чужой, – она и замолчала, посмотрела на ту сторону гребли, ахнула, затрепетала и, как неживая, упала ко мне на руки. Когда пришла в себя, то сказала: «Где же княгиня? (Она всегда ее так называла.) Покажи мне ее». Мы пошли в комору, где была заперта Катруся. Когда мы вошли к ней, то она, бедная, сидела на полу в одной рубашке и с растрепанной косою, и вся, как огонь, горела, несмотря на то, что в коморе было довольно-таки холодно. В руках держала она свое искомканное платье и прижимала его к груди своей. Когда мы вошли, она взглянула на нас и шепотом сказала: «Спит». Мы вышли из коморы. Страшно было смотреть на нее, бедную, а Катерина Лукьяновна, как ни в чем не бывало, и не вздохнула даже, а не кто другой, как она сама, всему причина. Не осуди ее, господи, на твоем праведном суде!
Помолчавши немного, она обратилася ко мне и сказала: «Марино! нужно достать где-нибудь экипаж и лошадей да отвезти ее в Чернигов или в Киев. До Киева, кажется, будет ближе, но где же мы лошадей и экипаж достанем? Хоть бы бричку какую-нибудь». – «А лошадей, – говорю я, – нам и Степанович даст. Только брички у него нет, а простая мужицкая повозка есть». – «Попроси, – говорит она, – хоть простой повозки».
Я выпросила у Степановича, спасибо ему, и коней и повозку. Наложили мы в повозку сена да покрыли рядном и положили ее, бедную, в повозку; около нее села сама Катерина Лукьяновна, да и повезли ее в Киев, в Кирилловский монастырь {96}. Вот тебе, Катерина Лукьяновна, и княгиня. Теперь любуйся ею!
Старушка замолчала и тихо заплакала, а хозяин прибавил:
– Да, таки нечего сказать, хорошая княгиня!
– А что же сталося с князем? – спросил я.
– А господь его знает! – отвечала старушка. – Перед великоднем драгуния выступила в поход из Козельца, то, может быть, и он выступил с нею. Только мы его с той ужасной ночи уже не видали.
– И князь хороший, нечего сказать! – прибавил хозяин. – Хоть бы дитя проведал, проклятый!
– Господь с ним, Степановичу! Пускай лучше не проведовает, – сказала старушка и, выходя из хаты, пожелала нам спокойной ночи.
На другой день поутру, пока еврейчик мой подмазывал бричку и закладывал своих тощих лошадей, я сидел под хатою на призьбе и смотрел на противоположный берег Трубежа, на грустные остатки погоревшего села, невольно восклицая: – Вот тебе и село! Вот тебе и идиллия! Вот тебе и патриархальные нравы! – И тому подобные восклицания срывались у меня с языка, пока бричка не высунулась на улицу. Поблагодарив хозяина за его бескорыстное гостеприимство, я отправился своей дорогой.
Через несколько дней я был уже в Киеве и, поклонившись святым угодникам печерским, в тот же день посетил Кирилловский монастырь. И увы! лучше было б не посещать его. Я слишком убедился в горькой истине печального этого рассказа, так неотрадно приветствовавшего меня на моей милой родине.
1853
К. Дармограй
Музыкант {97}
Если вы, благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то, проезжая город Прилуки {98}Полтавской губернии, советую вам остановиться на сутки в этом городе, а если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток, и, во-первых, познакомьтеся с отцом протоиереем Илиею Бодянским {99}, а во-вторых, посетите с ним же, отцом Илиею, полуразрушенный монастырь Густыню {100}, по ту сторону реки Удая, верстах в трех от города Прилук. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Это настоящее Сенклерское аббатство {101}. Тут всё есть: и канал глубокий и широкий, когда-то наполнявшийся водою из тихого Удая, и вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами, и бесконечные склепы, или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю, между огромными суховерхими дубами, быть может, самим ктитором насажденными. Словом, все есть, что нужно для самой полной романической картины {102}, разумеется под пером какого-нибудь Скотта Вольтера или ему подобного списателя природы. А я… по причине нищеты моего воображения (откровенно говоря) не беруся за такое дело, да у меня, признаться, и речь не к тому идет. А то я только так, для полноты рассказа, заговорил о развалинах Самойловичева памятника.
Я, изволите видеть, по поручению Киевской археографической комиссии, посетил эти полуразвалины {103}и, разумеется, с помощью почтеннейшего отца Илии, узнал, что монастырь воздвигнут коштоми працеюнесчастного гетмана Самойловича в 1664 году {104}, о чем свидетельствует портрет его, яко ктитора, написанный на стене внутри главной церкви.
Узнавши все это и нарисовавши, как умел, главные, или святые, ворота, да церковь о пяти главах, Петра и Павла, да еще трапезу и церковь, где погребен вечные памяти достойный князь Николай Григорьевич Репнин {105}, да еще уцелевший циклопический братский очаг, – сделавши, говорю, все это, как умел, я на другой день хотел было оставить Прилуки и отправиться в Лубны осмотреть и посмотреть на монастырь, воздвигнутый набожною матерью Иеремии Вишневецкого Корибута. Сложил было уже всю свою мизерию в чемодан и хотел фактора Лейбу послать за лошадьми на почтовую станцию, только входит мой хозяин в комнату и говорит:
– И не думайте и не гадайте, вы только посмотрите, что на улице творится.
Я посмотрел в окно, – и действительно, вдоль грязной улицы тянулося две четырехместные кареты, несколько колясок, бричек, вагонов, разной величины {106}и, наконец, простые телеги.
– Что все это значит? – спросил я своего хозяина.
– А это значит то, что один из потомков славного прилуцкого полковника {107}, современника Мазепы, завтра именинник.
Хозяин мой, нужно заметить, был уездный преподаватель русской истории и любил щегольнуть своими познаниями, особенно перед нашим братом ученым.
– Так неужели весь этот транспорт тянется к имениннику?
– Э! Это только начало, а посмотрите, что будет к вечеру: в городе тесно будет.
– Прекрасно. Да какое же мне дело до вашего именинника?
– А такое дело, что мы с вами возьмем добрых тройку коней, да и покатим чуть свет в Дигтяри {108}.
– В какие Дигтяри?
– Да просто к имениннику. – Я ведь с ним не знаком!
– Так познакомитесь.
Я призадумался. А что, в самом деле, не махнуть ли по праву разыскателя древностей полюбоваться на сельские импровизированные забавы? Это будет что-то новое. Решено! И мы на другой день поехали в гости.
Начать с того, что мы сбились с дороги, не потому что было еще темно, когда мы выехали из города, а потому что возница (настоящий мой земляк!), переехавши через удайскую греблю, опустил вожжи, а сам призадумался о чем-то, а кони, не будучи глупы, и пошли роменскою транспортной дорогой, разумеется, по привычке. Вот мы и приехали в село Иваницу; спрашиваем у первого встретившегося мужика, как нам проехать в Дигтяри?
– В Дигтяри? – говорит мужик. – А просто берйть на Прилуку.
– Как на Прилуки? Ведь мы едем из Прилук.
– Так не треба було вам и издыть с Прилуки, – отвечал мужик совершенно равнодушно.
– Ну как же нам теперь проехать в Дигтяри, чтобы не возвращаться в Прилуки? а? – спросил я.
– Позвольте, тут где-то недалеко есть село Сокирынцы, тоже потомка славного полковника. Не знает ли он этого села?
– А Сокирынци, земляче, знаешь? – спросил я у мужика.
– Знаю! – отвечал он.
– А Дигтяри от Сокирынец далеко?
– Ба ни.
– Так ты покажи нам дорогу на Сокирынци, а там уж мы найдем как-нибудь Дигтяри.
– Ходим за мною, – проговорил мужик и пошел по улице впереди нашей удалой тройки.
Он повел нас мимо старой деревянной одноглавой церкви и четырехугольной бревенчатой колокольни, глядя на которую, я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга {109}«Освящение пасок», и мне грустно стало. При имени Штернберга я многое и многое вспоминаю.
– Оце вам буде шлях просто на Сокирынци! – го ворил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестевшую между густой зеленой пшеницей.
Замечательно, что возница наш в продолжение всей дороги от Прилук и до Иваницы и во время разговора моего с мужиком все молчал и проговорил, только когда увидел из-за темной полосы леса крытый белым железом купол:
– Вот вам и Сокирынци! – и опять онемел. Это общая черта характера моих земляков. Земляк мой, если что и впопад сделает, так не разговорится о своей удали, а если, боже сохрани, опростофилится, тогда он делается совершенно рыбой.
В Сокирынцах мы узнали дорогу в Дигтяри и поехали себе с богом между зеленою пшеницею и житом.
Товарищу моему, кажется, не совсем нравилось такое путешествие, тем более что он имел претензию на щеголя (а надо вам заметить, мы были одеты совершенно по-бальному). Он, как и возница наш, тоже молчал и не проговорил даже – «а вот и Сокирынцы!» – так был озлоблен пылью и прочими дорожными неудачами. Я же, несмотря на фрак и прочие принадлежности, был совершенно спокоен и даже счастлив, глядя на необозримые пространства, засеянные житом и пшеницею. Правда, и в мое сердце прокрадывалась грусть, но грусть иного рода. Я думал и у бога спрашивал: «Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет?» Хотел было сообщить мой грустный вопрос товарищу, но, подумавши, не сообщил. Когда бы не этот проклятый вопрос, так некстати родившийся в моей душе, я был бы совершенно счастлив, купаясь, так сказать, в тихо зыблемом море свежей зелени. Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был поворотить, как говорится, оглобли назад. Глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу, мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем.
Так ли, сяк ли, мы, наконец, добралися до нашей цели уже перед закатом солнца. Не описываю вам ни великолепных дубов, насаженных прадедами, составляющих лес, освещенный заходящим солнцем, среди которого высится бельведер с куполом огромного барского дома, ни той широкой и величественной просеки, или аллеи, ведущей к дому, ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми, лакеями и кучерами. Не описываю потому, что нас встретила, перед самым въездом в аллею, бесконечная кавалькада амазонок и амазонов и совершенно сбила меня с толку. Но товарищ мой не оробел. Он ловко выскочил из телеги и хватски раскланивался со всею кавалькадою, из чего я заключил, что он порядочный шутник. По миновании амазонок, амазонов и, наконец, грумов или жокеев я тоже вылез из телеги, расплатился с нашим возницею, сказавши ему на вопрос: «Де ж я буду ночувать?» – «В зелений диброви, земляче!», после чего он посвистел и поехал в село, а мы скромно пошли вдоль великолепной аллеи к барскому дому. Но чтоб придать себе физиономию, хоть сколько-нибудь похожую на джентльменов, зашли мы в так называемый холостой флигель, отстоящий недалеко от главного здания, где встретили нас джентльмены самого неблагопристойного содержания. Обыкновенно бывает, что люди после немалосложного обеда и нешуточной выпивки предаются сновидениям, а у них как-то вышло это напротив. Они скакали, кричали и черт знает что выделывали, и все, разумеется, в шотландских костюмах {110}. Цинизм, чтобы не сказать мерзость, и больше ничего! Виргилий мой добился кое-как умывальника с водой и лоханки, и мы, в коридоре умывши свои лики и согнавши пыль с фраков посредством вытряхивания, отправились в сад, в надежде встретиться с хозяевами.
Надежда нас не обманула. Мы вошли сначала в дом и, пройдя две залы, очутились на террасе, уставленной роскошнейшими цветами; спустившися с террасы и пройдя дорожкой, тщательно песком усыпанной, через зеленую площадь (из патриотизма называемую левадою), вошли мы в сад, к немалому моему удивлелению, не в английский и не в французский сад, а в простой, естественный дубовый лес, или в дуброву. И если б не желтые дорожки блестели между старыми, темными дубами, то я совершенно забыл бы, что нахожусь в барском саду, а не в какой-нибудь заповедной дуброве. Виргилий мой подвел меня к высокому раскидистому огромному дубу и показал мне на стволе его небольшое отверстие вроде маленького окошечка, сказавши: «Посмотрите-ка в это оконце!» Я посмотрел и, разумеется, ничего не увидел. «Посмотрите пристальнее!» Я посмотрел пристальнее и увидел что-то вроде иконы божьей матери {111}. И действительно, это была икона иржавецкой божьей матери (как мне пояснил мой Виргилий), врезанная в этот дуб знаменитым прилуцким полковником год спустя после Полтавской битвы.
Слушая пояснения сего исторического факта, я и не заметил, как мы вышли опять на леваду, где и встретили хозяина и хозяйку, окруженных толпою улыбающихся гостей своих.
Виргилий мой, довольно ловко для уездного преподавателя, расшаркнулся перед хозяином и хозяйкой, причем хозяин протянул ему покровительственно указательный палец левой руки, украшенный дорогим перстнем. Виргилий мой с подобострастием схватил его палец обеими руками и рекомендовал меня как своего друга и ученого собрата. Я в свою очередь тоже расшаркнулся, надо сказать правду, довольно по-ученому, то есть по-медвежьи, после чего толпа гостей увеличилась двумя членами.
Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что во время нашей аудиенции на дворе было почти темно, следовательно, подробностей рассмотреть было невозможно. А как ни будь хороша картина в целом, но если художник пренебрег подробностями, то картина его останется только эскизом, на который истинный знаток и любитель посмотрит и только головой покачает и отойдет со вздохом к портретам Зарянки {112}восхищаться гербами, с убийственною подробностью изображенными на пуговицах какого-нибудь вицмундира.
Во избежание помавания главы знатока и любителя оконченных картин, я ограничусь только первым впечатлением, что, по мнению психологов, самая важная черта при изображении характеров.
Первое впечатление, произведенное на меня хозяйкою, было самое приятное впечатление, а хозяином – напротив. Но это, быть может, указательный палец левой руки, так благосклонно протянутый моему приятелю, был причиною такого неприятного впечатления. Веселая толпа гостей тихонько двигалася к дому, уже освещенному ярко внутри, а на террасе между роскошными цветами и лимонными деревьями только еще разноцветные фонари развешивали.
Лишь только хозяин с хозяйкой вступили на террасу, как крепостной оркестр грянул знаменитый марш из «Вильгельма Телля» {113}. После марша сейчас же, не переводя духу, полонез, и бал начался во всем своем величии.
Некий ученый муж {114}, кажется барон Боде, поехал из Тегерана к развалинам Персеполиса и описал довольно тщательно свое путешествие до самой долины Мардашт; увидевши же величественные руины Персеполиса {115}, сказал: «Так как многие путешественники описывали сии знаменитые развалины, то мне здесь совершенно нечего делать». Я то же могу сказать, глядя на провинциальный бал, хотя мое путешествие не имело цели описания провинциального бала и не было сопряжено с такими трудностями, как путешествие из Тегерана к развалинам Персеполиса, да и сравнение, надо правду сказать, я делаю самое неестественное. Да что делать, – что под руку попало, то и валяй.
Любую повесть прочитайте современной нашей изящной словесности, везде вы встретите описание если не столичного, то уж непременно провинциального бала, и, разумеется, с разными прибавлениями насчет нарядов, ухваток или манер и даже самых физиономий, как будто природа для провинциальных львиц и львов особенные формы делала. Вздор! Формы одни и те же, и львицы и львы одни и те же, и ежели есть между ними разница, так это только та, что провинциальные львы и львицы немножко ручнее столичных, чего (сколько мне известно) списатели провинциальных балов не заметили.