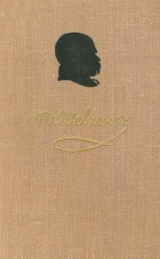
Текст книги "Драматические произведения. Повести."
Автор книги: Тарас Шевченко
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Вступивши в пределы нашего возлюбленного отечества, остановились мы на зимние квартиры. Володя начал скучать и как-то чудно переменился. А что еще чуднее, так это то, что он своего широкого плаща никогда не снимал, так и спал в плаще. Уже не играл, как котенок со своим угрюмым другом, а упадет к нему на грудь, да так и обольет ее слезами. Туман хоть всячески баловал и старался его развеселять, но мало успевал. Мы думали сначала, что это просто тоска по родине и больше ничего, со временем пройдет, ан вышло иначе. Адъютант, взявши отпуск, уехал с родными повидаться, а Володе нанял в местечке у еврея квартиру и оставил его на попечение барабанного старосты. Мы этому тоже не могли надивиться. Отчего бы не взять мальчика с собою? Он все-таки б немного порассеялся. Но мы это приписали его скупости, больше ничему.
Не знаю почему, но французенок этот нас всех интересовал, в особенности меня. В нем было что-то привлекательное, симпатическое, и когда он остался без своего патрона и не показывался на улице, то я как будто что-то потерял и всякий раз, когда увижу Тумана, спрашивал о французе. Туман сначала отвечал мне, что Володя скучает, а потом начал отвечать, что Володя нездужае. Много раз подмывало меня зайти проведать Володю да поговорить с ним о его родном Париже: может быть, ему и легче бы стало, так что ж вы будете делать с глупою фанабериею? Как, дескать, я, будучи офицером, пойду с визитом к какому-нибудь, положим себе, хоть и французу, а все-таки лакею? О воспитание! С отъявленным чиновным [мерзавцем] мы приветливо раскланиваемся на улице, принимаем у себя в доме с самою обязательною улыбкою, предлагаем стул и первое место за семейным столом и не боимся, что эта ядовитая тварь своим дыханьем заразит детей наших. А повстречайся с нами на улице простой человек, нечиновный, который своим бескорыстием и прямотою, быть может, нам же оказывал услуги, да мы на него и не взглянем, а если и взглянем, то так благосклонно, что лучше б и не взглядывали. И это у нас называется приличие! Мерзость, ничего больше! Мы хуже браминов {226}: тот, по крайней мере, издыхать будет, а у парии воды не попросит, чтобы не быть ему ничем обязану. А мы?.. Впрочем, на эту тему целые томы написано, так не лучше ли оставить, потому что я ничего нового сказать не умею, да и замечено не раз, что великие теоретики не всегда бывают такие же и практики. Я это говорю в отношении филантропов и моралистов; чтобы не попасть в эту же категорию, я возвращаюсь к французику Володе.
Прошло месяца два после отъезда адъютанта. Он в полку не имел никого близкого или приятеля, следовательно, мы об нем никаких известий не имели. Квартировал я вместе с нашим штаб-лекарем, и сидим себе вдвоем ввечеру да читаем какую-то французскую книгу, – не помню, какую именно, – только денщик докладывает, что барабанный староста просит позволения войти.
– Позови, – говорю.
Туман вошел бледный и перепуганный.
– Что скажешь, Туман? – спросил я.
– К их высокоблагородию.
– Что же тебе нужно? – спросил лекарь.
– Володька умирает, ваше высокоблагородие. Помогите! Только это не Володька, ваше высокоблагородие, а женщина.
– Как женщина? – спросили мы в один голос.
– Так, просто женщина, и теперь страдает родами. Лекарь наскоро оделся и ушел вслед за Туманом.
Долго он не возвращался, или это, быть может, так мне показалось, потому что я его с нетерпением ожидал. Наконец, он пришел.
– Ну, что? – спросил я его.
– Ничего, разрешилась, – отвечал он. – Младенец здоров, будет жив, а она, бедная, сильно пострадала, едва ли выдержит.
Поутру пришел Туман и объявил нам, что она умерла вскоре после ухода их высокоблагородия.
Дали знать о случившемся полковому командиру. Тот велел на другой день похоронить ее и предать это дело забвению. Полковница хотела было взять дитя на воспитание, но Туман не уступил. Он говорил, что перед богом будет отвечать за это дитя; что она, когда умирала, то целовала его руки и все на дитя показывала, то есть просила его, чтобы не покидать ее дитя.
– И я не должен покидать его, – говорил он. И так сделал: он с помощью фактора в тот же день нашел кормилицу, передал ей ребенка и заплатил деньги.
Хотелось нам узнать, кто такая была покойница, но ничего не узнали: бумаг совершенно никаких при ней не оказалось. Должно быть, или какая-нибудь кочующая актриса, или просто из модного магазина субретка {227}, бог ее знает.
Теперь, я думаю, не совсем еще поздно будет познакомить вас покороче с моим неуклюжим героем. Но лучше поздно, нежели никогда, – говорит мудрая пословица.
В 1809 году запасные войска наши были расположены частию в Бессарабии, частию в Херсонской губернии, в том числе и наш полк. Я тогда только что кончил курс наук в шляхетном кадетском корпусе {228}, как меня, едва обмундировать успели, послали в действующую армию, то есть в запасные войска. Прибыл я в полк, поступил в роту. Ротный командир и поручил мне, между прочими занятиями, только что прибывших в роту с полсотни рекрут обучить фронту. В числе рекрут был и Яким Туман.
Едва ли самая упрямая цыганская кляча перенесла столько побоев, сколько этот бедный рекрут, а дело вперед не подвигалось ни на шаг. Наука парню не далась: шесть месяцев прошло, а он как ни в чем не бывало. А собою он был видный, здоровый, молодой, без всякого качества, как говаривал капрал {229}, только с норовом. А правду сказать, так мы сами сноровки не знали, как обращаться с рекрутами, особенно с моими земляками. Владиславлев в то время не издавал еще памятной книжки для штаб– и обер-офицеров {230}, в которой помещено весьма дельное наставление доктора N. на этот предмет. Вскоре был заключен с турками мир, и нашему полку приказано было двинуться вовнутрь России. Итак, мы на Тумане только напрасно хворост переломали. Наша рота двигалась вместе с полковым штабом, следовательно, и с полковой музыкой. Походом наш недобитый рекрут познакомился с барабанщиком. Тот и давай ему на дневках открывать таинства своего искусства. Что же вы думаете? Не дошли мы еще до назначенного нам места, как наш Туман, или, как солдаты его называли, медведь, выбивал на барабане зорю, да так искусно, что сам учитель завидовал. Ротный командир видит, что медведь не совсем бестолков, – предложил ему быть форменным барабанщиком. Туман охотно согласился и с таким жаром и, можно сказать, увлечением предался своему любимому искусству, что когда под Бородиным {231}убили у нас барабанного старосту, то он занял его место. Что значит призвание! Уразумей мы в нем это призвание с самого начала, и фура хворосту не пропала бы даром.
Последующие события в служебной и частной жизни моего героя не так примечательны, чтобы их стоило описывать. Разве только, если верить его собственным словам, рассказать о том, как он познакомился с Блюхером, и как он ему по-немецки предлагал стакан шнапсу {232}, и как Туман по-немецки же от шнапсу отказался и попросил у его высокопревосходительства стакан вейну {233}, в чем, разумеется, ему не было отказано. Принимая в соображение характер знаменитого полководца, все это могло случиться так, как рассказывал Туман, но я как не был свидетелем этой сцены, то и не ручаюсь за истину этого курьезного происшествия.
Святое времечко было для нашего брата, военного человека! Бывало, как поставят полк на зимние квартиры, так тут он и корни пустит. Зим десять с места не сойдет, так что наша братия наполовину переженится. Что я говорю, наполовину? – все переженятся, если только невест в околотке хватит. Да в то время невесты не засиживались, как теперь. Да что теперь? Не успеет полк, как говорится, места нагреть, глядь, его турнули на другой конец России – какая тут женитьба! Дай бог хоть познакомиться как-нибудь! А солдат просто блаженствовал! Иной ловкий парень так сживается с хозяевами, что просто делается членом семейства, если не больше. Одно только, что было больно не по нутру нашим солдатикам, – это форма, то есть обмундирование. И действительно страшно было смотреть, когда его, бедного, одевают в полную боевую амуницию. Два одевают третьего, а когда оденут и поставят на ноги, так уж и стой. А уж если, боже сохрани, споткнулся да упал, так уж так и лежи; сам не встанет, – нужно опять два человека, чтобы поставить его на ноги. А ко всему этому прибавьте белого сукна шинели. Это такая была обуза для солдат, что он, бедный, не знал, что с нею делать: вместо того чтобы защититься от непогоды шинелью, он должен ее защищать. В настоящее время русский солдат в отношении обмундировки просто богдыхан китайский. Мундир только его немножко безобразит. Ну, да и этот недостаток со временем заменят чем-нибудь поблагопристойнее.
Кто про что, а солдат про амуничку. Так и я, – увлекся крагами да кутасами {234}, а о главном-то и забыл. Вот как было.
По обычаю того времени полк наш прозимовал в одних и тех же квартирах восемь зим с лишком. Варочка (так называл Туман свою воспитанницу) росла не по дням, а по часам. И что это за прелестное дитя было! – просто совершенство детской красоты. Вот уж я пятый десяток коротаю, а не видал еще другого такого очаровательного дитяти. И ко всему этому – тихое, скромное, совершенный ангел небесный. Оно если и позволяло себе иногда детскую резвость, так только с одним своим татом (так называла она угрюмого Тумана). И самая нежная мать не может ласковее улыбаться своему дитяти, как угрюмый Туман улыбался, лаская свою кудрявую Варочку. Мне часто случалось его видеть сидящего под хатою на завалинке и ласкающего на коленях свою Варочку. Мне всегда эта сцена напоминала прекрасную гравюру, изображающую усатого рыцаря в кольчуге с прекрасным младенцем на руках. Дитя треплет его за усы, а он ему ласково улыбается. Точь-в-точь Туман со своею Варочкою. Счастливый Туман! А правду сказать, он вполне заслуживал этого счастья.
Взявши на свое попечение дитя, он начал с того, что перестал курить трубку и пить водку. Хотя он не был никогда записным пьяницей, но при случае от добрых людей не отставал. Отказавшись от единственных прелестей солдата, он все-таки немного уэкономил для своей Варочки. Простыми ломовыми трудами в еврейском местечке немного возьмешь, – нужно было подумать о каком-нибудь ремесле. Вот он, понадумавшись хорошенько, принялся сапоги тачать. Тачает он их год, другой, а на третий приносит он мне показать опойковые сапоги собственного изделия, да какие сапоги, я вам скажу! Хоть столичному мастеру, так в нос бросятся. Я, признаться, не поверил его досужеству и велел ему сделать для себя сапоги. Он и сделал. Посмотрю – еще лучше: на ноге сидят просто как вылитый сапог. Я рекомендовал его товарищам. Туман ретиво принялся работать, и не прошло году, как Туман уже работал на всех офицеров в полку и даже на самого бригадира, который, как известно, все еще щеголял в парижских сапогах и думал уже было заказывать в Варшаве. Так вот какой из неуклюжего и, как думали, глуповатого Тумана вышел мастер! Правда, что редко встречаются в русском человеке две эти добродетели, то есть мастерство и трезвость, однакож встречаются, и вот вам доказательство – Туман. Зато он жил, как и иному офицеру дай бог жить: квартира у него лучше квартиры офицерской (он нанимал у шляхтича отдельную хатку в саду; не помню, что платил). Нянька у него нанятая опрятная старушка, тоже чуть-чуть ли не шляхтянка. Себе он только и отказывал в вине и трубке, а больше ни в чем. А про Варочку и говорить нечего: выбежит, бывало, на улицу, что твоя куколка разрисованная. Куда шляхетские дети! – просто замарашки перед ней. А сам Туман так только и показывался на ученье, нигде больше его не увидишь: сидит себе и день и ночь за своими сапогами да песенки попевает.
Человек трудолюбивый, по-моему, самый счастливый человек на свете, особенно если труд его имеет такую возвышенную, такую благородную цель, как труд этого простого, этого безграмотного человека. Завидую и всегда буду завидовать тебе, счастливый благородный труженик!
Старушка, Варочкина нянька, между прочими добродетелями, была еще и грамотная, по-польски, разумеется, почему я и заключаю, что она должна быть шляхетского роду. И когда Варочке пошел пятый или шестой год, – не помню хорошенько, помню только, что она уже говорила чисто и внятно и еще немножко картавила, что выговору ее придавало особенную прелесть, – старушка нянька на досуге принялася показывать грамоту Варочке. Туману понравилось, что Варочка его будет читать, да еще и по-польски, и удовольствие свое он выразил тем, что на первой в местечке ярманке купил шерстяной какого-то темного цвета платок, тулуп и козловые сапоги, да сверх этого подарил ей полкарбованца. Старушка была в восторге, и благодарностям конца не было. Сначала Туман было подумал, к чему ей грамота? что она за панна такая? Но, посмотревши на дитя, нашел, что она действительно панна, и, махнувши рукой, сказал:
– Нехай соби учиться, – умитыме доладу хоть богу помолыться.
А так как простодушный Туман не находил большой разницы между языками немецким и французским, то так само и между грамотой польской и русской: все равно, абы читала!
Однажды – это уже было вскоре перед нашим выходом из благословенного местечка – иду я по улице мимо квартиры Тумана и вижу: Туман сидит под хаткою на завалинке в своем пестром мундире и с барабаном между колен (должно быть, только что пришел с ученья); перед ним стоит Варочка и просит у него барабанные палки; он ей подал, она взяла палки да как приударит поход, так что твой барабанщик! Я просто удивился: настоящая Corka regimentu {235}, что в прошлом лете в Ромнах польские актеры представляли. Но нужно было видеть самого Тумана: ни один, я думаю, любитель музыки не слушал с такою любовью симфонию Бетховена, с какою он слушал и любовался своей Варочкой.
Это мне напомнило другой эстамп такой самой величины, – да чуть ли не одного мастера, – на котором изображен был рыцарь, тоже в кольчуге, обучающий мальчика бить на барабане. Только переменить костюм – и будет та самая картина.
Варочке уже минуло восемь лет, когда нашему полку приказано было двинуться по смоленской дороге. Туман как бы предвидел эту катастрофу, обзавелся лошадью и повозкой, так что, когда приказали выступить в поход, наша братия втридорога платила за паршивую лошаденку, и то трудно было достать, а Туман только улыбается, глядя на запыхавшихся факторов и на наши сборы. Кое-как мы собралися, и в одно прекрасное утро полковой штаб и моя рота выступили из благодатного местечка. Проводы были пышные. Да и как не быть им пышными? Простоявши столько времени на одном месте, многие солдатики не только коханками, – детками обзавелись. Ну, да это картина не в моем вкусе, и я не буду описывать вам ни слез, ни рыданий, ни судорожных объятий. Скажу только, что первый переход наш длился целый день и половина моей удалой роты ночевала на дороге.
Мы двигались той самой дорогой {236}, по которой так недавно промчался гений войны со всеми ужасами. В городах, особенно в Борисове и Красном, были видны еще следы войны, а в селах как будто ничего не бывало. Только и следу, что у мужичков в банях на каменках заменен был булыжник чугунными ядрами. В одном Смоленске оставались еще целые улицы в развалинах, а собор уже возобновлялся.
В Смоленске собрался наш полк, и после инспекторского смотра распустили нас на зимние квартиры. Так как я командовал гренадерскою ротою, то вместе с полковым штабом остался в Смоленске, а прочие роты расположились в окрестных селах. Туман со своею Варочкою тоже оставался в Смоленске.
Несмотря на то, что половина города была еще в развалинах, дворянства к зиме съехалось много, и мы на развалинах древнего Смоленска зиму провели шумно и весело. Маменьки, вероятно рассчитывая на полковую холостежь, навезли невест, да прехорошеньких. Но, увы! решительно некому было сватать: наша молодежь, как и прежде еще я имел честь докладывать, вся переженилась. Признаюся, грешный человек, меня самого тогда подмывало повторить узы Гименея, да жаль стало Викторика: ему в ту зиму только пошел четвертый годочек, а в этом возрасте для дитяти, я по себе знаю, что значит самая лучшая мачеха, а если, боже сохрани, навяжется сатана в виде ангела неземного, тогда что делать? Итак, я подумал, подумал, да и рукой махнул. После я слышал, что предмет моих воздыханий сочетался браком с каким-то безногим богачом Энгельгардтом, и через год он уехал за границу, а она за другую. Я только богу помолился, когда услыхал такую интересную новость.
Квартиру я в полуразрушенном Смоленске успел захватить порядочную и недорогую. Была одна комната совершенно лишняя, я и предложил ее Туману с тем, чтобы он, как человек трезвый и аккуратный, присматривал за моим мизерным хозяйством; да и Варочке его будет веселее, и Викторик мой без меня скучать не будет. Нянька и гувернантка у меня была прекрасная и грамотная женщина, и Варочка в продолжение зимы шутя выучилась русской грамоте, да и Викторика моего выучили азбучке. В великом посту он уже пребойко читал по верхам {237}, а Варочка каждый божий день поутру и ввечеру читала вслух, в присутствии всех, утренние и вечерние молитвы. Счастливый Туман плакал от умиления, слушая, как его Варочка читает такие прекрасные молитвы, о которых он, человек темный, прежде и понятия не имел; особенно, когда начнет она читать Помилуй мя, божеи дойдет до стиха Сердце чисто со-зижди во мне, боже, он положит земной поклон и сквозь слезы поцелует в темя свою умную Варочку. Зато нянька моя уже не нуждалася в башмаках, у нее всегда в запасе было пар шесть лишних – на случай походу, – как говорил Туман, а Викторик мой каждое воскресенье щеголял в новых сапогах. Я скажу ему, бывало: «Зачем ты ему, Туман, так часто сапоги переменяешь?» – «Росте, ваше благородие, то и переменяю». Добряк уверял меня, что ребенок может так вырасти в продолжение недели, что ему необходимо сапоги переменять. Я раз было попробовал взять какой-то материал на платьице для Варочки, да и сам не рад был: Туман мой так расходился, что чуть было с квартиры не сошел, насилу уломал я его, – такой чудак! «Обижаете, говорит, ваше благородие», – да и баста. «У вас, говорит, у самих росте дытына, а вы на чужих детей тратитесь. Я человек рукомеслеиный, у мене завсигда буде, а вы де возьмете, як бог не дасть здоровья? Хорошо еще, як пенсии дослужитесь, а то и так выпустять».
В продолжение зимы я коротко узнал этого простого, благородного и в высшей степени бескорыстного человека.
Весною выступили мы из Смоленска по московской дороге. За обозом моим и за людьми я поручил надзирать Туману и был совершенно спокоен. В походе всяко случается. Не везде для тебя все приготовлено. Иной раз и натощак заснешь, что станешь делать? Но в этом походе я был как у бога за пазухой. Бывало, не успеем прийти на место, а у Тумана уже все готово: и для меня, и для детей квартира, и самовар кипит, и ужин готовится, и лошадям всего вволю, и бог его знает, как это он все успевал! А с мужичками, несмотря на свое хохлацкое произношение, никто лучше его ладить не умел. Удивительный человек!
В Москве собралась вся наша дивизия, и бывший тогда еще корпусный наш командир, покойник Сакен {238}, после инспекторского смотра отдал приказ по корпусу, чтобы всех неграмотных унтер-офицеров обратить в рядовые. Не знаю, что ему вздумалось, покойнику? Из этого вышла такая безладица в ротах, что и боже упаси. Особенно нам, ротным командирам, наделал он хлопот своим приказом. Безграмотных унтер-офицеров действительно было много, но зато это были люди самые расторопные и трезвые, – две ничем не заменимые добродетели солдата. Так этих-то людей мы должны были заместить грамотными пьяницами и ворами. Тут-то я только узнал, что значит так называемый грамотный русский человек. Эти грамотеи попадают в солдаты большею частию из помещичьих сельских писарей. Мужички наши недаром говорят: «Не буде добра и правды на земли, поки письменным очи не повылазять». Только вследствие глубокого презрения к этим грамотеям могла родиться подобная поговорка. Что бы подумал про моих земляков великий ревнитель народного образования Ланкастер {239}, когда б он знал, что у них существует такая варварская поговорка? Подумал бы, что земляки мои не люди, а пародия на людей, и был бы несправедлив. Общая грамотность в народе – величайшее добро, но где на сто – один грамотный, – величайшее зло. Я ничего не знаю безнравственнее и отвратительнее сельского писаря: он первый грабитель бедного мужика, лентяй, пьяница, сосуд всех мерзостей и первый развратитель простодушного мужичка, потому что он святое письмо читает.
Покойный Основьяненко в своем «Шельменке – волостном писаре» {240}только легкий очерк набросал этого отвратительного типа. И этакими-то грамотеями снабжают помещики нашу славную армию! И, наверное, покойник Сакен не отдал бы такого приказа, если бы он хоть неделю побыл экономом в помещичьем селе.
Со званием барабанного старосты Туман соединял и скромное звание унтер-офицера, гордился и дорожил этим званием, как собственною личною заслугою. Но увы! как человек неграмотный, должен был спороть только что купленные в Москве дорогие не мишурные, а настоящие серебряные галуны. И их пришлось спороть и бросить в помойную яму, так, ни за что спороть, потому только, что он неграмотный, разбойник. Глубоко было задето самолюбие бедного Тумана. Как развенчанный Наполеон, ходил он молча несколько дней, не принимая пищи.
Нашему полку назначена была квартира в Муроме, и мы собиралися в поход. Я просил его принять снова команду над моим мизерным хозяйством.
– Возьмите соби ундера, – сказал он, едва удерживая слезы, – а то рядовой вас дорогою обкраде.
Я сам чуть не заплакал и не в силах был повторить моей просьбы.
Отпуская его, я был так неосторожен, что предложил ему синенькую на водку. Зарыдал он, бедняк, плюнул на мою ассигнацию и вышел из комнаты. На другой день привели его из Арбатской части в полковой штаб едва-едва движущегося. Когда спросили его, где он пропадал, он только мог выговорить: «Водки! а то здохну!» Дали ему стакан водки и заперли в пустую комнату. Я испугался за него, но, слава богу, мой страх был напрасен: Туман благополучно отрезвился и больше не повторял утехи в горе, только до самого Мурома шел он молча, как помешанный. В Муроме вдруг Туман пропал. Я спрашиваю: где он? говорят: в госпитале. Я пошел навестить его. Прихожу, отворяю дверь в палату, – и что же? Вот уж такой гравюры я не видал, да, я думаю, такой картины и на свете нет. Самому великому художнику не представлялось такое прекрасное и оригинальное видение: на койке, в лазаретном халате и колпаке, сидит Туман, а на коленях у него сидит Варочка с азбучкою в руках и складывает вслух тма-мна, а за нею тихонько басом повторяет Туман. Увидя меня, он смешался и, вставши, ответил на мое приветствие и прибавил краснея:
– Варочка осе мени Помилуй мя, божечитала.
– Вот уж и Помилуй мя, боже! – сказала Варочка наивно. – Вы еще и склады бог знает как читаете!
– Цыть, дурне! – сказал торопливо Туман, дергая ее за рукав.
Варочка сконфузилась, взглянула на меня, потом на него и с упреком сказала:
– Разве я неправду говорю? Думала завтра аз-ангел показать, а теперь и послезавтра не покажу, про сидите вы у меня всю неделю на тме-мне.
И с последним словом выбежала из палаты. Туман посмотрел ей вслед и с досадой проговорил:
– От тоби на! – а обратяся ко мне, прибавил: – Воно бреше, ваше благородие!
Я видел ясно, что воно не бреше, но показал вид, что я не догадываюсь, в чем дело, и спросил его:
– Что, она постоянно при тебе находится?
– Нету, ваше благородие, у фельдшерши находится, а до мене забижить на яку минуту, та й знову до фельдшерши. Таке непосыдяще! – прибавил он, опуская глаза.
– Клевещешь! клевещешь, Туман! Я знаю, что ты делаешь, да зачем же от меня скрывать? Разве худое дело учиться грамоте?
Туман с удивлением посмотрел на меня и, помолчавши, сказал:
– Худое, ваше благородие, очень худое! Скажите, чи бачилы вы, щоб дытя, блазень, учило старого чоловика?
И бедняк почти заплакал, а спустя минуту стал меня просить, чтобы я никому не говорил о его грамоте. Я дал ему слово молчать, предложил ему денег, но он сказал, что у него свои еще тянутся. Простившись и пожелав ему успеха, я вышел из палаты.
«Алмаз, а не человек», – думал я и не жалел даже, что этот алмаз в коре, – так он мне нравился в своем естественном виде. Хотел было я сделать сравнение с червонцем Крылова {241}, да раздумал: такие натуры, как Туман, едва ли в состоянии переродиться, то есть переобразоваться.
Штаб-лекарь наш подсмотрел тайну Тумана и не выписывал его из госпиталя, пока он сам не просился. Через месяц является ко мне Туман с улыбающимся лицом (что было ему совсем не к лицу) и с азбучкою за обшлагом и просит меня, чтобы я послушал, как он читает. Я послушал его: изрядно читает – и заповеди, и все, что есть в букваре. Я подал ему устав о гарнизонной службе, он и устав читает. Я в тот же день отрекомендовал его адъютанту, а он бригадиру, и через месяц Туман нашил снова свои московские дорогие галуны, переселился ко мне на квартиру и снова принял в свои руки мое хозяйство.
Случилося так, что в тот самый день, когда Туман торжественно нашивал свои нефальшивые галуны, и мне вышло повышение: я произведен был в майоры, а командиру первого батальона вышла отставка, – я и должен был принять от него батальон. Хотя я попрежнему остался одиноким, но хозяйство мое поневоле должно было увеличиться. И такой человек, как Туман, был для меня необходим, а тем более что Викторика своего отправил я в Нежин {242}к сестрице, чтобы она приготовляла его для лицея, следовательно, и Варочка, как дитя, для меня тоже была необходима, потому что я без Викторика страшно скучал, и она, точно ангел божий, явилася в моем доме.
Да, не обинуяся, можно было уподобить ее ангелу божию. Такой красоты неописанной я уже не увижу более! А кротость! Истинно ангельская кротость! Ей уже было лет одиннадцать с небольшим, и она мне чрезвычайно живо напоминала покойного Володьку, то есть свою несчастную мать. Улыбка, голос, глаза – все было как у бедной матери. Только у Варочки все это было смягчено кротостью и непорочностью. Хотелося мне ее приохотить к книгам, но для ее возраста в то время какие можно было книги достать! Издавался в то время журнал под названием «Благонамеренный» {243}. Я прочитал в «Московских ведомостях» объявления и, увлекшись таким благородным названием, выписал его собственно для Варочки, да как прочитал первую книжечку, так остальные уже и не разрезывал, – так их у меня в ларе и мыши съели.
Во время пребывания Тумана в госпитале Варочка подружила с фельдшершею и теперь почти ежедневно ее посещала. Мне эти визиты были не по сердцу, и я несколько раз говорил Туману, что эта дружба до добра не доведет, но он, бог его знает почему, не обращал на мои слова внимания. Я прибегнул было к хитрости, то есть приохотить ее к чтению и тем заставить ее сидеть дома, но хитрость моя не удалась. А Варочка тем временем росла и хорошела.
На третьем или на четвертом году нашей благополучной стоянки в городе Муроме переведен был в наш полк, за какие-то проказы, капитан гвардии NN., лет двадцати пяти, красавец собою, богач и самой благородной, аристократической фамилии, человек образованный, деликатный и самый беспардонный кутила, а в то время это была не последняя добродетель, и Давыдов несправедлив {244}, приписывая эту благородную страсть одним гусарам, – наша братия, пехотинцы, нисколько им не уступали.
Молодое офицерство наше все так к нему и прильнуло, а про барышень и говорить нечего: все, сколько их было в Муроме и около Мурома, все разом влюбились. Ну, положим так, их дело молодое, неопытное, им простительно, а то барыни, матери взрослых детей, туда же сунулися соперничать со своими дочерьми! Господи! какую страшную силу имеет золото над сердцем человека. А к тому еще он хорошо говорил по-французски, читал наизусть и даже пел некоторые такие песни Беранжера {245}, что порядочный француз постыдится петь их в холостой пьяной компании, а он, молодец, пел их в муромских гостиных, и нежному полу так нравились эти недвусмысленные песни, что их наизусть выучивали и в тени сирени, под аккомпанемент гитары и соловья, певали их безбожно уныло. Простодушные, они и не подозревали, что они пели. Они думали, что ангелы если разговаривают между собою, то непременно на французском языке и поют такие же песни, как и предмет их нежной страсти.
Вскоре после появления этого хвата барыни и барышни, если и обращалися к кому с вопросом, то вместо имени и отчества произносили «мсью», и это было так обще, что свежий человек непременно подумал бы, что все муромское народонаселение говорит по-французски.
Вот когда открывался случай благоприятный блеснуть Туману своим познанием французского языка. Но увы! он бедный плебей, а то аристократия! да еще какая аристократия – уездная! А это, я думаю, всем известно, что английская аристократия самая гордая и щекотливая, но в сравнении с нашей уездной она ничего не значит. Хотя французские пленные солдаты часто попадали в ее недоступный круг, но то французские, – дело совсем другого рода.
Одна хорошая моя знакомая, женщина уже не первой молодости, примерная, можно сказать, жена и примерная мать семейства, – по образованию она была немногим выше своих согражданок, но здравого практического смысла и безо всякого жеманства, что мне в ней особенно нравилось, – однажды она стала мне описывать добродетели и образованность нашего гвардейца. Я, слушая ее, думал, что она шутит, – слушал ее и молча улыбался, но она, не обращая внимания на мои улыбки, увлеклася так панегириком, что начала выхвалять глубокие его познания в русской истории. Я тогда и рукой махнул. Ну, статочное ли дело, чтобы русский барич того времени, да еще и гвардеец, знал что-нибудь, кроме французского языка? А то еще и отечественную историю! Карамзин тогда начал издавать свою знаменитую историю {246}, так он, вероятно, слышал о ней в столице, да и пустил в ход свои познания между непорочными муромками. Бедные муромки! И еще беднейшие муромцы!
Когда женщина, которая почиталась образцом ума и семейных добродетелей, и та увлеклась удалым капитаном, то какое же влияние он имел на обыкновенные умы и добродетели? Влияние сильное, до того сильное, что не прошло году, как мужья молодых жен и отцы молодых дочерей почти начали убеждаться в сильном влиянии капитана на их жен и дочерей, и когда полку нашему назначен был поход в Москву, по случаю коронации {247}, то отцы и мужья перекрестились и свободно вздохнули, а жены и дочери зарыдали.








