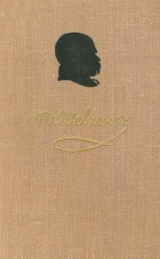
Текст книги "Драматические произведения. Повести."
Автор книги: Тарас Шевченко
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Я думал окунуть свою грязную совесть в дорогом вине, но не тут-то было! Она выплывала из вина и бешеной кошкой впивалась мне в сердце.
В эти страшные минуты являлись мне как будто наяву панна Магдалена и моя прекрасная бракоокраденная невеста. Они являлись мне, как два ангела, и говорили со мной так тихо, сладко, так приятно, что я приходил в себя совершенно счастливым человеком.
Однажды я решился написать письмо, и в письме своем просил я у них свидания наедине. Местом свидания я назначил пустую хатку в саду у нашего тытаря, предполагаемого моего посаженого отца. Я решился оставить свое проклятое ремесло и готов был сделаться хоть каторжником, только бы очистить свою грязную совесть.
Я тщательно скрывал свое намерение от товарищей, да и к чему бы повела откровенность? К грубым насмешкам, и больше ничего!
С трепетом дожидал я дня, назначенного мною для свидания с панною Магдаленою.
В это время шлялся я со своим малым отрядом около Луцка.
Однажды из лесу заметили мы: большой дорожный берлин катился в пыли по столбовой дороге.
Я скомандовал своим удальцам: из яру на долину, то есть выйти на дорогу и остановить берлин. Сказано – сделано. Берлин остановили. Он мне издали показался знакомым, и пока я подбежал к нему, чтобы увериться, не ошибаюсь ли я, чемоданы от берлина были уже отрезаны и сам хозяин был донага раздет и дрожал за свою жизнь.
И кого же я узнал в этом нагом человеке?
Своего злейшего врага, развратного сластолюбца – графа Болеслава!
Признаюсь, мне было смешно и больно смотреть на него. Он меня тоже узнал и затрепетал всем телом.
Я отвернулся от него и приказал привязать чемоданы, развязать и одеть графа и его камердинера-француза. И дал еще червонец ямщику на водку и отпустил их с богом, не тронувши ни волоска. Граф со страха не мог проговорить слово, а француз, усевшись на козлах, вежливо приподнял шляпу и сказал:
– Merci, monsieur!
После этого происшествия мне казалося, что я смело могу идти на свидание с панной Магдаленою. Я мечтал уже о ее тихих, сладких речах, о ее прекрасном, милосердном взгляде. Я воображал себя покаявшимся, безмолвным, покорным тружеником где-нибудь в глухом монастыре или в далекой ссылке, с очищенною совестию. Я был счастлив!
Но бог судил продлить мои преступления.
В дороге я сильно заболел, меня привезли товарищи на хутор в лесу, близ Дубно, к старухе знахарке, и там оставили. Старуха меня кормила и лечила как знала.
Старшинство свое я передал товарищу, Прохору Кичатому, человеку физически сильному и не разбойничьего сердца.
С октября месяца я пролежал до апреля почти не двигаясь. В конце апреля я мог встать на ноги и перейти в другой угол хаты.
На фоминой неделе я уже сидел под хатою и мог любоваться тихими меланхолическими прелестями оживающей природы.
Это был хутор самый уединенный, так что, кажется, кроме моей лекарки и ее старого мужа, никто и не подозревал существования их хутора.
Я начал выходить почти каждый день, с позволения моей лекарки, посидеть несколько часов под хатою.
Сижу, бывало, себе и любуюсь на прозрачный небольшой ставок, увенчанный зеленым очеретом и греблею, усаженною в два ряда старыми вербами, пустившими свои ветви в прозрачную воду. А ниже гребли старая, как и ее хозяин, мельница об одном колесе с сладко шепчущими лотоками. На поверхности пруда плавают гуси и утки, каждая в двух экземплярах – одна вверх головою, а другая вниз; издали кажется, что и в воде утка и на воде утка. На берегу около гребли маленький челнок, опрокинутый вверх дном, а под навесом старой мельницы развешена рыбачья сеть. А кругом хутора – дубовый лес непроходимый, только в одном месте вроде просеки, как будто нарочно для полноты пейзажа. И в эту просеку, далеко на горизонте синеют, как огромные бастионы, отрасли Карпатских гор.
Я оживал, глядя на эту прекрасную волшебницу-природу.
По временам навещал меня Прохор Кичатый, привозил всегда подарок моей лекарке, а мне разных лакомств, говорил мне, что товарищи без меня соскучились, что заработков никаких нету, что он чуть было не попался в руки полиции в Кременце и что меня товарищи ждут, как самого бога с неба.
Но у меня было другое на уме: я думал, как бы только собраться с силами и пуститься прямо в Почаев {64}помолиться святой заступнице почаевской, потом пробраться на берега Случи повидаться с панною Магдаленою, а потом уже – куда бог пошлет, только не к товарищам.
В конце мая я мог уже с помощию посоха пуститься в дорогу.
Оделся я в старое крестьянское платье, взял котомку на плечи, посох в руки и, по старой привычке, пистолет за пазуху, поблагодарил, чем мог, моих добрых хозяев, помолился и вышел из хаты. Старик вывел меня на кременецкую дорогу, и я, простившись еще раз со стариком, пошел по дороге к Кременцу, думая сначала зайти в Почаев, а потом уже идти на свидание с панною Магдаленою.
Возвращаясь из Почаева, я зашел в Кременец посмотреть на королеву Бону {65}и на воздвигавшиеся в то время палаты или кляштор для кременецкого лицея.
Мир праху твоему, благородный Чацкий {66}! Ты любил мир и просвещение! Ты любил человека, как нам Христос его любить заповедал!
Из Кременца пошел я через село Вербы в Дубно, а из Дубна на Острог, Корец и на Новгород-Волынский, на берега моей родной, моей прекрасной Случи.
Тут я отдохнул и на другой день к вечеру был уже в виду своего села.
Я думал было переночевать в дуброве и поутру уже дать знать панне Магдалене, что я здесь. Но как я дам знать? У меня не было ни бумаги, ни чернил, ни пера.
Подумавши, я решился идти в знакомую корчму, написать там записку и послать еврея к панне Магдалене; притом же меня и голод сильно одолевал. Я пошел в корчму.
Еврей не показал виду, что узнал меня. Я спросил у еврея чвертку водки, кусок хлеба и тарань. Утоливши немного голод, я спросил лоскуток бумаги, перо и чернила, написал записку и послал еврея на панский двор.
В ожидании ответа я прилег было на лавке отдохнуть и уже начал дремать.
Вдруг двери отворились, и в корчму вбежал граф с толпой вооруженных мужиков.
– Держите! Вяжите его! – кричал он.
Я вскочил с лавки, вынул пистолет, ни в кого не целясь, спустил курок, и граф повалился на пол.
Прости мне, милосердный господи, сей грех невольный! Я не хотел его смерти. Он был у меня в руках, и я отпустил его.
Сам сатана направил мою руку, и я сделался невольным убийцею, прослывши разбойником во всем крае. Это была первая и последняя жертва моих рук. Но это не оправдание, – я все-таки был разбойником и посягателем на чужое добро.
Мужики, зная меня лично и зная мою разбойничью славу, которая была сопряжена со слухами, будто я колдун, не хотели вязать меня, но я бросил пистолет в голову предателю-еврею и в сопровождении мужиков пошел на панский двор.
На дворе уже меня связали по приказанию графини и заперли в знакомый уже мне погреб. Но уже не дали мне ни хлеба, ни воды, и панна Магдалена не присылала мне ни чаю, ни белого хлеба, как это делала прежде. И она! – так я думал тогда, – и она, моя добрая! моя единая! и она оставила меня!
Я пролежал в погребе связанный трое суток; это я знаю потому, что три раза показывался дневной свет сверху, в душник. Мне не подавали ни хлеба, ни воды, да мне и не нужно было ни того, ни другого; меня кормило мое сердечное горе и поили слезы, а мучила и терзала совесть. Я почувствовал все свои преступления разом. Я был хищник, грабитель и, наконец, убийца. О, мое горе в ту бесконечную трехсуточную ночь было неизмеримо! Мне представлялися все мои преступления так живо, так страшно выразительно, что я закрывал глаза руками. Иногда, и то ненадолго, картина переменялася, и мне представлялося мое детство: пустка, ночь в поле, вой волков, лановый, пан Кошулька и моя благородная панна Магдалена, а за нею, как светлый божественный ангел, прекрасная моя, непорочная Марыся… Боже мой! боже мой! вскую мя еси оставил!
Картина переменялась, и я видел погубившего меня врага моего, кругом меня все в огне горело, и я впадал в бешенство: кричал, плакал и грыз каменный пол погреба.
Мучения мои были страшны, молитвы и всякие другие добрые, помыслы покинули меня на жертву лютым демонам.
Припадки бешенства повторялись со мною ежечасно. Однажды я пришел в себя и почувствовал жажду, подполз к дверям (я ходить не мог, потому что у меня были связаны руки и ноги), стал кричать, просить воды. Никто не отзывался на мой крик. Жажда меня терзала. Я рванулся, и веревки на руках подались, я еще раз, – веревки чувствительно ослабли. Кое-как я освободил руки и потом ноги, прошелся ощупью по своей темнице, и мне стало будто легче. Подхожу к душнику, смотрю – свету не видно, должно быть, ночь. Теперь все спят; неужели ж и сторожа мои заснули? Подхожу к дверям, стучу, зову – никто не откликается. Через минуту прислушиваюсь, на дворе слышу легкий шум и голоса людей, вероятно, меня услышали. Кричу опять, никто не отзывается, а шум на дворе все более и более увеличивается. Оглядываюсь – из душника красный свет пробился в погреб, и слышу голоса: пожар! пожар!
Тут я потерял всякую надежду выпросить воды, – кто теперь меня услышит? А жажда сильнее и сильнее меня стала мучить, я пробовал лизать сырые стены, но мне легче не было; я знал, что в погребе есть вино, но оно было заперто другою железною дверью. Я выл, как зверь, от страдания. Мне представлялася со всеми ужасами голодная смерть. Слушаю, дверь отворяют и зовут меня по имени. Я бросился к двери, – дверь растворилася, и я увидел на пороге своих товарищей. Первое мое слово было: воды! Принесли мне воды, я напился, оглядываюсь вокруг себя, и страшно выговорить, что я увидел.
На дворе, при свете пожара, соучастники мои режут, и бьют, и живых в огонь бросают несчастных гостей графини.
О, лучше не родиться, чем быть свидетелем и причиною такого ужаса!
Пока меня держали в погребе, крестьяне дали знать моим товарищам о случившемся, и они прилетели на выручку. Ужасная была выручка!
К графине собралося много гостей с детьми и женами по случаю похорон сына. Но ему бог не судил в земле лежать, – труп его грешный сгорел на пышном катафалке.
Все уже было готово к похоронам, уже ксендзы начали панихиду петь, как тут мои разбойники налетели, как коршуны, зажгли великолепные палаты, и началось убийство. Грудных младенцев не пощадили. Варвары!
А крестьяне собралися на двор, как бы на потешное зрелище. Ни один и пальцем не пошевелил; только хохотали, когда разбойники бросали со второго этажа толстого пана или пани. Грубые, жестокосердые люди!
А кто их огрубил? Кто ожесточил? Вы сами, жестокие, несытые паны!
Крестьяне, впрочем, спасли панну Магдалену за ее ангельскую доброту и за то, что она по воскресеньям ходила в нашу церковь. Спасли и мою бедную Марысю, потому что она была не панна.
Я отыскивал их в селе, мне хотелося еще хоть раз взглянуть на них, бедных. Но крестьяне не показали мне их убежища, бояся, чтобы я не убил невольно преступную Марысю.
Бедные, они не верили, что я чистосердечно простил ее.
И мне не удалося их тогда увидеть.
При свете пожара товарищи увлекли меня с собою, по направлению к корчме, где я в первый раз встретил разбойников и где совершил убийство. Товарищи напилися вина, зажгли корчму и еврея-предателя живого в огонь бросили.
Мы ушли ночевать в дуброву.
К удивлению моему, я не видел у разбойников никакой добычи, следовательно, все это было сделано только для моей свободы. О бедная моя свобода! убийством и пожаром ты куплена была!
Я не принимал никакого участия в делах преступного братства, я почти все хворал, и вскоре опять ко мне болезнь прежняя возвратилась. Случилося это недалеко от моей родины, то я и просил товарищей перенести меня в село и положить в тытаревой хатке, что в саду, а там что бог даст. Долго они не соглашались, боясь преследования полиции, но я убедил их в моей безопасности; я знал наверное, что меня тытарь не выдаст, а если б и выдал, то я не боялся правосудия и казни, потому что я и без того казнился ежеминутно. Мне страшно надоела зверям подобная разбойничья жизнь.
Ночью перенесли меня товарищи в назначенную мной хатку в тытаревом саду. Положили меня в хатке и дали знать хозяину, что у него есть гость недужий.
Поутру пришел ко мне сам хозяин. Принес мне воды, хлеба и кипяченого молока с шалфеем; с участием расспросил, что у меня болит, и напоил меня горячим молоком. Потом принес мне постель и к вечеру привел знахаря. Прекрасное, благородное лицо знахаря, с белою окладистою бородою, внушило мне доверие, но лекарства его все-таки мне не помогали.
Хозяин и знахарь просиживали со мною целые дни, но женщин я не видал у себя в хате; вероятно, благоразумный хозяин не говорил своей жене про меня, не полагаясь на женскую скромность.
Мне становилося хуже и хуже, так что я просил к себе священника позвать.
Привели ко мне ночью священника, и я узнал того самого отца Никифора, который когда-то обещал сделать из меня человека. Он был уже седой, но бодрый старец. Удивился простодушный старик, когда я напомнил того бедного Кирилка-сироту, взятого им давно когда-то у бедной вдовы Дорошихи.
После исповеди и принятия святых тайн я почувствовал себя лучше. Святое, великое дело религия для человека, тем более для такого, как я, грешника!
День ото дня мне становилося лучше. Добрый хозяин мой как ни старался скрыть мое пребывание в его доме, одначе тайна была открыта.
Поздно вечером я сидел у окна и слушал пение соловья в саду, вдыхая в себя запах цветущих черешен и вишен.
За деревьями мне показалося что-то, будто мелькнуло черное, смотрю пристальнее – человеческая фигура тихо подходит к хате; ближе – вижу, женщина в черном платье, только не крестьянского покроя. Подходит к самому окну, и кого же я узнал? Мою единую, мою незабвенную панну Магдалену.
Она вошла тихонько в хату.
Мы судорожно обнялись и поцеловались и долго держали друг друга за руки, не говоря ни слова.
Потом, как сестра, как самая нежная, нежная любовница, она обвила меня своими руками и горько, горько зарыдала.
Недолго продолжалося наше свидание, потому что я был еще слаб; она это поняла и вскоре простилася со мною, обещаяся навестить меня на другой день. Она ради моей бедной Марыси осталася с ней жить в селе, потому что Марыся, как подданка, не могла следовать за нею в монастырь. Случайно узнала она о моем пребывании у тытаря. Она искала для себя квартиру в селе, и ей рекомендовала дьяконша тытареву хатку в саду как самое уютное и дешевое убежище.
Она днем пришла посмотреть хатку. Хозяева мои были в поле на работе, а то бы они ее не пустили в сад.
Я в то время спал, когда она приходила в хатку. Она меня видела спящего, узнала и не разбудила, а посетила вечером.
Свидания наши продолжались ежедневно, когда хозяева мои уходили в поле на работу. И, боже мой, о чем мы с ней не переговорили! Какие возвышенные, благородные помыслы и чувства она исповедала передо мною!
Она рассказала мне, как она по получении моего письма, в котором я просил у нее свидания, приходила каждый вечер в продолжение лета и осени в эту самую хатку и дожидала меня иногда до рассвета. И какие чистые, христианские средства в то время она придумывала к моему обращению! Мы исповедались друг перед другом, говорили обо всем, что было близкого, сердечного, но о Марысе не было сказано ни слова; она как бы боялась напомнить мне о ней, а я тоже боялся услышать ее имя из непорочных уст панны Магдалены.
А Марыся моя бедная приходила каждый раз с панною Магдаленою и оставалася в саду, не смея зайти ко мне в хату.
Однажды я собрался с духом и спросил:
– Что моя бедная Марыся? Жива ли она?
– Жива, но не скажу здорова, – отвечала панна Магдалена.
– Что же с нею? – спросил я с трепетом.
– Она страдает! сердечным недугом страдает!
– Можно ли мне ее увидеть? Приведите ее ко мне, пускай я хотя взгляну на нее.
Панна Магдалена вышла из хаты и через минуту возвратилась, ведя за собою Марысю. Я не узнал ее: она страшно переменилась – бледная, худая и с каким-то лихорадочным блеском в глазах.
Долго она стояла как окаменелая, наконец едва внятно проговорила:
– Прости!.. Прости меня!
И, рыдая, упала к ногам моим.
Я был слишком потрясен и не мог проговорить ей ни слова.
Безмолвное свидание наше скоро кончилось. Панна Магдалена вывела ее полуживую из хаты, и я не смел останавливать. Панна Магдалена имела надо мною безграничную моральную власть, я повиновался ей, как ребенок матери.
Марыся вместе с панною Магдаленою посещали меня каждый день, и однажды Марыся рассказала мне свою грустную историю со дня, как я уехал в Одессу продавать пшеницу.
Не повторяю я тебе, друже мой, этой тяжкой повести, потому что она отвратительно гнусна и, к несчастию, слишком обыкновенна на нашей бедной родине!
Она, несчастная, была матерью и в нищете растила своего бедного сына: графиня покойная не хотела ничем помочь нищей матери своего внука, страшася ложного стыда.
Бедные вы, мелкодушные графини!
День ото дня мне было лучше; а между нами решено было, как скоро можно будет мне выходить, то отправиться не в отдаленный глухой монастырь, как я прежде думал, а идти в Житомир и явиться к губернатору, рассказать ему все преступления свои и положиться на милосердие божие и на правосудие человеческое. Я так и сделал.
Ночью, простившись с моим скромным и гостеприимным хозяином, я, не видимый никем, вышел из села.
В лесу, на берегу Случи, меня ожидала панна Магдалена и Марыся, – мы так еще днем условились.
С рассветом они вывели меня на житомирскую дорогу, и мы рассталися, рассталися навеки.
– И при последнем целовании незабвенная моя панна Магдалена благословила меня этою святою книгою, – и он указал на лежавшую на столе библию, о которой я говорил уже.
– Святая, божественная книга, – продолжал он восторженно, – мое единое прибежище, покров и упование.
Старик задумался, заплакал и сквозь слезы говорил, как бы сам про себя: «Одна-единственная вещь, уцелевшая от пожара».
– Друже мой, – сказал он после минутного молчания, – ежели бог приведет тебя в наш край, то посети бедное село на берегу Случи, и если найдешь их живыми, то поцелуй их от меня, а если померли, то отслужи за их мученические души панихиду. Я пришел в Житомир, явился к губернатору, чистосердечно рассказал ему свою страшную историю и был арестован. Меня судили как убийцу и осудили милостиво и человеколюбиво. Вот тебе и вся моя грешная повесть, мой друже и мой милый земляче. А остальное пускай тебе доскажут кандалы мои и мои преждевременные седины.
1845 года, Киев.
Княгиня {67}
Село! О, сколько милых, очаровательных видений {68}пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове! Село! И вот стоит передо мною наша бедная, старая белая хата, с потемневшею соломенною крышею и черным дымарем, а около хаты на причилку яблоня с краснобокими яблоками, а вокруг яблони цветник – любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки! А у ворот стоит старая развесистая верба с засохшею верхушкою, а за вербою стоит клуня, окруженная стогами жита, пшеницы и разного всякого хлеба; за клунею по косогору пойдет уже сад. Да какой сад! Видал я на своем веку-таки порядочные сады {69}, как, например, уманский и петергофский, но это что за сады! Гроша не стоят в сравнении с нашим великолепным садом: густой, темный, тихий, словом, другого такого сада нет на всем свете. А за садом левада, за левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручей, уставленный вербами и калиною и окутанный широколиственными, темными, зелеными лопухами; а в этом ручье под нависшими лопухами купается кубический белокурый мальчуган, а выкупавшись, перебегает он долину и леваду, вбегает в тенистый сад и падает под первою грушею или яблонею и засыпает настоящим, невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, думает и спрашивает сам у себя: «А что же там за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо. А что, если бы пойти да посмотреть, как это они его там подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это недалеко».
Встал и, не задумавшись, пошел он через долину и леваду прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел царыну, прошел с полверсты поля, на поле стоит высокая черная могила. Он вскарабкался на могилу, чтобы с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо.
Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны: и по одну сторону село, и по другую сторону село, и там из темных садов выглядывает треглавая церковь, белым железом крытая, и там тоже выглядывает церковь из темных садов, и тоже железом крытая. Мальчуган задумался. «Нет, – думает он, – сегодня поздно, не дойду я до тех железных столбов, а завтра вместе с Катрею {70}. Она до чередыкоров погонит, а я пойду к железным столбам, а сегодня одурюМикиту (брата) {71}, скажу, что я видел железные столбы, те, что подпирают небо». – И он, скатившись кубарем с могилы, встал на ноги и пошел, не оглядываясь, в чужое село. К его счастью, встретились ему чумаки и, остановивши, спросили:
– А куда ты мандруешь, парубче?
– Додому.
– А де ж твоя дома, небораче?
– В Киреливци.
– Так чого ж ты идешь у Морынци?
– Я не в Морынци, а в Киреливку иду.
– А колы в Киреливку, так сидай на мою мажу, товарищу, мы тебе довеземо додому.
Посадили его на скрыньку, что бывает в передке чумацкого воза, и дали ему батиг в руки, и он погоняет себе волов, как ни в чем не бывало. Подъезжая к селу, он [увидал] свою хату на противоположной горе и закричал весело:
– Онде, онде наша хата!
– А колы ты вже бачишь свою хату, – сказал хозяин воза, – то и иди соби с богом!
И, снявши мальчугана с воза, поставил на ноги и, обращаясь к товарищам, сказал:
– Нехай иде соби с богом!
– Нехай иде соби с богом! – проговорили чумаки, и мальчуган побежал себе с богом в село.
Смеркало уже на дворе, когда я (потому что этот кубический белокурый мальчуган был не кто иной, как смиренный автор сего хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа) подошел к нашему перелазу. Смотрю через перелаз на двор, а там, около хаты, на темном зеленом бархатном спорышевсе наши сидят себе в кружке и вечеряют; только моя старшая сестра и нянька Катерина не вечеряет, а стоит себе около дверей, подперши голову рукою, и как будто посматривает на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелаза, то она вскрикнула: «Прыйшов! прыйшов! – и, подбежав ко мне, схватила меня на руки, понесла через двор и посадила в кружок вечерять, сказавши: – Сидай вечерять, приблудо!» Повечерявши, сестра повела меня спать и, уложивши в постель, перекрестила, поцеловала и, улыбаясь, назвала меня опять приблудою.
Я долго не мог заснуть; происшествия прошлого дня мне не давали спать. Я думал все о железных столбах и о том, говорить ли мне о них Катерине и Миките, или не говорить. Никита был раз с отцом в Одессе {72}и там, конечно, видел эти столбы. Как же я ему буду говорить о них, когда я их вовсе не видал? Катерину можно б одурить… Нет, я и ей не скажу ничего, – и, подумавши еще недолго о железных столбах, я заснул.
Через два-три года я уже вижу себя в школе у слепого Совгиря (так назывался наш нестихарный дьячок {73}), складывающего тму-мну. И, проскладавши, бывало, до тля-мля {74}, выйду из школы на улицу, посмотрю в яр, а там мои счастливые сверстники играют себе на соломе около клуни и не знают, что есть на свете и дьяк и школа. Смотрю, бывало, на них и думаю: «Отчего же я такой бесталанный, зачем меня, сердечного, мучат над проклятым букварем?» – и, махнувши рукою, дам драла через цвынтарьв яр, к счастливцам, на светлую, теплую солому, и только что начну свои гимнастические упражнения на соломе, как идут два псалтырника, берут меня, раба божия, за руки и обращают вспять, сиречь ведут в школу, а в школе, сами здоровы, знаете, что делается за несвоевременные отлучки.
Совгирь-слипый (слепым его звали за то что он был только косой, а не слепой) был в нашем селе дьячком не то чтобы стихарным, настоящим дьячком а так себе приблудою. Предшественник его, Никифор Хмара, тоже был у нас нестихарным дьячком; только раз у тытаря на медузахворал ночью, а к утру и помер, бог его знает отчего. А Совгирь-слипый случился тут же у тытаря на банкетеда, не долго думаючи, в следующее же воскресенье стал на клиросе. Пропел обедню, прочитал апостола, да так прочитал, что громадаи сам отец Касиян только чмокнули. Вот так после обедни громадою был провозглашен слипый Совгирь дьячком и с честию, подобающею его сану, введен был в школу, яко в свою дидивщину. Великий человек громада!
Поселился он в своей школе, и школяры в том числе и аз невеликий, пошли к нему за наукою. А собою был он росту высокого, широкоплечий и смотрел бы настоящим запорожцем, если бы не был косой; даже свою незаплетенную косу носил он как-то вроде чупрыны.
Нрава он был более сурового, нежели веселого а в отношении житейских потребностей и вообще комфорта он был настоящий спартанец. Но что мне более всего в нем не нравилось, так это то, что, бывало, в субботу после вечерни начнет нас всех, по обыкновению, кормить березовою кашею; это все еще ничего пускай бы себе кормил, нам эта каша была в обыкновение, а то вот где, можно сказать, истинное испытание: бьет бывало, а самому лежать велит да не кричать, а не борзяся и явственно читать пятую заповедь. Настоящий спартанец!
Ну, скажите, люди добрые, рождался ли когда на свет такой богатырь, чтобы улежал спокойно под розгами? Нет, я думаю, такого человека еще земля не носила.
Бывало, когда дойдет до меня очередь, то я уже не прошу о помиловании, а прошу только, чтобы он умилосердился надо мною и велел меня, субботы ради святой, придержать хоть немножко. Иной раз, бывало, и умилосердится, да уж так отжарит, что лучше б и не просить о милосердии.
Мир праху твоему, слипый Совгирю! Ты, горемыка, и сам не знал, что делал: тебя так били, и ты так бил и не подозревал греха в своем простосердечии! Мир праху твоему, жалкий скиталец, ты был совершенно прав!
И вот я, к несказанной моей радости, кончил Мал бех {75}, то есть кончил псалтырь, поставил, по обыкновению, кашу братии с грошами, совершил сей священный обряд неукосненно по всем преданиям старины и на другой же день принялся мелом выводить премудрые каракули на крашеной доске, сиречь я уже был не псалтырник, а скорописец.
В эту-то почти счастливую для меня эпоху случилось преобразование школы: прислали к нам из самого Киева стихарного дьячка. Совгирь-слипый сначала было поартачился, но принужден был уступить перед лицом закона и, собравши всю свою мизерию в одну торбу, закинул ее на плечи, взял патерыцю в руку, а тетрадь из синей бумаги со сковородинскими псалмами {76}в другую и пошел искать себе другой школы. А братия моя по науке, аки овцы от волка рассыпашася, так они от нового стихарного дьячка, зане пьяница бе, паче всех пьяниц на свете. Тяжко противу рожна прати! И я, терпеливейший из братии, наконец взял свое орудие – таблицу, перо, каламарьс мелом {77}и пошел восвояси с миром, дивяся бывшему.
С этого времени начинается длинный ряд самых грустных, самых безотрадных моих воспоминаний! Вскоре умирает мать, отец женится на молодой вдове и берет с нею троих детей вместо приданого. Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве. Не проходило часа без слез и драки между нами, детьми, и не проходило часа без ссоры и брани между отцом и мачехою; меня мачеха особенно ненавидела, вероятно за то, что я часто тузил ее тщедушного Степанка. Того же года отец осенью поехал за чем-то в Киев, занемог в дороге и, возвратясь домой, вскоре умер.
После смерти отца один из многих моих дядей, чтоб вывести сироту в люди, как он говорил, предложил мне за ястие и питие пасти летом стадо свиное, а зимой помогать его наймитупо хозяйству, но я другую часть избрал.
Взявши свою таблицу, каламарь и псалтырь, отправился я к пьяному стихарному дьячку в школу и поселился у него в виде школяра и работника. Тут начинается моя практическая жизнь. Пребывание мое в школе было довольно не комфортабельно. Хорошо еще, если случались покойники в селе (прости меня, господи!), то мы еще кое-как перебивались, а не то просто голодали по нескольку дней сряду. Вечером иногда, бывало, я возьму торбу, а учитель возьмет в десную посох дебелый, а в шуйцу сосуд скудельный (мы и жидкостями не пренебрегали, как то: грушевым квасом и прочая) и пойдем под окнами петь богом избранную. Иной раз принесем-таки кое-что в школу, а иной раз и так насухо придем, разве только что не голодные.
Я знал почти всю псалтырь наизусть и читал ее, как говорили слушатели мои, выразительно, то есть громко. Вследствие такого моего досужества не был в селе похоронен ни один покойник, над которым бы я не прочитал псалтыри. За прочтение псалтыри я получал кныши копуденьгами. Деньги я отдавал учителю как его доход, и он уже от щедрот своих уделял мне пятак на бублики, и это был один-единственный источник моего существования. При таких, можно сказать, умеренных, доходах я не мог жить открыто и одевался даже не щегольски, как прилично званию школяра. Ходил я постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечной грязной бессменной рубашке, а о шапке и сапогах и помину не было ни летом, ни зимою. Однажды дал мне какой-то мужик за прочтение псалтыри на пришвы ременю, да и тот от меня учитель отобрал как свою собственность.
И много, много мог бы я рассказать презанимательных и назидательных вещей на эту тему, да рассказывать как-то грустно.
Так пролетели четыре жалких года над моею детскою головою.
Потом воспоминания мои принимают еще печальнейшие образы. Далеко, далеко от моей бедной, моей милой родины
Без любви, без радости
Юность пролетела. {78}
Не пролетела, правда, а проползла в нищете, в невежестве и в унижении. И все это длилось ровно двадцать лет.
В продолжение моего странствования вне моей милой родины я воображал ее такою, какою видел в детстве, – прекрасною, грандиозною, а о нравах ее молчаливых обитателей я составил уже свои понятия, гармонируя их, разумеется, с пейзажем. Да мне и в голову не приходило, чтобы это могло быть иначе, а выходит, что иначе.
После двадцатилетних испытаний я немного оперился и, разумеется, полетел прямо в родимое гнездо. Вскоре передо мною засверкали давно знакомые мне беленькие хатки. Они как будто улыбалися мне из темной зелени.
Может ли быть место в этих милых приютах нищете и ее гнусным спутникам! Нет! А иначе человек был бы не человек, а простое животное. С этим сладким убеждением я проехал почти всю Черниговскую губернию, нигде не останавливаясь. Из города Козельца мне нужно было взять в сторону от почтовой дороги, – взглянуть поближе на мой эдем и даже выслушать сию печальную и правдивую повесть.








