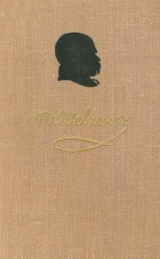
Текст книги "Драматические произведения. Повести."
Автор книги: Тарас Шевченко
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
И горькие рыдания и свободные [вздохи] остались напрасными: капитан заболел и до выздоровления остался в Муроме.
Каков же был ужас маменек и их милых дочерей, метивших на капитана как на самую выгодную партию, когда к нему (в отсутствие наше) приехали жена и теща и застали его не на одре болезни, а в кругу собутыльников. Теща начала было ему приличную случаю проповедь, но он ее остановил такими словами:
– Вы, кажется, умная женщина, а такие глупые вещи говорите. Ведь вы видели, вы знали, кому вы от давали свою единственную дочь, – так о чем же вы мне теперь толкуете?
Старушка посмотрела на него, заплакала и, взявши свою единственную дочь, отправилась восвояси, а он, хохоча, кричал им вслед:
– Куда торопитесь? Не угодно ли со мною пообедать?
Каков молодец!
Несмотря, однакож, на все это, влияние его на нежный пол продолжалось, так что бедные мужья и отцы не видели других средств избавиться от опасного капитана, как написать просьбу государю от лица всего конклава {248}и слезно просить, чтобы за примерные добродетели капитана перевел бы его снова в гвардию. Не знаю, по их ли просьбе, или по чьей другой, только он, проживши еще два года, был переведен, – только не в гвардию, а в город Вологду под надзор полиции. А в продолжение этих двух лет он разыграл еще с десяток слезных мелодрам и последнюю, самую патетическую, содержания следующего.
Выходя в Москву, вагенбург {249}и прочие полковые тяжести нам приказано было оставить в Муроме, из чего и следовало, заключить, что мы вскоре возвратимся на прежние квартиры. Офицеры, которые имели порядочные квартиры, оставили их за собою; я и свою квартиру тоже за собой оставил, а при ней мебель и прочую громоздкую мизерию. Полковой командир, спасибо ему, уважил мою просьбу и отдал в мое полное распоряжение Тумана, а я Туману отдал в полное распоряжение свою квартиру и все к ней принадлежащее. Прощаяся с ним, я наказывал ему пуще своих глаз беречь Варочку и как можно реже позволять ей посещать фельдшершу.
– Потому, – говорю, – что ты сам знаешь, что за зверь остается в городе. Неравно как-нибудь она ему на глаза попадется, – тогда она пропала.
– Бога гневите, ваше высокоблагородие! – сказал он, – воно ще дытына!
Я замолчал, зная по опыту, что никакие доказательства не в состоянии поколебать упрямого земляка моего. А заметьте, что этой дытыне минул уже пятнадцатый год.
Сходили мы в Москву и возвратилися назад благополучно. В Муроме тоже все по-старому: квартиру я свою и прочее добро нашел в отличнейшем порядке, иначе и быть не могло. Варочка встретила меня с самой детской, непритворной радостью, а Туман, отрапортовавши мне о благополучии, благодарил меня, что я его оставил в Муроме, потому, говорит, что он в продолжение этого времени, кроме того, что выучился выводить все цифры на бумаге, да еще зашиб препорядочную копейку: весь город наделил сапогами, а последний весь почти месяц работал на одного капитана. «Ну, начало сделано!» – подумал я.
– Не приходил ли он к тебе иногда сапоги примеривать? – спросил я.
– Приходил, ваше высокоблагородие, раз несколько приходил.
«Плохо», – подумал я и отпустил простодушного добряка, не сказавши ему первый раз ни слова.
На другой день спросил я его, кто рекомендовал его капитану? Туман немножко замялся и сказал:
– Признаться сказать, ваше высокоблагородие, фельдшерша.
– А что я тебе говорил, выходя в Москву, а? – спросил я.
– Помню, ваше высокоблагородие.
– Нет, не помнишь, забыл. Припомни и подумай хорошенько, что из всего этого может выйти. А что, он видел у тебя Варочку?
– Видел, ваше высокоблагородие.
– И говорил с нею?
– И говорил, ваше высокоблагородие.
– И за сапоги платил не торговавшись?
– Не торговавшись, ваше высокоблагородие, даже вперед сколько угодно денег предлагал, только я не брал, – не треба було.
– Видишь, Туман, как я все знаю? Слушай же: с сегодняшнего дня, боже тебя сохрани, если ты пустишь хоть за ворота без себя Варочку, – прощайся с нею навеки! слышишь?
– Слушаю, ваше высокоблагородие!
– То-то же, слушай и не забывай! А то и тебя и меня с тобою бог накажет за наше нерадение: за чужое дитя мы больше отвечаем перед людьми и перед богом! Ступай себе, Туман, за своим делом, – сказал я в заключение своей проповеди.
– Спасыби за науку, ваше высокоблагородие, – сказал растроганный Туман и вышел.
После этого он каждое утро, рапортуя мне о благополучии по хозяйству, рапортовал также и о похождениях своих с Варочкою. [Ходили они],– и то раз или два раза в неделю, – на берег Оки, к рыбакам, или так просто, для проходки, и иногда к фельдшерше на чашку чаю, – тем и ограничивались их похождения. Да еще раз в неделю, то есть каждое воскресенье, ходили они к обедне в церковь святых угодников.
А в городе между тем, то есть в кругу дворян и даже в мирном кругу купеческом, история за историей повторялася, и самого скандального содержания, а главным действующим лицом всех этих новелл был, разумеется, наш беспардонный капитан. К зиме в городе, по примеру прошлых зим, составился дворянский клуб, или собрание. На первом, на втором бале в собрании я хотя и был, но не заметил ничего необыкновенного, а прочие заметили и мне уже после сообщили, что на балах не показывалась ни одна уездная львица, а причиною тому был не кто другой, как все тот же наш беспардонный капитан. И самые прескверные анекдоты сочинялись по случаю непоявления на бале львиц, а смиренные овечки, на которых он не обращал внимания, скромно варьировали эти анекдоты, чувствительно взирая на изверга-капитана.
Я постоянно ходил к обедне в церковь святых мучеников Бориса и Глеба, что в Благовещенском монастыре, и вдруг что-то мне вздумалось пойти к обедне в церковь Фрола и Лавра. Прихожу, перекрестился, гляжу, – предчувствие меня не обмануло: капитан тут, а перед ним в шагах двух Варочка, а около нее фельдшерша и что-то шепчет ей на ухо и ставит свечки перед образами. Капитан так пристально смотрел на затылок и толстые темнорусые косы Варочки, что не заметил, как я прошел мимо него и почти рядом с Варочкой остановился.
Странная и непонятная вещь! Отчего, например, дома я каждый день любовался красотою Варочки, и ни разу не бросались мне в глаза такие милые и, можно сказать, пластические подробности, как в церкви; например: на белом, изящно округленном затылке прозрачно вьющиеся кудри, – я вам скажу, это такая сатанинская прелесть, против которой не в силах человек устоять! Я перекрестился и двинулся несколько шагов вперед.
По окончании обедни на паперти встретился мне капитан, и ему, как я заметил, ужасно хотелося зайти ко мне на квартиру, но я искусно отманеврировал, раскланялся с ним на перекрестке и пошел по направлению к квартире полкового командира, где его хоть и принимали, но весьма осторожно, потому, правду сказать, что командир наш был уже старик и вдобавок израненный старик, командирша же еще баба хоть куда, а вдобавок еще и немка, так оно, знаете, [опасно] было пускать такого зверя в дом, каков был капитан.
На другой день после рапорта спросил я у Тумана, который теперь будет год Варочке. Он долго считал по пальцам и, наконец, сказал:
– 3 Варвары симнадцятый пошел.
«Гм… семнадцатый! – подумал я, – опасно!..» – и я рассказал ему, что я вчера заметил в церкви и каких от этого последствий ожидать можно и даже должно. Туман долго молчал, повеся голову, потом вздохнул и проговорил как бы про себя:
– Морока, тай годи! – И, помолчавши, продолжал: – Порадьте, ваше высокоблагородие, що мени з нею робыть?
– А что робыть? Найти порядочного человека да выдать замуж, другого средства я не знаю.
– Замуж… замуж… – говорил он шепотом. – Замуж, – продолжал он тем же тоном. – За кого? Ни за кого! – сказал он, возвыся голос. – Пропаду! Я здохну, як та стара собака, без ней, ваше высокоблагородие!
– Ну так сам женись.
– Не можна, ваше высокоблагородие. Грих од бога, – вона моя дытына. И люды пальцями на мене по-казуватымуть. Бачь, скажуть, старый дурень, для чого выкохав байстря! – И он снова опустил голову и задумался. Глядя на него, мне самому взгрустнулося. «Хорошо было бы, – подумал я, – если бы все родные отцы так любили своих детей, как этот бедняк приемыша».
– Ну, что же ты придумал, Туман? – спросил я его.
– Ничего, ваше высокоблагородие.
– Так пока и не придумывай ничего, только смотри за нею хорошенько, – может, даст бог, опасность пройдет.
Я это говорил потому, что шалости капитана становились похожими на денной разбой, и полковой командир два раза уже аттестовал его как человека неисправимого и вредного полку.
Прошло лето, настали темные долгие вечера осенние, а с ними и спутницы их – грязь и скука. По вечерам, бывало, Туман сидит в своей комнате перед стеклянным глобусом, наполненным водою, и голенище тачает, а в углу около столика Варочка тоже или за работой, или читает в сотый раз житие Варвары-великомученицы. И всякий раз, когда она прочитывала имя Диоскора {250}, Туман плевал и шептал себе под нос: «Собака!» У них была еще и другая назидательная книга – это житие святых Петра и Февронии, тут, в Муроме, в Благовещенском монастыре, нетленно почивающих; но эту книгу она реже читала, потому, может быть, что Варвара-великомученица ее патронка. И я, бывало, по пробитии зори, отпущу фельдфебелей и, закуривши трубочку, зайду к ним, и так тихо, мило пройдет у меня время до ужина, как никогда ни прежде, ни после не проходило оно в блестящих гостиных.
Здесь прилично было бы нарисовать красавицу Варочку наподобие Сивиллы Куманской Кипренского {251}или просто юную красавицу, при свече читающую книгу, во вкусе фламандского мастера Рембрандта, но, признаюся откровенно, эта задача не по мне; притом же я и враг великий художников-самоучек, а в этом деле я был ниже всякого самоучки. Я, подобно юноше-поэту, по целым часам не сводил с нее моих очей, и бог знает какие мысли [роились] в моей седой голове. А между прочими и такие. У меня в детстве была страсть к живописи, но как отец мой был настоящий суворовский солдат, то он о живописи и вообще об изящных искусствах имел самое грубое понятие, или, лучше сказать, никакого. Мать моя была несравненно образованнее отца и, как женщина, по природе своей она хотя безотчетно чувствовала прелесть нерукотворного создания и ей любо было подмечать во мне то же самоё чувство; но чтоб посвятить меня какому-либо искусству или науке, она об этом и подумать не смела. Раз как-то, показывая ему мой рисунок, она сказала:
– А что, если бы его отдать в Академию художеств? Может быть, из него вышел бы славный живописец?
– Что? – сказал он, сердито взглянувши на нее. – Живописец?.. Маляр?.. Ты, кажется, пьяна была и не проспалась! Живописец!.. Ха, ха, ха… живописец!.. Да ты подумай, мудрая голова, дворянское ли дело в красках пачкаться?.. В Академию… вместе с холопами! Прекрасную карьеру выбрала ты своему сыну, прекрасную, нечего сказать! – И, взявши меня на руки, прибавил: – Нет, брат Саша, ты у меня будешь настоящий суворовский солдат.
Спустя год после этой сцены меня отвезли в шляхетный кадетский корпус, и из меня действительно вышел настоящий солдат, и больше ничего. И я теперь думаю, как хорошо было бы, если бы я был живописцем: я бы на полотне передал прелести– Варочки отдаленному потомству, подобно тому, как Рафаэль обессмертил свою Форнарину {252}или как Гвидо Рени {253}– целомудренную Беатриче Ченчи {254}. Но об этом теперь и толковать нечего.
Странно как-то случается с людьми: человек, например, дальновидный, – он за год, за два предвидит опасность и все меры, все средства употребляет, чтобы отвратить от себя несчастие, день и ночь не спит, слух, и зрение, и все существо его постоянно бодрствует настороже, а в самую минуту опасности возьмет да и заснет, – да как заснет! как самый счастливый человек!
Вот точно так же теперь случилося и с нами. Время уже близилось к рождественским святкам. Туман, как обыкновенно это бывает, завален был работой. Я даже на это время просил адъютанта, чтобы не тревожить его на ученье: думаю себе, – пусть человек при случае заработает себе какой-нибудь лишний грош. Вот однажды, отпустивши фельдфебеля, я, по обыкновению, закурил трубочку, надел архалук и пошел к Туману. Прихожу, он работает перед стеклянным глобусом {255}. На столике в углу горит свеча и уже порядочно нагорела, перед свечой на столе лежит развернутая книга, а Варочки нет. Ну что бы мне было догадаться и спросить, давно ли она вышла! Да что и спрашивать? – нагоревшая свеча ясно показывала, что давно. А я еще снял со свечи и сел себе, ничего не подозревая, начал спрашивать Тумана, много ли он пар уже кончил и сколько еще надеется кончить к празднику, и какую цену он берет: смотря по давальцу и лицу или со всех одинаково? На что он отвечал весьма основательно: «Однаково, бо однаково и работаю». Потом, ни с сего ни с того, перешли к воспоминанию о заграничных наших похождениях, потом о тульчинских маневрах и, наконец, свернули речь на покойного Володю.
– Да, – говорит Туман, – недаром сказано: волос довгий, а розум короткий. И те сказать, – прибавил он, – молоде, дурне, а може ще й сирота, доглядать було никому. – И он взглянул на то место, где должна была сидеть Варочка. Он заметно изменился в лице, не сводя глаз с догоравшей свечи и развернутой книги.
– [……?][4] Аж ии и дома нема, – проговорил он едва слышно и, обращаясь ко мне, сказал: – Я думаю, чом вона не читае, аж ии и в хати нема. – И он быстро встал на ноги и с работою в руках вышел из комнаты.
Минут через десять он возвратился встревоженный. Я спросил у него: «Ну, что?» – и он только шевелил губами, но слов произнести не мог; наконец, кое-как шепотом проговорил: «Нема!» Я в свою очередь тоже вскочил на ноги и сказал ему: «Беги к фельдшерше!» – а сам наскоро оделся и пошел к городничему – дать знать о случившемся и просить, чтобы он принял свои меры. Но что значила полиция в то время в уездных городах? Ровно ничего. Возвращаюсь я домой, захожу к Туману, и я думал, что он возвратился уже, – ничего не бывало: он, как я его оставил, так и остался на том месте, как окаменелый. Я спрашиваю его, был ли он у фельдшерши, и после нескольких повторений он мне едва проговорил: «Ни!» Я оставил его и еще раз обошел все комнаты, раза два справился в людской, на кухне; я искал ее, как мы обыкновенно ищем затерянную какую-нибудь мелкую вещицу раз десять в одном и том же месте; посмотрел во всех углах, за комодом, под диваном и, убедившись, наконец, что ее нигде нет, думал было лечь заснуть. Не тут-то было: только что сомкну глаза, передо мною является или капитан или Варочка. До самого свету корчился я на постели, как карась на сковороде. На рассвете я встал и пошел посмотреть, что Туман делает, потому что я его оставил ночью в самом жалком виде. Отворяю тихонько дверь и вижу в комнате едва мерцающий огненный свет, – это догорала свеча перед стеклянным глобусом, а по сю сторону того же глобуса на своем рабочем табурете сидел Туман, подперши голову обеими руками. Сначала я подумал – он спит, и хотел выйти из комнаты, но он поднял голову, посмотрел на меня и едва слышно проговорил: «Нема!» – и так проговорил страшно, что я не на шутку за него испугался. Он снова опустил голову на руки, а я тихонько вышел из комнаты, будучи вполне уверен, что никакое участие не в состоянии было разбудить его от этой страшной летаргии. А спросить бы в самом деле у психологов: каково действует на душу самое искреннее участие в таком страшном критическом состоянии, в каком теперь находилась душа моего бедного Тумана. Я про себя скажу: в полугоре на меня благодетельно действовало даже не искреннее, а так, дружеское участие, а во время самого истинного горя, когда душа наша прячется в самый темный угол, куда и собственная мысль наша проникнуть не смеет, о, тогда всякое самое нежное, самое искреннее участие делается лютейшею отравой. Вот почему я не решился утешать несчастного Тумана.
Пошел я поутру к городничему узнать, не открылось ли какого следа. Дорогою повстречался мне знакомый и после первых приветствий спрашивает:
– Как это так случилось, что у вас дворовая девка пропала?
Я не ответил ему ни слова, воротился назад домой, – к городничему незачем было ходить. И действительно, он только и умел сделать, что в тот же день благовестили во всех переулках о нашей пропаже. После этого какой тут след откроешь?
Три дня и три ночи просидел несчастный Туман на своем табурете, не подымая головы. Я испугался и советовался с доктором, и благоразумный доктор велел только окно или дверь открыть на несколько часов (а это было, как я уже сказал, зимою). Я по части врачебных наук совершенно, невинный и из усердия взял да и растворил тихонько окно и дверь. Проходит час, другой, я все заглядываю то в дверь, то в окно и думаю: что выйдет из этой операции? Смотрю, уже так будет перед вечером, Туман начал вздрагивать, а через час встал, оглянулся кругом, затворил окно и дверь, походил с полчаса по комнате, вздрагивая, и едва слышно говоря: «От тоби й на!» Потом он лег, или, лучше сказать, упал на свою койку, укрылся тулупом, и мне показалося, что он уснул. Я подумал: «Слава тебе, господи!» – и пошел тоже немного отдохнуть. Не успел я напиться чаю, деншик докладывает мне, что Туман мечется, стонет и меня к себе просит. Прихожу я, спрашиваю:
– Что с тобою, Якиме?
– Ничего. Спина! Холодно! Душно! Що знаете, то те й робить!
Я вижу, дело плохо, послал за доктором, а сам остался с ним. Он несколько раз обращался ко мне и кричал:
– Пить! Дайте пить, а то згорю!
Я подавал ему чайной чашкой квасу, и он немного успокаивался. Пришел лекарь, пощупал пульс, посмотрел на свой брегет с секундною стрелкой и сказал:
– Горячка. Отправьте его сейчас же в госпиталь.
Я его сейчас же и отправил.
Месяца два с лишним пролежал бедный Туман в госпитале. Сам лекарь начинал уже сомневаться в его выздоровлении, особенно в последние дни горячки, или, как говорят, перелома болезни. Однако железная его натура превозмогла, и он к концу первого месяца мог уже без посторонней помощи вставать с постели, а к концу второго бодро уже гулял по коридору и все есть просил, в чем, разумеется, ему отказывали.
Я же во время болезни Тумана делал все, что мог сделать, чтобы открыть хотя темный след нашей беглянки. Я устроил своих лазутчиков, и самых неусыпных. Мне фельдфебеля каждый вечер доносили подробнейше о всех движениях капитана; каждый шаг его был виден, был на счету у моих верных агентов, но ни малейшего следа, – как в воду канула. И не один я, а все в городе указывали на капитана. Да что ты станешь делать? – преступник налицо, а доказательств никаких, – и поневоле злодея, зверя назовешь человеком.
Туман уже начал поправляться, когда из Владимира приехал жандармский офицер, взял нашего капитана и повез в Вологду. Я, однакож, все еще не терял надежды; я написал частное письмо вологодскому полицеймейстеру, прося его, чтобы он уведомил меня, кто именно приедет с таким-то капитаном, и в особенности, в числе его прислуги не будет ли молодой девушки, – тут я описал приметы Варочки. Через полгода, однакож, не раньше, получил я письмо от вологодского полицеймейстера, в котором были описаны с большими подробностями как сам господин, так и его прислуга и, между прочим, горничный казачок Климка:
«Помянутый казачок Климка через четыре месяца бежал от капитана и теперь неизвестно где обретается. Вот все, что я могу вам, милостивый государь, сообщить о капитане. Девушки же, – продолжает он, – о которой вы пишете, никакой с ним не прибыло в наш город. Поговаривали сначала, что помянутый казачок Климка будто бы переодетая женщина, но это бабьи сплетни, ничего больше. Я по тому сужу, что как бы ни был человек развратен, а все-таки не решится на такое законопреступное дело. Да и то еще опровергает клевету сию, что у женщины, как у создания и физически и нравственно слабого, недостанет духу на таковой решительный поступок, как, например, бежать, – на это и мужчина не всякий решится. Нахожу ненужным писать вам о капитане: уповаю, что вы его хорошо знаете. Разве только скажу, что он ни на волос не изменился».
Письмо, как обыкновенно, заключено искони принятою вежливостью, и больше ничего. «Вологодский полицеймейстер должен быть простодушный добряк, – подумал я, – как-таки можно не проверить бабьи сплетни, как он говорит, на деле? Как можно было сомневаться в законопреступном поступке капитана, прочитавши его формуляр! А он, наверное, его читал. Простота, ничего больше!»
Что же мне теперь оставалося делать? Я вполне был уверен, что Климка-казачок – не кто иной, как наша Варочка. Бедная! Она свою участь унаследовала от своей матери. Как бы и ей не пришлося кончить, как покойница кончила! Но где она теперь? Сидит, я думаю, в пошехонской или в другой какой тюрьме да кормит вшей, а может, ее уже и на свете нет. После долгого раздумья решился я послать объявление в «Московские ведомости», «Губернские ведомости» в то время еще не печатались {256}. Сделавши это, я решился поделиться моими надеждами с Туманом: решился, говорю, потому, что Туман хотя и совершенно оправился от горячки и, несмотря на то, что восемь месяцев прошло с тех пор как Варочка пропала, а он все еще был похож на помешанного. Он и до того был неречист, а теперь совсем онемел, бросил свое ремесло и по целым дням просиживал в своей комнате, подперши голову руками. Я одного боялся, чтобы он не начал пить, – однакож, слава богу, этого не случилось.
Я не утерпел, однакож, предполагая, что надежда освежит его скорбящую душу: однажды поутру, после рапорта о благополучии по хозяйству, рассказал я ему о моем открытии. Долго он стоял передо мною молча, опустя голову. Я прошелся несколько раз по комнате, он, как статуя, не шевелился. Я хотел ему что-то сказать, только смотрю, а у него из-под опущенных ресниц слезы как горох покатились. Потом он вздохнул и едва слышно проговорил: «Капитанша!» – и, поворотя налево кругом, вышел из комнаты. Я посмотрел ему вслед и горько раскаялся в моей опрометчивости.
Это было осенью. В полку были дозволены годовые и полугодовые отпуска. Туман на другой день приходит и говорит, что он представлен в отпуск на полгода и просит меня, чтобы я не препятствовал.
– Схожу, – говорит, – до дому, чи не легше буде.
– Иди, – я говорю, – с богом, – и наказываю ему, когда будет идти через Глухов, чтобы зашел на мой хутор посмотреть, что там делается.
– Добре, зайду.
Через неделю ему выдали билет, и он, простившись со мною, ушел.
Напрасно ожидал я результата от моей публикации, – ничего не вышло. Спустя месяца три после ухода Тумана в отпуск в одно утро докладывают мне, что Туман приехал. Я удивился, что так скоро. Выхожу на двор, смотрю, из небольшой одноконной рогожанои кибитки высаживает Туман закутанную и в нагольном тулупе женщину с ребенком на руках. Туман, увидя меня, весело проговорил:
– Найшов! найшов! ваше высокоблагородие!
И действительно, это была Варочка. Но какая разница между прежней Варочкой! – обветренная, худая! Она отдала ребенка на руки Туману и, как помешанная, бросилась к моим ногам и зарыдала. Дитя проснулося на руках у Тумана и заплакало. И он, приголубливая его, понес в свою комнату. Я поднял рыдающую Варочку и повел ее вслед за Туманом.
На другой день Туман принял опять в свои руки мое хозяйство, и все у нас в доме пошло попрежнему. Однажды после рапорта я спросил его, где он нашел свою Варочку?
– Де найшов? – отвечал он мне. – В Молози {257}, в тюрьми.
Любопытство мое не совсем было удовлетворено его ответом, но я знал, что он не охотник был до подробностей, то и не расспрашивал его. Некоторое время Варочка никуда не выходила из своей комнаты, и даже от меня она пряталась. Мне тоже как-то казалося неловко к ним заходить. У Тумана я каждый день спрашивал о ее здоровье и о здоровье дитяти, и он отвечал мне:
– Благодарить господа милосердого – обое здорови.
Я соскучился по Варочке и однажды, отпустивши фельдфебелей, зашел к ним в комнату, и, как прежде бывало, Варочка читала житие Варвары-великомученицы, а Туман сидел напротив нее и нянчил на руках Еленочку. Я никогда не забуду эту истинно нравственную картину!
После моего визита, на другой день, Туман пришел ко мне, по обыкновению, и после рапорта сказал:
– Ваше высокоблагородие! Я думаю оженыться, щоб люды головою не кивали та пальцями на нас не показувалы.
«Благороднейший ты человек», – подумал я и в тот же день испросил ему у полкового командира позволение, а в следующее воскресенье я присутствовал на свадьбе Тумана в виде посаженого отца.
Варочка и после свадьбы долго еще все была грустная, задумчивая и никуда не выходила, кроме церкви. Тумана она попрежнему называла своим татом и часто плакала, глядя на него, когда он ласкал ее Еленочку, как будто свое родное дитя. Мало-помалу она как будто начала забывать свое прошедшее, стала заходить в мои комнаты, сначала в мое отсутствие, а потом и при мне. Белье мое и все, что требовало женского глаза, она взяла под свою опеку, и лучше и аккуратнее хозяйки требовать нельзя было. Однажды поутру приходит она ко мне с Еленочкой на руках, веселая такая, счастливая. Я предложил ей чашку чаю, посадил около себя и стороною повел речь о том, как она убежала и где была спрятана капитаном до поездки в Вологду. Сначала спросил я ее, бывает ли она у фельдшерши.
– Никогда не бываю, – отвечала она.
– Почему же ты не бываешь? – спросил я. – вы были такие короткие приятельницы.
– Хороши приятельницы! Она гнусная, лукавая женщина! Если бы не она, я бы до сих пор ничего не знала. Это она все наделала, – и Варочка заплакала.
Немного погодя я сказал:
– Да, таки порядочных хлопот ты нам тогда наделала: бедный Туман чуть в могилу не отправился. Но я до сих пор не могу понять, где ты была спрятана, потому что я тогда все мышьи норки перерыл в городе. Расскажи, сделай одолжение, как это так случилось?
– А вот как, – сказала она, утирая слезы. – Помните, в тот день первый снег выпал. Фельдшерша, будь она проклята, подговорила меня покататься с нею вечером, я и ушла к ней без спросу и свечу и книгу оставила на столе: думала, сейчас ворочуся, и никто не будет знать, где я была. Прихожу я к фельдшерше, а у нее самовар на столе. Она налила мне чашку чаю: чай был такой вкусный, что я попросила и другую, а потом и третью, и мне стало так хорошо, так весело, что я готова была плясать. Я про все на свете тогда забыла. В это время против окон на улице остановились сани. Мы вышли, сели и поехали. Долго мы ездили по городу, так долго, что мне спать захотелось, и так захотелось спать, что я не помню, как я и заснула. Проснулась я в теплой комнате; было темно, только в маленькие скважины сквозь ставни пробивался свет. Я стала припоминать вчерашнее катанье, но только и могла припомнить один чай и фельдшершу, и то как во сне. Вскоре отворилася дверь, и ко мне вошла деревенская старуха со свечою в руках. И я спросила ее:
– Где я?
– У добрых людей, – отвечала она.
– Как же я здесь очутилась?
– Тебя на улице подняли: знать, шальные кони из саней выбросили. Не нужно ли тебе чего? – спросила она, ставя на стол свечу.
– Не нужно ничего, – отвечала я, и старуха взяла со стола свечу и вышла вон, защелкнувши на крючок двери за собою.
Я все думала, где я и что со мною хотят делать? Долго я думала и, наконец, опять заснула. Когда проснулась я во второй раз, то уже свету в скважинах не видно было, голова у меня не то что болела, а кружилась, хуже всякой боли. Я стала плакать. Вошла опять та же самая старуха со свечой и начала меня утешать, предлагая мне чаю и разных лакомств. Я отказывалась и только просила ее, чтобы она сказала мне, где я. Спрашивала про вас, про тата, про город наш – далеко ли он. Старуха отвечала, что ни вас, ни тата не знает, а про такой город побожилася, что отроду и не слыхивала. Потом предложила она мне чаю, – я отказалась; предложила ужин – я тоже отказалась. И старуха зажгла лампадку перед образом и вышла из комнаты. Я вскочила с постели и бросилась к двери, но старуха успела ее защелкнуть на крючок. Немного погодя послышался за дверью мужской голос. Голос был мне знакомый, но я не смогла припомнить, где я его слышала. Голос спрашивал:
– Ну что, ей лучше теперь?
И старуха отвечала:
– Все равно, батюшка, бредит и мечется.
– Ну, хорошо, – говорил тот же голос, – я ей завтра лекаря пришлю.
«Неужели это они обо мне говорят? Неужели я в самом деле нездорова?» – подумала я. Лекарь, однако, не приходил, и я успокоилась.
Долго, долго я сидела в этой проклятой тюрьме. Я чуть было с ума не сошла от скуки: кроме отвратительной старухи, я во все это время никого не видала. Только уже за день перед тем, как взять ему меня с собою, вошла ко мне фельдшерша с узлом в руке. Я, как родной матери, обрадовалась ей; она принялась меня утешать и сулить мне бог знает какие радости в будущем, с тем только, чтобы я во всем ей покорилась. Она предложила мне остричься и одеться в мужское платье. Я было отказалась, но она пригрозила мне вечною тюрьмою, и я повиновалась. У ней с собою были ножницы, и она сейчас же остригла мои косы. Господи, как я тогда плакала! Потом вынула из узла мужское платье и одела меня и только начала было восхищаться мною, как я хороша в этом наряде, как вошла старуха и сказала: «Приехали». Мы поспешно вышли на двор. Уже было темно, за воротами стояли две кибитки – одна большая, а другая поменьше. Усадила меня фельдшерша в большую кибитку, перекрестила, и лошади тронулись с места, остальное вы уже знаете, – проговорила она и заплакала.
Вскоре началася польская революция {258}, и нашему корпусу велено было двинуться в Литву. Я отослал, что было лишнее, к себе домой на хутор и уговорил Тумана, чтобы он и Варочку с ребенком отпустил ко мне на хутор с обозом. Он так и сделал, и мы двинулися в поход налегке. По окончании кампании я взял отставку в чине полковника, а в скором времени вышла отставка и Туману, и он пришел ко мне на хутор. Я думал было его сделать у себя приказчиком, но так как мне самому делать было нечего около моего мизерного хозяйства, то я и отдал ему в содержание корчму, что около Эсмани, бесплатно, за прежние его услуги, и Викторкови моему завещал то же делать, когда меня не станет.
– Что я и [буду] делать до конца дней моих.
Виктор N. N.
Прочитавши этот рассказ, я призадумался, и в воображении моем грубый ветеран-корчмарь преобразился в такого человека-христианина, как дай бог, чтобы [все] были хоть немного похожи на него. Отрадное это размышление прервано было восклицанием: «Черт знает что!» Дверь растворилась, и в комнату вошел мой приятель, держа в руках мою гармонику и повторяя: «Черт знает что! Я думал, что он ей что-нибудь доброе подарил. Полтина! Больше полтины не стоит!»– и, увидя у меня свою рукопись в руках, как бы опомнился и сказал:








