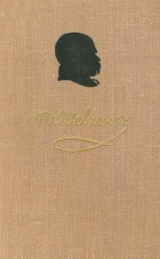
Текст книги "Драматические произведения. Повести."
Автор книги: Тарас Шевченко
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Так-как они приближалися к стране постоянно голодной, то есть Белоруссии, то, кроме инструментов, от города до города [лошадка] везла за ними и порядочный запас печеного хлеба.
Трогательные картины случалося ему видеть в сей убогой стране. Знаете, голод, нищета, разврат и гнусные спутники разврата. Все это я описываю в назидательном тоне.
Так, например, когда они проходили чуть ли не Усвяты, то, вместо того чтобы арестантам подать милостыню, толпа мальчишек с толстыми коленями бросилась к арестантам и стала просить хлеба, а когда увидели, что им давали хлеб наши артисты, за мальчишками бросились и взрослые и старики. Голод не знает стыда.
Пройдя страну сетования и плача, они вступили, наконец, в благословенные пределы нашей милой Малороссии и, наконец, в нашу скромную Прилуку. Тот же вечер пили мы чай с нашим милым, дорогим музыкантом и дружески беседовали в этой самой беседке.
– Теперь вот что я вам скажу. Вы извините меня: я человек, знаете, обязанный службою.
– Сделайте милость, распоряжайтесь, как вам угодно, – сказал я ему.
– Я вот что сделаю, – говорил он. – Я схожу не надолго в училище, а вы читайте мою рукопись. Тут вы встретите несколько подлинных писем Тараса Федоровича, в которых он изображает большею частию состояние души своей и прочие домашние обстоятельства. И еще знаете что: я забегу на станцию и скажу, чтобы принесли и ваши вещи сюда, и мы с вами так и прокочуем до воскресенья, а в воскресенье и на ферму вместе. Bene? – прибавил он, сжимая мою руку.
– Benissimo! – отвечал я, и мы расстались. Рукопись, правду сказать, пугала меня, зато письма, в ней помещенные, меня чрезвычайно интересовали, а потому я и принялся за нее.
Письма были вклеены в рукопись, а потому-то мне их нетрудно было и отыскать.
И первое из них такого содержания:
«Я обещался вам, мой незабвенный Иван Максимович, извещать вас по временам как о себе самом, так и о предметах, меня окружающих. И вот уже скоро наступит третий год, как я пресмыкаюся у ног моего нового властителя, и только теперь вспомнил я данное вам обещание. Мое горе такого рода, что само себя питает и не любит утешения. Простите меня, добрый Иван Максимович, за такое выражение, но что делать? – истина. Теперь мне лучше, и так лучше, что я могу беседовать с вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? То-то бы наговорились! Приезжайте-ка, да и супругу вашу привозите, У нас 23 апреля праздник. Ведь вы прежде так любили увеселения. Я этой любви обязан и знакомством моим с антикварием, помните? Где-то он теперь, бедный! Напишите мне, если получите о нем какое известие.
Вчера я возвратился с фермы. Я там гостил три дня. Впрочем, я там никогда меньше трех дней не гощу. Вот мое одно-единственное счастие. И правда, великое счастие! От сотворения мира, я думаю, ни одному страдальцу [не удавалось] так заживлять свои сердечные раны, как я их заживляю в кругу этих благородных людей. А Наташа, вообразите себе, так меня полюбила, что, когда я уезжаю, она, бедная, навзрыд плачет. И что это за девочка, что это за чудное создание! И в этих летах (ей четырнадцатый год) сколько глубокого чувства и недетского ума! Она полюбила музыку, и так полюбила, что дни целые проводит за фортепиано. И, представьте, она до сих пор не знает, что она сирота. Правда, при Марьяне Акимовне трудно ей это узнать, потому что она для нее больше, нежели мать родная. Зато и Наташа вполне ее вознаграждает своею детскою безотчетною любовью. А Антон Адамович просто не знает, где и посадить свою Наташу. Представьте, он для нее целый день не выходит из своей лаборатории, чтобы вечером потешить Наташу какою-нибудь замысловатою игрушкой. Я вам рассказываю то, что вы сами недавно видели. Мне говорили, что вы недавно с супругою вашею гостили у них. Как жаль, что я не знал, а то бы непременно отпросился.
Странная, однакож, психологическая задача. Например, Лиза две капли воды похожа на Наташу, и я ее каждый день вижу, а не могу любоваться ею, как Наташею любуюсь. Она, мне кажется, слишком бойкая, более похожа на мальчика, ни к кому не привязывается, неохотно учится и музыки не любит.
Что бы это значило? Детство их было совершенно одинаково, а теперь такая разница.
М-llе Адольфине, как вам известно, в тот же год отказал г. Арновский. И знаете за что? Гнусный сластолюбец! Он не мог обольстить ее и выгнал из дому, назвавши при всех распутною девкою.
Бог ее знает, где она теперь. Доброе, непорочное создание! Вы знаете, что я ей обязан французским языком, и теперь только узнал я ему настоящую цену. Библиотека у нас состоит почти вся из французских книг, хоть, правду сказать, более из романов, но все-таки лучше, нежели ничего.
Да, m-lle Адольфина была необходима для Лизы. Бедное дитя! Чему она выучится, что усвоит себе хорошее от своей воспитательницы, безграмотной, старой, подлой девки! Это почтеннейшая сестрица г. Арновского. Она отделила ее от общества пансионерок и перевела к себе, и все это, я подозреваю, по приказанию братца. Гнусные люди! Лиза чрезвычайно быстро вырастает. Г. Арновский пишет, чтобы его нынешний год не ждали из-за границы. Он ведь еще в прошлом году уехал принимать ванны от какой-то застарелой болезни.
А знаете что? Приезжайте-ка 26 августа на ферму. Вы знаете, в этот день Наташа именинница. Уверяю вас, будет весело. Приезжайте, я хоть посмотрю на вас.
К этому дню я готовлю несколько квартетов, то есть я с товарищами моего странствования. Только, чур, не проболтайтесь, если раньше нашего приедете. Я хочу сделать это в виде сюрприза.
Антон Адамович готовит для нее же иллюминацию и щит с ее вензелем. Щит будет поставлен между кустов, а за щитом поместится наш квартет. Не правда ли, хорошо придумано? Еще я приготовил для Наташи сюрприз, не знаю только, понравится ли ей. За ноты я не боюсь: я ноты просто печатаю, а фронтиспис меня беспокоит. Я, видите ли, как умел, переписал на веленевой бумаге «Серенаду» Шуберта {161}и украсил заглавный лист собственным изделием, скопировал, правда, с какого-то ничтожного романса, ну, да это ничего.
Приезжайте 26 августа, бога ради, приезжайте! Только непременно вместе с супругою».
Едва кончил я первое [письмо], как вошел ко мне Иван Максимович запыхавшись:
– Фу, как устал! Почти бежал всю дорогу. Боюсь, не соскучились ли вы? А, да вы читаете, прочитываете. Что, каково, а? По-стариковски, не правда ли? Слог! слог главное, а прочее само собой придет, не так ли?
– У вас слог прекрасный!
– Устарел маленько, что же делать, мы и сами устарели, не так ли?
Я в знак согласия кивнул головою, а он, взглянувши на рукопись, сказал:
– А, так вы на письме остановились? Продолжайте, продолжайте!
– Я уже кончил письмо.
– Кончили? – И, немного помолчав, он проговорил: – Да, оно кончается приглашением меня на именины Наташи, с моей незабвенною… – и он замолчал и отвернулся.
– Музыка… иллюминация… Наташа! – приходя в себя, говорил он с расстановкою. – Да, прекрасно, торжественно прекрасно было. Нет, мы лучше прочтем; этот праздник у меня торжественным стилем описан.
– Братец! пожалуйте обедать! – раздался голос сестрицы.
– И в самом деле, лучше пойдемте пообедаем, а потом уже придем и прочитаем.
И мы пошли обедать.
Не знаю, дело ли то было аппетита, или дело простосердечного радушия, или просто борщ с сушеными карасями (который так гениально варят мои землячки) – не знаю, что именно было причиною, знаю только, что я преплотно пообедал и еще плотнее заснул после обеда.
Вещи мои были принесены с почтовой станции, и я поселился до воскресенья в беседке гостеприимного Ивана Максимовича и во время его отсутствия прочитывал простосердечные письма моего непорочного музыканта.
Второе письмо, предлагаемое здесь, было писано спустя два с лишним года после первого.
«Милостивый государь Иван Максимович!
В последнем письме своем вы повторяете свою прежнюю просьбу, чтобы я записывал из уст нашего народа, как вы пишете, все, что касается его философии, поэзии и истории. Благодарю вас, что вы напоминаете мне об этом. Это значит, что ваше горе вполовину уменьшилось, что вы, наконец, вспомнили и нашего антиквария и, наконец, меня, вашего искреннего друга. Антиквария нашего и я помню хорошо, только бог его знает, где он теперь находится, а я для него, или, все равно, для вас, записал на днях дивную песню.
Иду я однажды по самой большой улице в селе и, правду сказать, иду к корчме, чтобы посидеть с добрыми людьми на завалинке, – не услышу ли чего-нибудь поучительного. Только иду и вижу, по самой середине улицы идет пьяная баба и, как видно, не убогая. Идет и во все горло поет, поглядывая на высунувшиеся на улицу хаты:
Упилася я,
Не за вaшi я:
В мене курка неслася—
Я за яйца впилася!
Это ли не философия? Это ли не поэзия?
Мне хотелося сделать вариации на эту тему, но, увы! Музыка не в силах выразить этого великого сарказма.
Вы теперь, как видно из вашего письма, немного успокоились после вашей невознаградимой потери. «Быйте лыхом об землю, як швець мокрою халявою о лаву» та приезжайте в воскресенье на ферму. А я приеду туда с виолончелью и буду играть для вас целый день и все ваши и мои любимые малороссийские песни.
Я вам, кажется, не писал еще о виолончели? Чудный! дивный инструмент! И я не знаю, где он мог его достать за такую ничтожную цену.
В прошлом году наш поправившийся г. Арновский возвратился из-за границы и, между многими диковинными игрушками, привез и виолончель. Боже мой, что это за игрушка! Только одна душа человека может так плакать и радоваться, как поет и плачет этот дивный инструмент.
Мастер, создавший его, не кто иной был, как сам Прометей. Я спать ложусь и кладу его около себя. Это моя любовница, моя жизнь, мое «я». И если б я был два раза раб, то за этот инструмент продал бы себя в третий раз. О, я теперь совершенно забыл Серве.
А если бы видели, что делается с Наташей, когда я заиграю на этом божественном инструменте! она цепенеет – и больше ничего.
А Марьяна Акимовна уверяет меня, что я на скрипке лучше играю, нежели на виолончели. Но это она говорит только так, она сама не может равнодушно слушать виолончель.
Разносился я, однакож, со своею виолончелью, как дурень с писаною торбою, а о главном-то чуть было и не забыл.
Предчувствия мои сбылись. Едва оживший г. Арновский ухаживает уже за Лизою собственною персоною. Как видно, усердие милой сестрицы не имело успеха.
А Лиза и знать ничего не хочет. Бегает по залам, бьет горшки с цветами, ломает стулья, совершенный ребенок. А этому ребенку, заметьте, 17 годов. Меня одно только утешает: если я не ошибаюсь, что если и успеет г. Арновский, то этот успех обойдется ему не так-то дешево.
Мне, по крайней мере, не случалось еще встречать так сильно развитой природы в Лизанькины лета. Это совершенная женщина!
Сестрица г. Арновского в тупик становится перед ее выходками.
Что если бы хоть какое-нибудь образование этой девушке? Это была бы совершенная Семирамида или Клеопатра.
Месяца два тому назад однажды сидят они все трое за обедом молча и только поглядывают друг на друга исподлобья. Кушанья подавали только для формы, никто к ним и не прикоснулся. А я от нечего делать (стоя за стулом Лизы) стал всматриваться в лицо г. Арновского. Руина, совершенная руина! Он не старик еще, но опередил даже дряхлых стариков. Повисшие, едва сжимающиеся губы, полураскрытые бесцветные глаза, желто-зеленый цвет лица и, вдобавок, серые, жиденькие волосы и глухота делают его чем-то отвратительным, чем-то на полипа похожим.
Обед кончился. Лиза, выходя из-за стола, заплакала и, обращаясь к г. Арновскому, сказала:
– Прикажите заложить лошадь, или я пешком уйду к Антону Адамовичу.
«Быть беде», – подумал я и не ошибся. Через несколько дней дворня шепотом заговорила о женитьбе барина на Лизавете Павловне, а еще через несколько дней явилися уже и подробности, сопровождающие всякую будущую свадьбу. Из Прилуки, между тем, приехал стряпчий г. Арновского И. П. Ярмола, пробыл у нас двое суток и уехал так, что его почти никто и не видал.
Это тоже что-нибудь да значит!
Не прошло и месяца после этого происшествия, как сестрица г. Арноаского засуетилася, забегала, всю дворню подняла на ноги и своим благородным воспитанницам приказала приготовить самую лучшую пьесу к свадьбе.
«К свадьбе, – подумал я. Стало быть, между Лизой и г. Арновским это вещь возможная. Странно!» – Я на другой же день съездил на ферму, рассказал все виденное и слышанное. Антон Адамович сказал: «Хорошо», а Марьяна Акимовна только головой кивнула.
Свадьба совершилася тихо: ждали гостей много, но собралися только ближайшие соседи. Театра тоже не было. Хотели было дать концерт, да тоже до завтра отложили.
Завтра прошло тоже без особых приключений, а послезавтра управляющий получил приказание от г. Арновской приготовить экипажи, людей и лошадей для поездки в Киев.
Все это происшествие вам покажется невероятным, фантастическим, как и самому мне оно показалося. Но вспомните, что Лиза вырастала под непосредственным смотрением распутной старой девки. Вспомните это, и неестественное замужество Лизы делается самым натуральным. Грустно только смотреть на это милое создание, так бесчеловечно нравственно изуродованное. В ней и тени не видно той ангельской прелести, какая так свойственна ее возрасту. Воспитательница, однакож, ошиблась в своих расчетах. Цель ее была развратить Лизу до такой степени, чтобы она была способной выйти замуж за ее отвратительного братца. В этом она успела. Но главное – ей надоел братец своим самовластием, и ей нужно было сокрушить эту власть. Она и сокрушила, то есть она сделала Лизу полной, независимой помещицей всего имения, прежде принадлежавшего г. Арновскому. Для того и приезжал стряпчий из Прилуки. Дело в том, что когда Лиза сделалась помещицей, то, вместо половинной власти и состояния, предложила своей наставнице место ключницы у себя е доме.
Рассчитавшися так со своей милою наставницею, она вручила полную власть своему управляющему над домом и всем имением, взяла своего дряхлого мужа и отправилася в Киев, якобы пользоваться тамошними минеральными водами.
В доме оставалося все попрежнему. Хозяйка обещалася зиму провести в имении, а до зимы, следовательно, мне в доме было нечего делать, и я, пользуяся сим добрым случаем, отпросился у управляющего месяца на два в Дигтяри, то есть на ферму.
И вот уже третий день я разыгрываю моцартовские сонаты в хатке Марьяны Акимовны на моей милой виолончели.
Как тепло, как хорошо мне в кругу этих милых моих друзей. Наташа день ото дня становится все краше и милее. И что за умница, что за скромница, просто прелесть! Она, знаете, со мною хочет этикетничать, держать себя, как прилично взрослой девице, но никак не может: важничает, важничает да вдруг схватит с меня шляпу, побежит и спрячется в кустах. Я ищу ее, а она перебегает из куста в куст, пока устанет. А потом пойдет жаловаться Марьяне Акимовне, что я ей покою не даю, что она на мой соломенный бриль без смеху смотреть не может. Милое, прекрасное создание! Глядя на нее, иногда я себя чувствую выше человека, таким безгранично счастливым существом, каким человек никогда быть не может.
С некоторого времени, я замечаю, она начинает задумываться и почти плачет, когда я играю ее любимую серенаду Шуберта.
Марьяна Акимовна предлагает Антону Адамовичу поехать с Наташею на зиму в Киев. Но Антон Адамович упорно молчит и только головою потряхивает. Раз было сказала Марьяна Акимовна:
– Ну, коли не в Киев, так хоть в Кочановку к Лизе.
Но он на нее так посмотрел, что с тех пор о Лизе и помину не было.
Я совершенно понимаю и оправдываю мысль Марьяны Акимовны, но никак не могу равнодушно вообразить себе Наташу в кругу незнакомых ей людей. Мне делается страшно за нее. Она такая живая, впечатлительная, и ей уже семнадцать лет. Ей предстоят большие опасности впереди.
Вот еще что меня немало удивило. Когда я рассказал с подробностями про свадьбу Лизы, Наташа равнодушно дослушала мой рассказ, проговорила: «Несчастная она», и залилася слезами.
Неужели она, в эти лета, так глубоко успела заглянуть и уразуметь, в чем состоит истинное наше счастие?
Я завтра поеду в Кочановку за партитурою Мендельсона «Сон в Ивановскую ночь» {162}. Наташа еще не слыхала ее.
Я положу для нее эту чудную симфонию для фортепиано и баса.
Приезжайте когда-нибудь в праздник, и вы послушаете. А между тем напишите о себе хоть пару слов с нашим посланным, напишите хоть только то, что вы получили мое послание.
Преданный вам ваш Музыкант».
На оставшемся от письма чистом полулисточке бумаги вроде примечания было написано рукою Ивана Максимовича так:
«29 июня, в день Петра и Павла, ездил я в гости на ферму и гостил два дня с великим удовольствием. Виолончель с фортепиано – это такая божественная гармония, что вечно бы слушал ее и не наслушался, особенно когда они вдвоем исполняют эту волшебную серенаду. Я, впрочем, думаю, и не без основания, что, кроме гармонии звуков, между ними существует высочайшая гармония самых нежных чувств.
Мне даже об этом сама Марьяна Акимовна косвенно намекнула, когда они играли серенаду. Она обратилась ко мне и, взором показывая на музыкантов, шепнула:
– Не правда ли, парочка? Как вы думаете?
Я, разумеется, в знак согласия кивнул головою.
Другой раз, когда мы гуляли по саду и они вдвоем шли впереди нас и о чем-то тихо разговаривали, Антон Адамович, глядя на них, проговорил, как бы сам с собою:
– Во что бы то ни стало, а я ему добуду свободу.
«Благородное чувство! – подумал я. – Это значит стать выше предрассудков века. Давно пора бы всем так думать и чувствовать. Но, увы! гордыня обуяла нас. А как бы они счастливы были! Я всякий бы день ездил на ферму любоваться на их счастье. Я тут не вижу ничего невозможного. Все будет зависеть от Антона Адамовича, а сомневаться в искренности и чистосердечии этого благородного человека – значит не верить в бога. Подождем – увидим!»
В следующем за письмом повествовании собственного изделия Ивана Максимовича продолжаются рассуждения в этом же роде, то есть в роде филантропическом, только уже слогом возвышенным, обработанным, таким слогом, что я с трудом прочитал полстраницы. Настоящий Марлинский! Мир памяти его!
Перевернувши несколько листов красноречивой рукописи, я открыл еще одно письмо музыканта, писанное год спустя после предыдущего.
Письмо начинается так:
«Незабвенный Иван Максимович!
Я так счастлив, так бесконечно счастлив, что едва могу писать вам, а писать необходимо, потому что счастие задушит меня, если я не выскажусь. Но с чего же вам начать? Дайте прийти в себя. Да, начну с того, что прошедшей осенью возвратился из Киева г. Арновский, совершенно больной и без жены. Елизавета Павловна бросила его в Киеве на попечение сестрицы, а сама уехала с каким-то гусаром на маневры в Вознесенск, да и не возвращалась. А уже из-за границы, кажется из Вены, написала управляющему письмо, чтобы он всю дворню и музыкантов распустил на оброк, кто пожелает, а остальных обратил бы в хлебопашцев; благородным воспитанницам выдал бы по тысяче рублей и тоже распустил бы, а дворовых девушек повыдавал бы замуж с приданым по сту рублей, хоть за солдат; г. Арновскому и сестре его выдавал бы по сту рублей в месяц, и больше ничего.
Жалко и отвратительно было смотреть на этого изувеченного сластолюбца, когда он смотрел на сборы в дорогу своих воспитанниц и не мог остановить этих сборов. Ему не хотелось расставаться со своими жертвами, и он плакал в бессилии. Он пошел было к ним во флигель проститься с ними, но они перед ним двери заперли. Достойная благодарность развратителю!
Елизавета Павловна, может быть и бессознательно, но вполне справедливо и достойно наказала своего развратителя. Я в душе ей благодарен. За одну бедную Тарасевич его следовало бы сделать каторжником. Если совесть его проснется когда-нибудь, то она забичует его лучше всякого палача. Только мне не верится в присутствие совести в развращенном сердце.
Оркестр наш почти весь пущен на оброк и отправился в Киев. Выбрали было меня капельмейстером, но я решительно отказался и выпросил себе у управляющего место лесничего в Дигтярях. Эта должность как раз пришлась по мне: брожу себе целый день по лесу, как будто дело делаю, а к вечеру отправляюсь на ферму. Виолончель осталася со мною. Слушатели мои – самые искренние слушатели, и я просто блаженствую. Если бы ко всему этому прежняя резвость и беззаботность Наташи, я был бы совершенно счастлив. А то она, бедная, такая грустная ходит, что я плачу, на нее глядя.
Марьяна Акимовна тоже будто бы переменилась, тоже чего-то по временам задумывается и скучает. Один только Антон Адамович попрежнему молчит и добродушно улыбается. В отношении же меня они все ласковы попрежнему, только что-то как будто бы скрывают.
Меня это мучит, и я по целым дням иногда хожу по лесу и плачу, сам не знаю отчего.
Несколько дней тому назад Антон Адамович ездил к нашему управляющему и возвратился чрезвычайно весел, так весел, что заставил меня с Наташею играть Горлицу, а сам чуть было танцевать не пустился.
А, между прочим, все-таки ни слова никому не говорит о причине такой радости.
Через неделю после этой радости Антон Адамович, не сказав никому ни слова, уехал опять к управляющему, а к вечеру того же дня прислал записку, чтобы его не ждали вечерять, что он с управляющим уехал в Полтаву.
Мы, разумеется, ахнули и минут пять не могли проговорить ни слова, только смотрели друг на друга. Наконец, проговорила первая Марьяна Акимовна:
– Что же это он сделал со мною? Вот уже тридцать лет, слава богу, и мы с ним не разлучались ни на день единый, а тут взял да и уехал, и хоть бы сказал слово. Вот до чего я дожила, горькая!
И, минуту помолчав, она тихо заплакала. Наташа тоже, и, взявшись за руки, они пошли в покои.
Я как вкопанный остался на месте и долго бы простоял еще, если бы Наташа не позвала меня в комнаты.
После долгих рассуждений и предположений, зачем и для чего так, можно сказать, воровски уехал Антон Адамович в Полтаву, я вызвался сейчас же съездить в Кочановку и узнать все положительно на месте. А чтобы им не страшно было без мужчины, я сходил на мельницу и пригласил старого мирошникана ферму, в виде сторожа и собеседника. (Наташа чрезвычайно любила слушать его старые сказки и прибаутки.)
На рассвете я возвратился на ферму из Кочановки, не узнавши ничего. Конторские писаря, пользуясь отсутствием управляющего, перепились пьяны и на вопрос мой отвечали: «Уехали в Полтаву», – и больше ничего.
Наташа заснула, а Марьяна Акимовна ждала моего возвращения у ворот сада и, завидя меня, подбежала ко мне с вопросом: «Что?» Я, хоть и горько мне было, сказал ей, что в Кочановке никто ничего не знает.
– Идите же в его хату да отдохните с дороги, – сказала она мне и, закрыв лицо руками, тихо пошла к дому.
«Бедная женщина! – подумал я, глядя ей вслед. – Неужели так тесно сдружилася ты с ним, что не можешь один день прожить без него? Счастливая, завидная твоя доля, и многие, многие жены тебе вправе позавидовать. А тебе, еще больше счастливый, благородный старче, должны завидовать мужья-горемыки!»
Прошел день, другой, наконец и третий, а об Антоне Адамовиче ни слуху ни духу. На ферме все так притихло и приуныло, что я боялся и подумать о музыке.
Марьяна Акимовна все дни ходила взад и вперед по одной дорожке и только молча вздыхала, а Наташа ей вторила.
Казалося, что мы уже навеки рассталися с нашим Антоном Адамовичем. В продолжение дня Марьяна Акимовна заходила в его хату, чего прежде никогда не делала, обмахивала платком пыль с электрической машины и с других вещей, садилась на кушетку и плакала, словом, она походила на самую нежную любовницу.
В продолжение этих дней я только и слышал от нее, – и то она говорила как бы сама с собой:
– Ну, слыхано ли на свете такое горе? Уехать в такую даль и не сказать жене ни слова! О, я несчастная!
Дни проходили медленно, а вечера еще медленнее. А 26 августа быстро близилось. Я думал было прежде о сюрпризах для дня ангела Наташи, но после этого случая я так растерялся, что совершенно обо всем забыл.
Я ездил еще раз в Кочановку и хотел было проехать в Прилуку к поверенному Елизаветы Павловны, но мне сказали в Кочановке, что и он уехал вместе с ними.
Вот уже и 25 августа, а на ферме будто бы ничего не бывало: ни малейшего движения, о предстоящем празднике и помину нет.
Я вспомнил про месячную розу в Дигтярях в оранжерее, которую я давно выпросил у садовника для дня ангела Наташи, и, не сказав никому ни слова, отправился пешком в Дигтяри. Возвратился я с цветком на ферму уже вечером, и вообразите мою радость: Антон Адамович сидел за столом между Марьяной Акимовной и Наташей и, по обыкновению улыбаясь, пил чай.
– А, и вы пришли! – сказал он, увидевши меня. – Садитесь-ка, я вам расскажу, что я видел в Полтаве.
Я сел, и несколько минут прошло в молчании.
– Ну, рассказывай же, – проговорила Марьяна Акимовна, – беспутный, что ты там видел в твоей скверной Полтаве?
– А что я там видел? Грязь и больше ничего!
– А что же ты там делал столько времени?
– Тоже ничего!
– Зачем же ты ездил туда, ветрогон ты старый?
– Так, прогуляться.
– Так, прогуляться? Слышите, люди добрые: так, прогуляться! Ах ты, седая, старая голова! И это тебе не совестно так мучить меня на старости лет?
И Марьяна Акимовна поцеловала его так нежно, так просто, сердечно, как самая нежная мать целует покорное дитя свое.
Вечер прошел тихо и весело.
На другой день проснулися все рано, а Антон Адамович раньше всех и, разбудивши меня, сказал:
– А что, ты приготовил что-нибудь для именинницы?
– Приготовил, – проговорил я.
– Ну, так вставай же, одевайся и пойдем поздравим, – она уже бегает по саду.
Я наскоро умылся, оделся и, взявши свою розу, пошел к дому вслед за Антоном Адамовичем. Наташа, увидя нас, побежала в комнаты.
Мы вошли вслед за нею, а она уже сидела за чайным столом, как ни в чем не бывало, около Марьяны Акимовны и просила сухарика к чаю.
Я поздравил ее, преподнес ей свой скромный подарок. Антон Адамович поздравил тоже и, вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумагу и подавая Наташе, сказал ей:
– Вот тебе гостинец из Полтавы.
Сказавши это, он, улыбаяся, сел около нее. Наташа долго молча читала бумагу и, не дочитавши, выпустила ее из рук и со слезами бросилась обнимать и целовать Антона Адамовича, а мы с Марьяной Акимовной с изумлением посматривали друг на друга.
Наконец, я поднял бумагу, посмотрел на нее и… то была моя отпускная!
Все, что ни сказал бы я вам про свои ощущения в эту великую минуту, все бы это и тени не было похоже на то, что я чувствовал.
– Виолончель тоже наша, – проговорил, улыбаясь, Антон Адамович.
Я упал перед ним на колени и целовал его руки, обливая их слезами.
– Ну, Наташа, теперь за тобою очередь, продолжай, – сказал Антон Адамович, обращаясь к Наташе. – Возьми эту бумагу и отдай нашему другу и скажи: «Вот, мол, тебе мое приданое». А мы с Марьяною скажем: «Боже вас благослови!»
Все четверо мы бросились друг к другу и залились слезами.
И вот уже более недели, как мне мое счастие спать не дает. И знаете, кто все это сделал? – Наташа! моя милая, моя бесценная Наташа! Она предпочла меня и знатным и богатым, меня, крепостного музыканта, и, открывшися во всем своим благородным благодетелям, просила их делать с нею, что найдут лучшим. А добрый, молчаливый Антон Адамович, не долго рассуждая и не говоря никому ни слова, решил по-своему, одним разом. Он заплатил за мою свободу с виолончелью 2 500 рублей. Если бы г. Арновский был моим владыкою, этого бы никогда не случилось.
Спасибо тебе, Елизавета Павловна! Тебе и во сне не снится, что ты, хотя совершенно невинная, причина моего настоящего блаженства.
Теперь Антон Адамович хлопочет об определении меня в канцелярию дворянского предводителя. Уж это я и сам не знаю, для чего, а когда это сбудется, тогда мы с вами будем видеться по крайней мере раза три в неделю. А пока приезжайте в воскресенье на ферму и полюбуйтеся на совершенно счастливых людей.
Преданный вам Музыкант N».
Дочитавши это самим счастием написанное письмо, я впал в какую-то болезненную задумчивость. Боже мой, неужели это была зависть? Нет, я не завидовал никому на свете. Это было горькое, невыразимо горькое чувство одиночества… Я чуть не заплакал от внутренней боли. В то время, как я собирался плакать, вошел ко мне Иван Максимович и спросил:
– Ну что, далеко уже прочитали мое немудрое повествование?
– Все прочитал, – ответил я.
– И описание свадебного пира?
– Нет, не читал.
– Так прочитайте, непременно прочитайте, потому что я, можно сказать, больше всего рассчитываю на эффект этого великолепного изображения.
– А скажите, Иван Максимович, старики еще живы?
– Здоровехоньки, а о счастье и говорить нечего. А если б видели, что за внучку им бог послал! Совершенный ангел божий!
Я снова задумался.
– А знаете что, Иван Максимович? – спросил я его через минуту.
– А что?
– Отпустите меня завтра одного на ферму, а сами в воскресенье приезжайте.
– Ни за что, а коли уж вам так загорелось, то и я завтра могу с вами ехать. Да что это вам так вдруг?..
– У меня уж характер такой: я ужасно люблю смотреть на счастливых людей, и, по-моему, нет прекраснее, нет усладительнее зрелища, как образ счастливого человека.
– Это совершенная правда.
На другой день мы были на ферме, и я видел и был совершенно счастлив счастием этих простодушно благородных людей! Видел и свидетельствую истину сего неложного сказания. Аминь.
28 ноября [1854] – 15 января 1855








