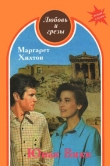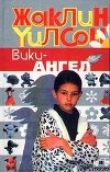Текст книги "Грехи отцов. Том 2"
Автор книги: Сьюзан Ховач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Вики будет продолжать жить с папой, папа сможет удовлетворять свои амбиции отца и дедушки, а я сниму где-нибудь квартиру, может быть в Саттон-Плейс, и мы будем встречаться там, когда нам этого захочется. Мы сами обставим нашу квартиру. У нас на кровати будут черные атласные простыни, а в комнате – белый меховой ковер. Мне нравится сочетание черного с белым. Эротично. Я попытаюсь достать пару черно-белых рисунков Бердслея, чтобы повесить на стены. Нет, не Бердслея. Он слишком декадентский. Какую-нибудь хорошую светлую картину, нечто чистое. Может быть, японскую гравюру на дереве. Или набросок обнаженной женщины Пикассо.
Вики может обставить гостиную, но книги мы выберем вместе. Много поэзии. Обычная поэзия плюс «Беовульф» в оригинале. Не важно, что никто из нас не умеет читать по-англосаксонски и что «Беовульф» – одна из самых трудных поэм, когда-либо написанных. Эта книга будет стоять на нашей книжной полке по той же самой причине, по которой римляне хранили бюсты своих предков в атриуме2. И мы должны также приобрести Беду, чтобы он составил компанию «Беовульфу». У меня все еще есть тот перевод, который мне порекомендовал Скотт, когда я чувствовал себя представителем преследуемой расы. Интересно, знает ли Вики о том знаменитом эпизоде с птицей в освещенном помещении.
Говоря о Беде, я думаю о Скотте.
Конечно, Скотт – это большая аномалия. Он исключение из правила, утверждающего, что люди должны жениться и выходить замуж, чтобы доказать, что они нормальные. Нарушая это правило, он все-таки выходит сухим из воды, сохраняя впечатление нормального американского парня, но он ни в коем случае не является нормальным. Чем больше я думаю о Скотте, тем более ярким он мне кажется. От его яркости у меня возникает пульсация в висках. Он обладает всем тем, к чему питает отвращение Корнелиус: во-первых, не женат; во-вторых, интеллектуал; в-третьих, аскетичен и, в-четвертых, он сын Стива Салливена. Несмотря на все это, Корнелиус считает, что Скотт – первый сорт.
Мне это вовсе не нравится. От этого мурашки бегают по спине. Но с другой стороны, Корнелиус никогда не отдаст рычаги управления банком ни одному из сыновей своего старого врага Стива Салливена, так что мое будущее не вызывает опасений. Но, тем не менее, мне не нравится, что Скотт считается в банке первым. Может быть, мне следует дать понять это Корнелиусу, но нет, лучше держать язык за зубами. Если я попытаюсь на этой стадии столкнуть этот «первый сорт», кто-то может попытаться подрезать мне крылья.
Что подумает Корнелиус о моей связи с Вики? Ему, в отличие от мамы, это не понравится. Маме это очень понравится, и Корнелиус захочет, чтобы мама была счастлива, особенно сейчас, когда они снова нашли общий язык в постели.
Боже мой, это судьба.
Эльза тихо стонет во сне, и я нежно обнимаю ее. Ты мне нравишься, Эльза, я счастлив, что ты есть у меня. Спасибо тебе за то, что ты заставляешь всех думать, что я такой хороший нормальный парень...
Суббота, 7 июня 1958 года. Мы со Скоттом играем в клубе в сквош, и я выигрываю. Мы принимаем душ, и затем я выпиваю пару бутылок пива, в то время как он пьет кока-колу.
– ...Итак, дело в том, – говорит Скотт, – действительно ли герой английской легенды Чайлд Роланд каким-то образом связан с героем знаменитого «Шансон де жест», племянником Карла Великого – Роландом.
– Несомненно, эта связь существует. Если ты читал поэму Браунинга...
Скотт безжалостно расправляется с Робертом Браунингом, который имел несчастье родиться не в средние века, а добрых триста лет спустя. – Согласно Дороти Сайерс, нет никакой связи. Она говорит...
Дороти Сайерс, писательница двадцатого века, отдающая дань детективному жанру, так же как и Браунинг, не заслуживает внимания Скотта, но он ценит ее как выдающегося знатока средневековья.
Я вежливо слушаю его и прихожу к заключению, что мы со Скоттом Салливеном потратили достаточно свободного времени, роясь в средневековой пыли. Я думаю, что пора нам спуститься с башни средневековой учености и заняться исследованием темных уголков джунглей двадцатого века, в которых мы живем.
– Кстати о Роланде, Темной Башне и других средневековых сооружениях, – лениво говорю я, – а какова в наши дни жизнь в Мэллингхэме?
Мэллингхэм – это средневековое поместье в Норфолке, где похоронен отец Скотта; его владелицей была когда-то Дайана Слейд, заклятый враг Корнелиуса. Я очень мало знаю о Дайане Слейд, кроме того, что она не только разрушила брак Стива с тетей Эмили, но и загребла кучу денег, сделала жизнь Корнелиуса чертовски неудобной и геройски погибла в Дюнкерке.
– О, в Мэллингхэме все в порядке, – дружелюбно говорит Скотт: так должен хороший нормальный парень говорить о своей семье. – Элфрида всецело занята управлением школой; с тех пор как уехал Эдред, ей приходится все делать самой. Но Эдред хорошо сделал, что поступил в оркестр и уехал: Элфриде не нравилось, как он преподавал музыку, и они ссорились.
Эдред и Элфрида – сводные брат и сестра Скотта; они родились у Стива и Дайаны задолго до их женитьбы. Только младшему ребенку Джорджу суждено было появиться на свет после свадьбы.
– Очень мило со стороны Корнелиуса, что он так помог Элфриде, а? – простодушно говорю я.
Скотт широко улыбается.
– Настоящее христианское милосердие! – говорит он, вызывая у меня смех.
Я на мгновение делаю паузу, чтобы обдумать следующий шаг. Мы все в банке на Уиллоу-стрит знаем, что Корнелиус и Стив сражались не на жизнь, а на смерть в тридцатые годы, и всем также известно, что это был один из самых грязных поединков с множеством ударов ниже пояса, но никто не знает точных подробностей этого побоища, а если и знает, то молчит. Конечно, вряд ли мне удастся узнать эту историю, но я не сомневаюсь, что она бы меня не шокировала: когда дело касается Корнелиуса, я всегда предполагаю самое худшее и обычно бываю прав.
Но что думает Скотт? С его-то умом и знанием Корнелиуса он вряд ли может разделять общепринятую точку зрения на прошлое Корнелиуса, он вряд ли верит в то, что Стив представлял собой постоянную угрозу, и Корнелиус, бедный, кроткий, слабый Корнелиус, был вынужден для самозащиты наносить ответные удары. Я могу допустить, что между Скоттом и его отцом произошло отчуждение – пираты, подобные Стиву Салливену, очень часто живут в таком темпе, что по дороге теряют своих детей. Но насколько глубоким было это отчуждение? Я не помню Стива Салливена, который в 1933 году навсегда покинул Америку, но я помню, как Тони, брат Скотта, однажды с восторгом рассказывал мне о домике на дереве, который ему построил отец.
Я помню, как Тони тогда сказал: «Как замечательно иметь отца, который так много времени проводит с тобой!», добавив с такой наивной честностью, что трудно было заподозрить его в лицемерии: «Он самый лучший отец во всем мире!»
Это было удивительное свидетельство, особенно на фоне регулярных заявлений Корнелиуса о том, что Стив никуда не годный отец, пренебрегающий своим родительским долгом. Корнелиус питал викторианскую любовь к слову «долг» и относился к нему, как к талисману, который неизменно перевешивал любой другой моральный аргумент.
Но разделял ли Скотт когда-либо эту упорную преданность Тони к своему отцу? Они с Тони были очень разные и по темпераменту, и по интеллекту и незадолго до смерти Тони отдалились друг от друга. Скотт был замкнут и непроницаем. Могли такие два человека иметь одинаковый взгляд на прошлое? Трудно сказать.
Когда я гляжу на Скотта, у меня возникает сильное желание вскрыть его череп и заглянуть внутрь; что там скрыто?
– Ах, ты думаешь, Скотт, Корнелиус финансирует школу Элфриды из чувства вины? – вдруг спрашиваю я. – Как ты думаешь, не старается ли он искупить свою вину за то, что стер твоего отца с лица земли в тридцатые годы?
– Я сомневаюсь в этом, – довольно спокойно, без напряжения говорит Скотт. – Я могу предположить, что он действует из-за выгоды (дайте мне избавиться от этой девушки, пусть она получит то, что хочет!). Я могу представить себе, что он действует по здравому смыслу (если я буду заботливым по отношению к ней, то она доставит мне меньше хлопот!), и я могу представить себе, что он действует так потому, что известен своим христианским милосердием (если я буду помогать ей, то потом будет легко на душе!), но я не могу себе представить, как он говорит: «О, Боже, отпусти мне мои грехи, я же дам этой девочке школу!»
Я заливаюсь смехом под впечатлением этих слов; трезвый, лишенный сентиментальности анализ мотивов Корнелиуса, сделанный в такой добродушной форме, заставляет меня думать, что я страдаю паранойей, воображая вероломство там, где его нет. Я напоминаю себе, что вполне возможно, что Скотт на сто процентов отверг своего отца, и вполне возможно, что он любит Корнелиуса, не питая при этом никаких иллюзий на его счет. Одно из открытий, которое я с удивлением сделал в подростковом возрасте, заключалось в том, что, хотя я и испытывал отвращение к Корнелиусу, иногда он мне очень нравился и я даже восхищался им. Он мне нравился, когда, после того как я покинул Гротон, он прочел мне подстрекательскую лекцию о презервативах; он мне нравился, когда не только одобрил мой брак, но и стойко поддерживал меня на пути к алтарю. И я восхищаюсь тем, как стойко он переносит свою астму, никогда никому не жалуясь. Я бы очень хотел ненавидеть его на сто процентов, но не могу, и если я время от времени испытываю симпатию к Корнелиусу, то почему Скотт не должен испытывать подобные настроения? Со Скоттом все в порядке. Ему и полагается быть таким. Он просто обычный парень с несколько эксцентрическими привычками.
Или нет? Почему у меня складывается такое чувство, словно Скотт действует по законам средневековой аллегории, в которой он играет в Возмездие, подкрадывающееся к Злу в погоне за святым Граалем Справедливости? Да, я определенно параноик. Весь этот средневековый хлам, с которым постоянно носится Скотт, должно быть, в конце концов повлиял и на меня. Мне надо взять себя в руки, иначе я поддамся искушению фантазировать в духе Кентерберийских рассказов.
– Каким был твой отец, Скотт? – вдруг говорю я неожиданно для самого себя. – Все говорят о нем так, как будто он был просто обычным рыжеголовым ирландцем-выпивохой, но он, должно быть, был намного сложнее.
– Он не был ирландцем. Он смотрел на мир англосаксонскими глазами и считал, что его ирландское имя не более чем простая случайность.
На этом месте мы переходим на привычную тему. В первое время после женитьбы на Эльзе я чувствовал себя как представитель преследуемой расы, и мы со Скоттом проводили немало времени, беседуя о древних расах мира.
– Но разве в твоем отце не было ничего кельтского? – лениво спрашиваю я, готовясь насладиться еще одним набегом на старую этническую территорию.
– Черт, конечно же нет! – смягчаясь, говорит Скотт. – Он знал только один мир, одно время и одну реальность – точка зрения, которую англосаксы называли «логической» или «прагматической» и которая сегодня доминирует в западном мире.
– Моя точка зрения, – улыбаясь ему, говорю я.
– Да, твоя точка зрения. Но не моя.
Он сделал это. Невероятно, но он сделал это. Он совершил ошибку. Лучик света проскользнул сквозь ставни, и я успел заглянуть в его непроницаемый загадочный внутренний мир.
– Господи, что я говорю! – с удивлением воскликнул он. – Как безумно это звучит! Позволь мне взять мои слова обратно. Мы оба знаем, что я не более кельт, чем ты англосакс, – мы просто два американца, живущие в огромном плавильном котле, называемом Нью-Йорком, и считать, что мы что-то иное, было бы чистой фантазией.
– Чистой фантазией, – успокаивающе говорю я, – разумеется.
– И, кроме того, – говорит Скотт, по-прежнему неистово пытаясь накрепко закрыть ставни, – разве не ты говорил мне, насколько бессмысленно в наши дни судить об отличительных чертах той или иной расы, после того как мы все переженились друг с другом и смешались?
– Да. Я действительно так говорил, и я по-прежнему верю, что это так, – говорю я, чтобы успокоить его, но в одной части моей памяти воскрешаются слова Юнга о том, что мы не принадлежим сегодняшнему или завтрашнему дню, в нас проявляются отпечатки древнейших времен.
Значит, ты отождествляешь себя с кельтом, Скотт Салливен, не так ли? Это очень интересно. Спасибо тебе, что ты дал мне недостающий ключ к твоей личности. Можешь быть уверен, что я сумею им воспользоваться.
Я все помню про кельтов. Я все время наталкивался на них, когда изучал англосаксов. Враги кельтов никогда их не понимали: такие логичные, практичные, приземленные народы, как римляне и англосаксы, должно быть, были сбиты с толку расой, взгляды которой на жизнь так радикально отличались от их собственных. Кельты были таинственным, ни на кого не похожим племенем. В их литературе обнаруживался особый внутренний мир, в котором сверхъестественное переплеталось с реальностью в жутком смещении времени и пространства. Поскольку они верили в загробную жизнь, смерть не вызывала у них особого ужаса, их жизненный уклад формировался под знаком смерти, потому что отличительной и ужасной чертой кельтов, которую их упорядоченные дисциплинированные враги находили слишком варварской, была уходящая корнями в прошлое традиция кровной мести, которая оборачивалась тем, что кельты беспрерывно убивали друг друга наряду со всеми своими врагами, стоявшими у них на пути.
Заповедь «Прости и забудь» звучала как нелепая глупость для язычников-кельтов: прощение было немыслимо для них, а забвение невозможно. Кельты никогда не забывали прошлое. Оно всегда было частью их настоящего. Прошлое, настоящее и будущее существовали одновременно в их зеркале мира, а отношение к смерти позволяло без сожаления расставаться с жизнью в погоне за справедливым отмщением.
– Все еще думаешь о всех этих вымерших кельтах и англосаксах? – смеясь, говорит Скотт.
– Вымерших! А как насчет американцев ирландского происхождения и «белых, англосаксонцах и протестантах»! Послушай, ты когда-нибудь встречался с Джоном Кеннеди во время твоих поездок в Вашингтон?
Мы говорим о клане Кеннеди, который такой же племенной и иерархический, как все лучшие кельтские кланы, мстящие белым аристократам. Но все это время я думаю о Скотте, украсившим свою врожденную историческую память о кровной мести интеллектуальным парадным мундиром средневековой легенды.
Для Скотта святой Грааль ассоциируется с местью. Теперь я так же уверен в этом, как в том, что Скотт простил своего отца за зло, причиненное им много лет назад. Но это все, в чем я уверен; несмотря на то, что я сделал огромный прогресс, я все еще нахожусь перед кирпичной стеной, потому что я, хоть лопни, не могу понять, что Скотт собирается делать. Что он может сделать? Не настолько же он безрассуден, чтобы желать стать хозяином банка, ведь всем известно, что Корнелиус, почуяв малейшее предательство, мгновенно уничтожает своего соперника. И если Скотт не планирует никаких сверхвероломных действий, то что же, черт возьми, он собирается тогда делать?
Это меня беспокоит. Но в одном я уверен. Я должен разобраться. Если в нашей игре ставки высоки и у него в руках спрятан пиковый туз, самое меньшее, что я могу сделать, чтобы защититься, это узнать, какие карты у него на руках. Скотт может быть опасен не только для Корнелиуса, но и для меня тоже.
Впервые в жизни я смотрю на Скотта не как на друга, а как на соперника.
4 июля 1958 года. Еще одно семейное сборище, но уже не такое большое. Эндрю и Лори устроили шумную вечеринку на военно-воздушной базе, а Рози, которая преподает английский в женском закрытом учебном заведении вблизи Веллетрии, уехала в Европу, чтобы ознакомиться с педагогическими теориями Элфриды. Тетя Эмили, которая уже почти собиралась ехать к Эндрю и Лори, все-таки приезжает на Пятую авеню. Я думаю, мама сообщила ей, что она беспокоится о Вики, а тетя Эмили любит помогать людям, когда они в беде.
С Вики все в порядке, ей просто надоело быть беременной, надоело, что с ней обращаются, как с какой-то бесценной вазой династии Тан. Естественно, она раздражена, что не может ничем занять себя. Если бы мне пришлось жить в этом доме с четырьмя детьми, которые крушат все вокруг, и с Корнелиусом и мамой, которые продолжают свою пылкую любовную интрижку всякий раз, когда им кажется, что никто не смотрит, то я бы полез на стену. Я принес Вики новый перевод писем Цицерона, в которых автор так живо выражается что, кажется, видишь его живым, здоровым где-нибудь в «Клубе никкербокеров». Или, к примеру, на пресс-конференции, где он мечет громы и молнии по адресу некоторых оскорбительных с нравственной точки зрения новых сериях махинаций Уолл-стрит. Мне нравится пассаж, в котором говорится, что он боится Цезаря не более чем блестящей поверхности моря. Да, Цезарь был мудр. Цезарь играл в карты, держа их близко к груди.
Как Скотт.
Мое любимое занятие в настоящий момент – это пытаться поставить себя на место Скотта и понять, что бы я сделал, если бы хотел отомстить за моего отца. Прежде всего я бы взял под свой контроль банк и, возможно, поменял название «Банк Ван Зейла» на «Банк Салливена» для того, чтобы поставить крест на царствование Корнелиуса и возвести памятник Стиву. Это было бы хорошей местью за Стива и переписало бы заново ужасное прошлое или, как сказал бы Томас Элиот, это обеспечило бы легенде равные права с существующей реальностью. После этих размышлений я не вижу, почему нельзя допустить, что цель Скотта – сесть на место Корнелиуса. Это неопровержимая версия. Единственная проблема заключается в том, что она едва ли может осуществиться.
Скотт не может заполучить этот банк. Если это была бы корпорация, которой управляла бы олигархия, то, возможно, ему как-нибудь удалось бы заполучить ее, но это ведь не так. Этим банком управляет диктатор Корнелиус, и Скотт никак не сможет завладеть контрольным пакетом акций, забрав их у него.
Итак, мы опять на исходной позиции, и осознаем, что если Корнелиуса невозможно заставить отказаться от банка, то он должен добровольно оставить его кому-нибудь, и если можно быть в чем-то уверенным, так это в том, что он никогда не пожертвует трудом всей своей жизни ради сына Стива Салливена.
Я со вздохом облегчения откидываюсь назад, но странно, что вовсе не чувствую настоящего облегчения и через некоторое время взволнован больше, чем когда-либо. Способен ли Корнелиус психологически к тому, чтобы на серебряном блюдечке преподнести банк сыну Стива? Конечно, нет! А как насчет внуков? Но они еще слишком молоды и не так уж скоро вырастут. Даже если это так, то Корнелиус явно старался бы продержаться на своем посту, пока Эрику не исполнится восемнадцать лет... Но, в состоянии ли он продержаться? В конце концов его может подвести здоровье. И если он собирается держаться на своем месте, то к чему тогда эта невероятно сентиментальная речь на его дне рождения, когда ему исполнилось пятьдесят лет. Он тогда сказал, что в жизни есть более важные вещи, чем власть и деньги. Он сказал даже, что подумывает уйти раньше и поехать жить с женой в Аризону! Вся речь была такой нелепой, что я не воспринял ее всерьез, но, может быть, стоило бы это сделать. Может быть, это было ошибкой с моей стороны – радоваться мысли, что Корнелиус бродит по пустыне, подобно некоему святому, размышляя над пагубностью материализма.
Я со всей серьезностью думаю об этом. Если Корнелиус рано уйдет со своего поста или умрет, в то время как внуки все еще будут несовершеннолетними, то банк перейдет либо ко мне, к его безгрешному, исполненному чувства долга, многострадальному, квалифицированному пасынку с настоящими финансовыми мозгами (наиболее вероятно), или к Скотту – единственному парню в банке, который так же умен, как я. Но он не перейдет к Скотту, потому что он сын своего отца. И действительно ли я верю в то, что Корнелиус и в самом деле собирается начать новую жизнь? Нет, не верю. Во-первых, он еще не пришел в себя после смерти Сэма, и, во-вторых, он снова воспылал пламенной любовью к маме. Поэтому он не отвечал за свои действия, когда произносил эту речь. С годами люди могут развиваться, но они существенно не меняются, так что к любой беседе накануне вечером о так называемой «новой жизни» нужно относиться с большим недоверием. Возможно, Корнелиус убежден, что он будет счастлив, отказавшись от могущественного поста и поселившись в Аризоне, но он сам себя обманывает. Горбатого могила исправит.
Тем не менее, Скотт, должно быть, делает ставку на скорый уход Корнелиуса. Он должен знать, что, как только внуки Корнелиуса вырастут, у него уже никогда не будет шанса прибрать банк к рукам.
Может быть, Скотт все время работал над тем, чтобы убедить Корнелиуса уйти в отставку. Трудно поверить, что Корнелиус мог оказаться жертвой дурного влияния, но если он страдает размягчением мозгов, характерным для некоторых пожилых людей, то всякое могло произойти. Один Бог знает, что происходит во время их ночных шахматных посиделок. Скотт говорит, что они беседуют о вечности. Боже, любой человек, который в состоянии заинтересовать Корнелиуса разговорами о вечности, почти заслуживает быть его преемником. По-прежнему мысль о Скотте в роли Распутина, вдобавок к тому, что он «первый сорт», действительно очень беспокоит меня. Я должен до конца разобраться в том, что происходит. Я должен продолжать беседовать со Скоттом в надежде, что он снова совершит ошибку и в какой-то момент неосмотрительно проговорится.
– Вы по-прежнему беседуете о вечности во время этих ночных шахматных партий? – спрашиваю я у Скотта в конце июля. Мы только что закончили партию в теннис на корте летнего дома Корнелиуса в штате Мэн и в тени внутреннего дворика вместе пьем кока-колу. Как только я задал этот вопрос, я понял, что совершил ошибку, слишком прямой и слишком явный вопрос. Скотт обойдет его с ловкостью опытного матадора.
– О, мы перешли на теологические темы, – говорит Скотт, открывая следующую банку кока-колы. – Теперь мы погружены в философию!
– В философию? Корнелиус? Боже мой, Скотт, что за чудо – я не знаю, как это тебе удается!
– Это не чудо. Почему бы Корнелиусу не начать серьезно размышлять теперь, когда он приближается к старости? И разве не лучше вместо фразы: «Я считаю своим моральным долгом сделать то-то и то-то», сказать: «Я считаю, что если бы я поступил так-то и так-то, это больше соответствовало бы теории Платона об абсолютном благе!»
– О, Боже мой! О... Скотт, ты всучил ему Платона? И что думает Корнелиус о Платоне?
– Вначале он думал, что тот просто замечателен. Но когда он узнал, что Платон был гомосексуалистом, он потерял к нему интерес.
Мы с ним от души смеемся. Как я и предвидел, матадор легко взмахнул своим плащом и ушел от стремительной атаки быка. Я жду благоприятного момента, чтобы второй раз пойти в атаку.
– По правде говоря, – говорит Скотт, – я думаю, что Корнелиусу больше подходит Декарт. У меня такое чувство, что он все подвергает сомнению, экспериментирует новыми теориями, переоценивает все свои старые ценности. Пятидесятилетие, очевидно, глубоко на него подействовало.
– Скорее, смерть Сэма.
– Может быть. Так или иначе, эти два события вместе, несомненно, глубоко потрясли его.
– Сколько это будет продолжаться?
Скотт мечтательно смотрит на небо.
– Кто знает? Его умственный кругозор постоянно расширяется. Я всегда думал, что ты недооцениваешь его, Себастьян, – нет, не в том, что касается банка. В том, что касается его личной жизни. Если снять с него деспотическую манерность и позу крутого парня, то он может быть удивительно восприимчивым. И он очень одинок.
– Скотт, ты, должно быть, шутишь? Он помешанный на власти эгоцентрист!
– В банке, да. Но в час ночи перед шахматной доской он совершенно другой человек.
– Поверю тебе на слово. Если бы я регулярно в час ночи сидел за шахматной доской напротив Корнелиуса, то я давно бы уже стал занудой. Итак, что же произойдет, Скотт? (Кажется, я неспособен перестать задавать прямые вопросы, но этот вопрос звучит достаточно естественно в контексте беседы). Корнелиус на самом деле собирается уйти в отставку в течение последующих пяти лет и навсегда переселиться в Аризону?
– Думаю, что уже через неделю Аризона ему надоест до смерти. А что касается его отставки... Кто знает? Я просто сижу и слушаю его рассуждения.
Я озадачен этим явно недостаточным интересом к планам Корнелиуса рано уйти в отставку. Если Скотт когда-либо собирается что-либо получить, Корнелиус должен уйти в отставку в недалеком будущем.
– Я думал, что ты сидишь и читаешь ему лекции о Платоне!
– Только когда он просит меня об этом! – лениво улыбается он, такой хладнокровный, такой спокойный и такой уверенный. Как будто он нисколько не сомневается, что, в конце концов, банк будет принадлежать ему. Как будто он знает, что он в безопасности, что бы ни случилось. Я и внуки – не в счет, как и все остальные партнеры, потому что Скотт с Корнелиусом играют в шахматы на банк, и Скотт уже понял, как он может поставить мат.
На этот раз матадор, взмахнув плащом, бросил мне пыль в глаза. Я ничего не вижу. Я сбит с толку и обманут.
– Ну, ладно, – сказал я, уступая и готовясь уйти с поля боя, – через пятьдесят лет мы все будем мертвы, так что какого черта! Это напоминает мне ту строку из «Ист Коукера» из «Четырех квартетов» – эй, я хотел бы тебя обратить к Томасу Стернсу Элиоту, Скотт...
– Я недавно сам обратился к нему. Сейчас я не могу понять, почему я всегда находил его таким скучным. Какую строку из «Ист Коукера» ты имеешь в виду?
– Ту, которая про смерть.
О, тьма, тьма, тьма. Все они уходят в тьму,
В пустоты меж звезд, в пустоты уходят
Пустые писатели, полководцы...
– «...Коммерческие банкиры!» – говорит он вместе со мной, и мы оба заливаемся смехом. Так в Англии называют банкиров инвестиционных банков. Элиот когда-то был банкиром.
– Ладно, такова жизнь! – флегматично замечаю я. – Даже Корнелиусу в один прекрасный день придется уйти во тьму.
– Да, я думаю, он, в конце концов, понял, как надо управлять своим Богом, когда он достигнет конца освещенной комнаты.
Вот оно, наконец! Я точно не знаю, что это «оно» означает, но я потом выясню. Тем временем мне нужно продолжать непринужденную беседу.
– О, с Богом он все уладит, без проблем, – бойко говорю я, – а затем он прямо пойдет наверх по пути, усыпанному розами, к большому банку, который ждет его в небе...
Скотт разражается смехом и выливает кока-колу на свою теннисную майку.
– Смотри, что ты наделал, Себастьян!
– Я?
– Да, ты! Никто другой, кроме тебя, не может заставить меня так смеяться!
Милая беседа двух старых друзей. Сложная беседа двух новых соперников, которые могут стать очень серьезными врагами. Я жду, пока он уходит менять майку, я сижу во внутреннем дворике и думаю, думаю, думаю.
Корнелиус все чаще стал размышлять о смерти, у него появилось чувство вины за свое прошлое. Способен ли такой аморальный человек, как он, чувствовать вину? Да, несомненно. А если учесть строгое религиозное воспитание, то Корнелиус должен по идее испытывать адские муки совести. Комплекс вины у таких людей делает их жизнь невыносимой.
Бьюсь об заклад, что Корнелиус испытывает соблазн отдать банк Скотту, чтобы смягчить свою вину перед Стивом. Он считает, что это единственный способ уладить свои отношения с Богом.
Конечно, Скотту потребовались годы работы, чтобы достичь такого настроения у Корнелиуса. Он был самоотвержен, дисциплинирован, фанатичен. Он искал справедливости – как он говорит, «высшей справедливости», – подразумевая безжалостную силу, которая, возможно, управляется Богом, а может быть и нет. Но удастся ли ему свершить свое правосудие? Интересно. Ведь самые незначительные события могут расстроить его планы. Например, Корнелиус может подавить в себе чувство вины и потерять интерес к Скотту. Или отказаться от идеи преждевременной отставки и прожить еще очень долго, дольше Скотта, который всего на одиннадцать лет моложе его.
Что сделает Скотт, если естественное правосудие сработает не совсем так, как он этого ожидает? И что в этом деле есть естественное правосудие? Не сочту ли я естественным правосудием, если Скотт вырвет банк у меня из-под носа? Конечно, нет.
Естественное правосудие, вероятно, существует. Вероятно, существует и Бог. Я не знаю. Я не считаю себя заносчивым интеллектуалом, чтобы думать, что знаю ответы на все вопросы. Но одно я знаю точно. Если есть Бог, то я твердо уверен, что Он помогает тем, кто сам себе помогает.
Я решительно намерен помогать себе. Более того, я думаю, что Скотт должен сделать то же самое, если возникнут трудности, и что меня пугает больше всего, это то, что, вероятнее всего, он победит. Однажды, когда Корнелиус состарится, устанет и станет уязвимым, Скотт начнет закручивать гайки.
На следующий день мы со Скоттом снова играем в теннис и он выигрывает. Это, кажется, плохая примета, и потом, когда мы сидим и пьем кока-колу в тени внутреннего дворика, я более молчалив, чем обычно.
Что мне делать со Скоттом? Если бы я смог доказать Корнелиусу, насколько опасен Скотт, то я бы немедленно избавился от соперника, но у меня нет конкретных доказательств того, что происходит в голове Скотта. Кроме того, я не могу поверить, что Корнелиус с его интуицией не догадывается о далеко идущих планах Скотта. Неужели Корнелиус не понял, что он подобен лабораторной морской свинке, за которой наблюдает очень талантливый ученый? Не похоже на Корнелиуса, чтобы он закрывал глаза на возможную для себя опасность. Как только кто-нибудь становится его потенциальным противником, он его увольняет. Тогда почему Корнелиус не уволил Скотта? Почему он закрыл глаза на действия Скотта? Должно быть, Скотт как-то сумел нейтрализовать его подозрительность, но как он это сделал?
Я стараюсь понять, что происходит в голове Корнелиуса. Он так долго был всемогущ, что, по-видимому, не может представить себе ситуацию, в которой Скотт мог бы быть неуправляем.
Но я могу.
Допустим, Скотт устанет ждать и решит помочь естественному правосудию. Допустим, Корнелиус заболеет, на самом деле заболеет, так что он будет вынужден передать ему большую часть своих полномочий и ему останется только ставить свою подпись там, где Скотт ему укажет. Допустим, Скотт заключит секретную сделку с другими партнерами, которые все ставят на то, чтобы сбросить единоличное правление Корнелиуса и заставить его войти в корпорацию. Конечно, Скотт мог бы стать президентом новой корпорации, а Корнелиус, ослабленный болезнью, перешел бы на верхний этаж и занял бы место председателя совета директоров. Это не сможет произойти, если мое прежнее предположение, что Корнелиус в глубине души предубежден против Скотта, поскольку тот – сын Стива, оказывается верным. Но это сможет произойти, если, как я теперь думаю, Корнелиус оставил воспоминание о Стиве в прошлом и убедил себя по причинам, которые я по-прежнему не совсем понимаю, что Скотт никогда не сможет быть для него угрозой.