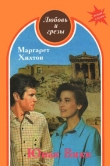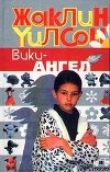Текст книги "Грехи отцов. Том 2"
Автор книги: Сьюзан Ховач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Том 2
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
СЕБАСТЬЯН
1958 – 1960
12 февраля 1958 года. Умер Сэм Келлер, и я как будто заново родился, потому что теперь у меня второй раз появилась возможность получить то, что я хочу, и на этот раз я добьюсь своего.
Встретил Корнелиуса, он выглядит как туберкулезный. Не знаю, что сказать. Наконец бормочу: «Сожалею». Он смотрит на меня, как будто я обезьяна какая-нибудь, но Корнелиус в таком сильном шоке, что не сомневается в искренности моих слов.
Он никогда не узнает, как сильно я не любил Сэма.
17 февраля. Похороны Сэма Келлера. Яркие цвета на сером фоне Вестчестерского кладбища. Корнелиус нашел место на фамильном участке семьи Ван Зейлов для этого своего названного братца. В прошлом году умерла мать Сэма, и у него больше не было родственников по крови.
Ярко светит солнце. Могилу окружает толпа скорбящих близких. Многие из сотрудников банка на Уиллоу-стрит и Уолл-стрит отошли от Сэма в последний год его жизни, когда он гонял всех своих подчиненных, стараясь быть большим сукиным сыном, чем Корнелиус, но сейчас все это забыто, и люди помнят только то, каким он был популярным когда-то; все говорят о пресловутом обаянии Келлера.
Целое море цветов бесстыдно пламенеет на фоне замерзшего кладбища. Омерзительная церемония понемногу продвигается вперед. Отвратительно. Почему мы именно так расстаемся с покойниками? В Древнем Риме поступали правильно: большой погребальный костер и похвальное поминальное слово. Даже кельты были более естественны с их оплакиваниями покойника и бдением у гроба. У некоторых германских племен когда-то была принята кремация покойников; и только англы и саксы, собравшись в своих крепостях, усовершенствовали отвратительный обычай тайно копать ямы в земле для своих покойников, а затем втихомолку засыпать трупы землей, подобно кошкам, хоронившим свои экскременты. Омерзительно. Интересно, что думают Рейшманы обо всех этих замкнутых англосаксонских лицах, старающихся поддерживать безучастную тишину. Я еще никогда не был на еврейских похоронах. Это удовольствие у меня впереди. О, Боже.
Я вижу мраморное лицо матери. Почему она не плачет? Почему никто не плачет? Это так неестественно. Мы должны рыдать, в отчаянии рвать на себе волосы. Это было бы интересное зрелище. Дали хорошо бы это изобразил: искаженные горем лица, похоронные венки – и все это на фоне пустыни, символизирующей тщету человеческих страстей. Нет, пожалуй, у Босха получилось бы лучше: маленькие страдающие человечки и темные чудовища, прячущиеся на заднем плане.
Я вижу Эндрю и Лори; они хорошо смотрятся вместе. Их дети остались в Манхэттене: самому старшему из них всего три года. Я думаю, что дети должны ходить на похороны, невзирая на возраст, они могли бы научить взрослых, как вести себя более естественно. Я должен поговорить с Эндрю, но это нелегко. Что происходит в его голове? Так ли он на самом деле счастлив, каким пытается выглядеть? Вероятно, да. Может быть, он сумеет научиться управлять самолетом так, чтобы не разбиться, но даже самых глупых животных можно научить делать умные трюки, а в Эндрю есть что-то очень глупое. Конечно, глупым людям везет. У них не хватает ума понять, насколько в действительности ужасна жизнь. Тем не менее мне нравится Лори. Интересно, какова она в постели. Ну, хватит!
Вижу тетю Эмили и стоящую рядом с ней Рози, она, несомненно, навсегда останется девственницей. Рози похожа на тетю Эмили, она начисто лишена сексуальности, неглупа, но с несколько ограниченным кругозором, первоклассная лошадь с шорами на глазах. Думаю, что мне нравятся и тетя Эмили, и Рози, но я не могу общаться с ними. Мне не о чем с ними говорить.
Вот стоят партнеры из банка Ван Зейла, напыщенные ничтожества, – все они, кроме Скотта, глупее меня. Мне нравится Скотт. Ищу глазами Скотта, черноволосого, черноглазого, со строгим бледным лицом. Уайклиф, вероятно, был похож на Скотта – вероятно, все средневековые еретики были похожи на Скотта, когда шли на костер, готовые умереть за свою идею. В Скотте есть что-то очень странное. Что-то от привидения. Но он хорошо играет в сквош и способный работник. На днях он рассчитал акции «Коустал алюминиум» со скоростью мастера, разделывающего треску.
Вот передо мной члены «Братства Бар-Харбора», седые мужчины средних лет в черных костюмах с осунувшимися от горя лицами. Корнелиус и Джейк стоят в стороне друг от друга, но Кевин находится непосредственно рядом с Корнелиусом, и когда они встретились перед отпеванием, то пожали друг другу руки и немножко побеседовали. Мне нравится Кевин Дейли, но я его мало знаю. Вероятно, и никогда не узнаю. Как бы я хотел быть похожим на Кевина Дейли, блистательного, находчивого в разговоре, полного обаяния – обаяния, не похожего на пресловутую манерность Сэма Келлера, которая, по-моему, всегда отдавала нарочитостью. Обаяние Скотта подобно воде, вытекающей из водопроводного крана, а обаяние Кевина подобно бьющему ключом источнику. Да, я восхищаюсь Кевином Дейли, и мне нравятся его пьесы. Больше, чем пьесы Уильямса с их южным сексом и нервным напряжением. Кевин, когда пишет о сексе, не интересуется его механикой. Его больше занимает секс как форма общения, которая может то повергать человека в ад, то возносить его в рай. Иногда мне кажется, что Кевин так же хорош, как Миллер, несмотря на то, что я не верю, что кто-нибудь из ныне живущих американских драматургов в состоянии превзойти «Смерть коммивояжера».
Да, Кевин – талантливый парень... Интересно, как это происходит, когда ты с мужчиной. Может быть, я тоже должен был попытаться, но нет, тогда я бы лишился всех тех удовольствий, которые может давать только женщина. Меня забавляют сексуальные пристрастия Кевина. Он выглядит типичным представителем американской мужской популяции, которую Кинси так великодушно – а может быть, по глупости – считает образцовой.
Кевин – единственный из всех членов «Братства Бар-Харбора», глядя на которого у меня не возникает желания что-нибудь разбить вдребезги. Джейк выглядит больным, старый лицемер, хотя он ненавидел Сэма за то, что тот принадлежал к расе господ. Но, должно быть, это тяжелый удар, когда умирает один из твоих сверстников, даже если оказывается, что этот сверстник – бывший нацист, который всегда вызывал у тебя желание поднимать руки вверх. Боже, что пришлось вынести евреям во время войны!
Я смотрю на Корнелиуса: он похож на мертвеца. В один прекрасный день он им и будет, что изменится тогда в моей судьбе? Буду жить припеваючи, если повезет, в офисе старшего партнера в банке на углу Уиллоу– и Уолл-стрит. Мне не нравится Корнелиус, и я тоже ему не нравлюсь, но я его уважаю. Я думаю, что он меня также немножко уважает. Он будет меня больше уважать. Я думаю, Корнелиус знает, что он будет меня больше уважать. Но одну вещь я должен признать за Корнелиусом: хотя он необычайно глуп во многих областях, он становится умным, как только переступает порог своего банка. На самом деле я знаю, что, когда на Уолл-стрит большая суматоха, он оказывается самым ловким парнем. Нужно определенное усилие, чтобы восхищаться человеком, который редко заглядывает в книгу и который думает об искусстве как о хорошем вложении капитала, но это стоит усилий, потому что недооценивать Корнелиуса невыгодно. Мы все в банке прекрасно знаем это, потому что уровень безработицы среди тех, кто забывает это, всегда равен ста процентам.
Вон стоят другие: банкиры, брокеры, адвокаты и политики; бесконечные ряды невыразительных лиц. Все пришли на это убогое кладбище, чтобы вдохнуть воздух, отравленный этими таинственными цветами, – все, кроме самой важной персоны, женщины, которая в один прекрасный день будет принадлежать мне, героиня, которую я собираюсь спасти. Вики в больнице, она страдает нервным истощением. Три врача утверждали, что она не в состоянии присутствовать на похоронах своего мужа.
Я люблю Вики. У Джона Донна есть такая строка: «Ради Бога, помолчи и позволь мне любить тебя». Если бы только Вики перестала говорить и приглушилась к моему молчанию, то она бы очень многому научилась. У меня не хватает слов выразить, насколько сильно я ее люблю. Какая глупая вещь язык. Как странно, что мы все должны общаться друг с другом, открывая рты, шевеля языками и издавая звуки. Должен существовать более четкий способ общения, мы должны иметь фонари на наших лбах или пятьдесят пальцев на руках, чтобы каждый выстукивал свой код. Если есть Бог, в чем я сомневаюсь, то он создал очень плохую систему общения между людьми.
– О, Себастьян! – вздыхает моя жена Эльза по дороге домой, – прекрасные похороны, не так ли?
Мне нравится Эльза. Она глупая, но мне она все равно нравится. Сначала я подумал, что она умная, потому что ее рисунки хороши, но рисунки – это каприз. Как-то я прочел об умственно отсталом человеке, который не мог написать свое имя, но мог в уме вычислять логарифмы. Это похоже на Эльзу. Она создает чрезвычайно оригинальные рисунки человеческих глаз на фоне сложного узора, но в них больше ничего нет. Я возил ее в Нью-Джерси, потому что я считал таким забавным это мрачное проявление нашей отвратительной массовой культуры, но, хотя Эльза смеялась вместе со мной, ей втайне нравилась эта культура. Я обнаружил это, когда спросил ее, куда она хочет поехать на медовый месяц. «В Лас-Вегас», – серьезно сказала она. Я предложил ей всю Южную Америку. Я не мог видеть Европу после службы офицером в Германии. Я предложил ей Рио-де-Жанейро, все реликвии инков Перу, даже шикарные морские курорты Чили, но она сказала нет, Лас-Вегас, и, пожалуйста, остановимся в мотеле. Ну, мы так и сделали, и я должен признать, после этого Нью-Джерси, несомненно, показался скучным. Боже, насмотрелся я на эту массовую культуру. Разумеется, когда-нибудь все это будет уничтожено. Я даю на это пятьдесят лет. Из всех великих империй, которые знал мир, наша просуществует меньше всех. Двести лет мы гоняемся за его величеством долларом, и что мы производим? Атомную бомбу и «Я люблю Люси».
Я не возражал против Лас-Вегаса, потому что Эльза была такой прелестной, глупой, но прелестной, и мне нравилось заботиться о ней. До этого я никогда ни о ком не заботился, потому что о всех членах нашей семьи всегда заботился Корнелиус. Мне нравилось также трахать ее всякий раз, когда мне этого захочется. Эльза никогда не говорила «нет», и казалось, что никогда ничего не имела против этого, так что Лас-Вегас мы видели в основном из окна нашей спальни в мотеле. Но, в конце концов, для этого и существует медовый месяц.
Когда мы обосновались в нашей новой квартире в Ист-Сайде, я сказал ей, что мы могли бы также завести ребенка, и она сказала «хорошо», и мы так и сделали. Никаких проблем. Мне нравилось, что она была беременна, и я был доволен, что родился мальчик. Я был бы также доволен, если бы это была девочка, но я всегда думал, что лучше, когда первый ребенок мальчик, поскольку впоследствии он будет заботиться о своих сестрах. Однако судьбе было угодно, чтобы у этого мальчика не было сестер, так как скоро после родов что-то произошло с яичниками Эльзы и доктор сказал: «Сожалею, но больше она не сможет рожать». Было очень жаль. Мне нравился этот ребенок. Он был красненький с черными волосами, и большую часть времени глаза у него были закрыты. Это вызывало у меня интерес. Вероятно, я его любил, несмотря на то, что чувство, которое возникало у меня, не было похоже на любовь в обычном понимании. Однако, если бы кто-то попытался отнять у меня ребенка, я бы тотчас погнался за вором, избил бы его дубинкой и забрал бы ребенка обратно. Эльза стонала из-за того, что кормление грудью доставляет ей сильные боли и что геморрой мучает ее, но маленький ребенок уютно лежал в своей детской кроватке и не говорил никаких глупостей, маленький индивидуум с самостоятельным умом. Умный, ловкий ребенок. Глупая Эльза. Бедная Эльза. Я любил ее по многим причинам, неприятности же происходили главным образом из-за того, что ее культура была мне чужда. Я очень старался изучить ее, но не нашел ничего, что связывало бы меня эмоционально с этими восточными взглядами, и понял, что навсегда останусь чужим, неевреем, у которого хватило нахальства жениться на представительнице великого дома Райшманов. Я также осознал, насколько отличаются евреи от других, они не низшие и не высшие, а просто совсем другие, другие, другие. Они видели мир под другим углом, по-другому воспринимали историю, и у них были другие защитные механизмы для того, чтобы жить с их громадным коллективным сознанием страдания и боли.
Разумеется, в наши дни было бы ошибкой делать любые обобщения о расовых, культурных и религиозных группах. В старые времена, когда эти группы были четко определены, можно было найти этому какое-то оправдание. Кельты были рыжими и носили усы, англосаксы были огромными блондинами и т. д. и т. д., и такова была однородность внутри каждой группы, что давала чужестранцу возможность делать определенные разумные обобщения, которые имели шанс оказаться верными. Даже в таком случае можно только удивляться наиболее предубежденным замечаниям таких историков, как Цезарь или Тацит. Но в наши дни мы все так перемешались, что любое обобщение ничего не стоит и любые предубеждения несостоятельны как с этнографической, так и с нравственной точки зрения. Тем не менее это не помешало Рейшманам обращаться со мной как с представителем более низкой расы и это не помешало мне начать с отчаянием подозревать, что, может быть, они были правы.
С тещей у меня не было проблем (думаю, она находила меня сексуально привлекательным), но тесть был настоящим бедствием. Сначала я думал, что он хоть немного постарается быть со мной любезным, поскольку Корнелиус был одним из его старых друзей, но, очевидно, в какой-то момент во время моей помолвки с Эльзой, он обиделся и вел себя как человек, который не мог даже смотреть на меня, так как я напоминал ему о какой-то большой личной обиде. Неистовый антисемитизм мамы, вероятно, не мог его не задеть, и я, помня некоторые из ее высказываний во время моей помолвки, нисколько не был этим удивлен.
За небольшим исключением, все остальные Рейшманы были в равной степени несговорчивы. Младший брат Эльзы, хороший малый, так же как и я, находил обстановку в семье смешной, замужняя сестра, жившая в Нью-Джерси, была такой же скучной, как ее мать, а дальние родственники Рейшманов были ужасны. Я не антисемит. Некоторые из моих родственников тоже ужасны, но, по крайней мере, я чувствую, что могу найти общий язык с ними, так как знаю, что я точно такой же, как они.
Я решил, что мне нужно научиться обращаться с Рейшманами, и первым моим порывом было искать поддержки в своей культуре. Могли же евреи поддерживать древние традиции празднования еврейской пасхи, а ирландцы – поклонение Бриану Бороиме1 в условиях враждебного окружения, так и мне придется вынуть из пыльного шкафа какой-нибудь подходящий к случаю англосаксонский скелет! И только тогда я понял, что почти ничего не знаю о моих далеких предках. Разгромив западную цивилизацию и добившись успеха, англосаксы вовсе не были озабочены своими корнями, зачем тратить время на собирание родовых мифов, когда можно тратить время на то, чтобы наслаждаться своим положением на вершине пирамиды? Кроме того, изысканное цивилизованное настоящее с его привилегиями, снобизмом и властью намного более привлекательно, чем бешеное, дикое и мрачное прошлое. О, да. Я прекрасно знаю, что значит быть членом привилегированного меньшинства! Но чему Рейшманам, несмотря на все разногласия, удалось меня обучить, это тому, что принадлежать к гонимой расе, – сущий ад, и в течение шести месяцев после моей свадьбы они довели меня до состояния настоящего унижения, подавленности и гнева.
Не удивительно, что я почувствовал, что должен предпринять какой-нибудь решительный шаг. Я начал сопротивляться. Скотт порекомендовал мне несколько книг, и я, раздраженный тем, что кто-то смеет обращаться со мной, как с человеком второго сорта, погрузился в исследовательскую работу. И сразу мой гнев рассеялся. В действительности я даже был благодарен своему тестю за то, что он подтолкнул меня к изучению древних рас нашей планеты и вновь разжег во мне интерес к истории.
Я обнаружил, что не все англосаксы были злодеями, – эта легенда была создана их врагами. Они не были только стадом одолеваемых вшами неотесанных людей, которые сжигали все находящиеся в их поле зрения римские виллы, – я был доволен, что познакомился с ними. Особенно я был потрясен историей короля Алфреда, величайшего из саксонцев. Он был младшим из четырех сыновей, и в детстве только и делал, что гадил в самые неподходящие моменты, поэтому все думали, что он дурак. Но Алфред, недооцененный Алфред, сражался против вторгшихся датчан и стал не только королем Уэссекса, но и всей Англии. Он восхищался культурой, в тридцать восемь лет научился читать и развил в себе такие интеллектуальные способности, которые посрамили бы многих американцев. Да, мне нравился Алфред. Он мне очень нравился, и в моей новой роли гонимого англосакса я цеплялся за воспоминания о его славе.
Когда родился мой сын, Рейшманы сообщили мне без всяких «с вашего разрешения» или «если вы не возражаете», что назовут ребенка Джейкоб Айзек.
– И не мечтайте об этом, – сказал я.
Возможно, в моих словах можно было усмотреть нечто нацистское, но я не был нацистом. Я по собственной воле женился на еврейской девушке и был рад, что так поступил. Правда, я был равнодушен к именам Джейкоб и Айзек, но мне очень нравилось имя Джейк, несмотря на все попытки моего тестя превратить его в ругательство. Как бы там ни было, я никому на земле не позволю, будь он еврей или не еврей, размахивать перед моими глазами флагом предрассудков и диктовать мне, как я должен назвать своего сына.
– Я его назову Алфредом, – твердо сказал я во время очередной беседы с Джейком Рейшманом.
– Алфред? – спросил счастливый дедушка с недоверием. – А-л-ф-р-е-д? Но что это за имя?
– Англосаксонское, – ответил я. – Это вопрос культурной, религиозной и расовой гордости.
Я думал, что с ним случится паралич. Джейк – человек с бледным лицом и глазами цвета голубого льда, но тогда он побагровел. Наконец он бессвязно сказал: – Это что, шутка?
– Нет, сэр. Я представитель великой расы и хочу, чтобы мой сын этим гордился. Алфред одержал победу над язычниками-датчанами, чтобы сохранить Англию как христианскую страну. Он был великим человеком.
– Мои предки, – сказал доведенный до бешенства Джейк, совершая большую ошибку, – были культурными людьми, когда предшественники Алфреда были неграмотными дикарями, выкрикивающими через Рейн оскорбления в адрес Цезаря.
– Ваши предки, – сказал я, – были странствующими паразитами. Мои же построили мир.
– Да, вы...
– Именно так! – запальчиво сказал я. – Теперь вы знаете, как я чувствую себя, когда вы обращаетесь со мной как с грязью! Я дохожу до бешенства, и мне хочется сказать всякого рода глупые непристойности, подобные этому высказыванию, «которое, как мы оба знаем, представляет собой отвратительную чушь. Я бы никогда этого не сказал, если бы вы не отнеслись высокомерно к имени Алфред. А теперь послушайте меня. Я охотно готов уважать вашу культуру, но будь я проклят, если позволю, чтобы это уважение было только односторонним. Вы тоже должны уважать меня и можете начать с того факта, что я отец этого ребенка. Я назову его Джейкобом Алфредом, но только при условии, что вы будете обращаться со мной с тем уважением, которого я заслуживаю.
Наступила тишина, а затем Джейк спросил:
– А в какой религии он будет воспитываться?
– В христианской. Это мое право выбирать, а не ваше.
– Эльза...
– Эльза, – сказал я, – сделает так, как я скажу.
Перед тем как продолжить, я сделал паузу, чтобы это дошло до его сознания.
– Если все пойдет хорошо, и меня, наконец, будут радушно принимать в этом доме, то я подумаю над тем, чтобы он получил надлежащие знания о еврейской культуре. В противном случае ваш внук будет совсем не еврей, и вы сможете видеть его очень редко.
Наступила еще одна пауза, но, наконец, Джейк вежливо сказал:
– Понимаю. Да, ах, я только что вспомнил, что одного из Зелигманов звали Алфред, и, конечно, был Алфред Гендельбах из Гендельбаха, Икельхаймер... Хорошее немецкое имя! Из-за чего это мы ссоримся. Что за буря в стакане воды!
Джейк был умным старым ублюдком и тогда очень хорошо меня понял. Он понял меня лучше, чем Корнелиус. После этого случая я гораздо лучше ладил с Джейком, потому что он стал уважать меня за то, что я сумел дать ему отпор. Мы должны уметь давать отпор таким людям, и когда я говорю «таким людям», я вовсе не имею в виду евреев. Я имею в виду людей вроде членов «Братства Бар-Харбора», людей, созданных Полом Ван Зейлом для мирового владычества. Мы должны разговаривать с этими людьми на их собственном языке, но я могу разговаривать на этом языке, когда хочу и когда все слова, которые мне нужны, у меня в голове.
Говорят, что Пол Ван Зейл часто выбирал таких протеже, на которых до него никто не обращал внимания.
Думаю, что он выбрал бы человека, похожего на Алфреда из Уэссекса.
Я думаю, что он выбрал бы меня.
26 февраля. Иду навестить Вики. Она в больнице уже две недели и должна завтра выписаться, именно поэтому я решил навестить ее сегодня. За все это время я пришел впервые. Я не хотел видеться с ней при других посетителях и подумал, что как раз перед выпиской у нее никого не будет. Все захотят увидеть ее уже дома.
У Вики была отдельная палата в больнице «Докторс», заставленная цветами, словно люди твердо решили компенсировать ей то отвратительное изобилие цветов, которое она пропустила на похоронах. Я люблю цветы, но они, по крайней мере, должны находиться на открытом воздухе, как то дерево магнолии во внутреннем дворике банка на углу Уиллоу-стрит и Уолл-стрит. Весной на нем появляется прекрасный цветок.
Как Вики.
Вики в белой ночной рубашке, отделанной белым кружевом, волосы со лба зачесаны назад, и их сдерживает белая ленточка. Она удивлена моему визиту и ничуть не рада. Но чтобы соблюсти приличия, делает вид, что рада.
– Себастьян! Как мило с твоей стороны, что ты пришел, но ты зря беспокоился.
Я подвигаю стул и сажусь рядом с кроватью. Я не спрашиваю ее, как она себя чувствует. Это глупый вопрос. У нее явно жалкий вид. Я не говорю, что мне жаль Сэма. Она, наверное, уже слышать не может этой фразы. Правда, в тот день, когда он умер, я написал ей записку: «Дорогая Вики, я очень сожалею. Очень многим будет не хватать Сэма. Всего лучшего, Себастьян».
Я даю ей маленькую книгу стихотворений Джона Донна. Никаких цветов, шоколада или журналов. Я не принес бы Вики то, что приносит каждый, так как в отличие от каждого я с огромной тщательностью выбирал подарок, и мне понадобилось время, чтобы убедиться, что он полон смысла.
– Читала Донна? – спрашиваю я.
– Да, по-моему, как-то очень давно я читала несколько его стихотворений, – небрежно отвечает она.
– В школах следует больше читать Донна, вместо того чтобы все время рассуждать о Шекспире. Однажды я встретил парня, который два года изучал в школе «Гамлета». Некоторые вещи должны быть запрещены законом. Два года копаться в «Гамлете» – это заставило бы самого Шекспира возненавидеть эту пьесу. За два года можно было бы уделить какое-то время чтению Донна. В наши дни, когда говорят «поэт», представляешь себе какого-нибудь неряшливого битника, шатающегося без дела по Калифорнии, но в то время слово «поэт» действительно кое-что значило. Когда говорили «литература», подразумевали поэзию, а поэзия – это общение. Донн общался с нами. Как писатель он силен и труден со своим ужасающим синтаксисом, но его ум торжествует над несовершенствами языка. Язык – это сплошная мука, и многие люди неспособны устно выражать свои чувства, но Донн сделал язык зеркалом своих мыслей. Язык Донна не поверхностный. Это живой язык.
Она смотрит на меня, широко раскрыв свои серые глаза. Я никогда не видел, чтобы Вики выглядела такой изумленной. Она думала, что я ублюдок, который не способен связать более двух предложений. Она думала, что мне действительно нравится смотреть кино про оборотней.
– О, – наконец неуклюже говорит она, – это замечательно. Спасибо. Я прочту эту книгу.
Я смотрю на журнал, лежащий на столе. Рядом с ним книга, шпионский роман, современная небылица для людей, стремящихся убежать от действительности.
– В следующем месяце на Бродвее будут ставить новую пьесу Кевина Дейла, – сказал я. – Тебе же нравятся пьесы Кевина?
– Да, большинство из них.
– Хочешь посмотреть новую пьесу? Если хочешь, пойдем со мной.
Она настороженно смотрит на меня.
– Вместе с Эльзой?
– Нет. Эльза не понимает пьес Кевина. Она считает, что они про семейные пары, которые вежливы друг с другом, тогда как должны ссориться между собой.
– Но разве это не будет выглядеть странно, если ты пойдешь со мной без Эльзы?
– Нет. Почему я не имею права пойти вечером в театр вместе с моей сводной сестрой после всего, что ей пришлось пережить, и если она хочет посмотреть пьесу, которая не доставила бы Эльзе никакого удовольствия. Что плохого в том, что Эльза остается дома?
Вижу, как она поспешно сделала судорожное движение при напоминании о тяжелой утрате, которая ее постигла. И тут же вычеркиваю из головы нарисованную мной картину, как она ложится в постель с Сэмом, – мне это ничего не стоит сделать после тяжелой девятилетней практики совершенствования этого вида искусства. Но я все еще смотрю на нее и думаю, какой беспорядок внес он в ее жизнь. Если бы я мог вскрыть ее череп и заглянуть внутрь, я подозреваю, что увидел бы нечто похожее на клубок шерсти, в который долго играли кошки. Прежде чем этот клубок шерсти снова будет годен для употребления, нужен кто-то, у кого нашлось бы желание и терпение распутать его. Сэм Келлер был занят одним – он старался доказать и себе и другим, что он умнее Корнелиуса (но это было не так) и что он такой же жесткий, как любой аристократ с голубой кровью с восточного побережья (это так), и такой же антигитлеровец, как Черчилль, Рузвельт и дядя Джо Сталин (он не обманывал меня). Но правда заключалась в том, что он был просто трудолюбивый сукин сын, лишенный воображения и интеллектуальных интересов, лишенный самостоятельности (много лет тому назад Корнелиус купил его с потрохами) и без всякой склонности к тому, чтобы распутывать клубки шерсти. Он часто хвастался тем, как он мог чинить телевизоры (в те дни некоторые шутники в офисе острили: «необходима машина, чтобы сделать машину»), но я подозревал, что, когда дело касалось его собственной жены, он совершенно не знал, с чего начать.
– Ладно, Себастьян, – с подозрением говорит Вики, – разумеется, очень мило с твоей стороны, что ты хочешь пригласить меня в театр, но...
Тут открывается дверь. Входит Корнелиус. Мне следовало бы догадаться, что он каждый вечер навещает ее, свою Электру.
Древние греки разбирались в семейной жизни. Я восхищаюсь греками. Очень жаль, что их цивилизация, достигнув своего расцвета, стала распадаться, но такова судьба человека независимо от того, принадлежит ли он к классической цивилизации или к современной массовой культуре: упорно работать, богатеть, купаться в роскоши, затем распадаться. Корнелиус, этот яркий представитель нашего материалистического века, явно находился в самом начале своего распада, несмотря на ходившую по Уиллоу-стрит легенду о том, что его не берет даже алмазный резец. И если даже ему самому удастся избежать полного декаданса, то его внуки – сыновья Вики, когда вырастут, станут последователями Джека Керуака, так теперь называют в журнале «Тайм» поколение битников конца шестидесятых. Меняется имя, но не сценарий: уйма наркотиков, всеобщая инертность и смертельная скука.
– Привет, – говорит мне Корнелиус, после слюнявых поцелуев с Викой.
– Привет.
Он ждет, чтобы я ушел. Я остаюсь. Нам всем невольно приходит на ум глупый случай, происшедший много лет тому назад в Бар-Харборе. Я сидел на солнце у бассейна и читал книгу – это был «Пустырь» Элиота – и любовался видом, когда Вики вышла из дома, чтобы поплавать. К тому времени я уже больше не плавал в дневное время, потому что ненавидел, когда люди отмечали, насколько я волосат. Меня не волнует, что я волосат, но я ненавижу, когда люди пялят на меня глаза. Одна из самых приятных черт Эльзы – это то, что ей нравится моя волосатость! Она говорит, что это сексуально. Никто никогда мне раньше этого не говорил и не вел себя так, будто это действительно так.
На Вики был темно-синий цельный купальник, который был ей уже мал. Я увидел прекрасную четырнадцатилетнюю девушку, похожую на Джульетту, и тогда же понял, что должен чувствовать бедный ублюдок Ромео.
Она села спиной ко мне, будто меня и не существовало, свесила ноги в воду и стала пристально смотреть в сторону моря. У меня началась эрекция, и это доставило мне ужасное неудобство, я расстегнул брюки и начал ерзать, пытаясь устроиться поудобнее на плетеном кресле, кресло заскрипело, и Вики обернулась на звук.
Скандал! Слезы и сцены. Мама смотрела на меня так, будто мужские половые органы – самая отвратительная вещь, которую когда-либо изобретали, но она все же пыталась защитить меня. Корнелиус был в истерике, он обращался со мной, как с насильником, и меня заставили все лето провести с моими кузенами Фоксуорсами, которых я ненавидел. В конце концов Корнелиус успокоился, поняв, что он вел себя в точности так, как описывается в истории болезни у врача-психоаналитика, и заставил всех нас поклясться, что мы забудем об этом случае. Но, конечно, ни один из нас не забыл об этом.
Вики, без сомнения, очень волновали вопросы секса, но я здесь ни при чем. Любая нормальная девушка, наткнувшись на своего сводного брата, который бегает в лихорадочном замешательстве с расстегнутой ширинкой, раздраженно сказала бы: «Что, черт возьми, ты делаешь?» Или, если бы она была застенчивой, то отвела глаза и притворилась, что ничего не заметила. Но впадать в истерику и, рыдая, бежать к папе – неестественно. И сейчас, когда я опять оглядываюсь назад, вспоминая этот случай, то снова поражаюсь, как она ладила с Сэмом Келлером. Хотя вокруг все еще говорят о том, какой у них был фантастический брак и в какой семейной идиллии они жили, но меня это удивляет, очень удивляет.
– Ну, спасибо тебе, Себастьян, за то, что ты заглянул, – говорит Вики, выпроваживая меня, но не потому, что она хочет избавиться от меня, а из-за того, что этого хочет ее папа, а Вики всегда старается делать то, что хочет папа. – И спасибо за книгу. Очень мило с твоей стороны.