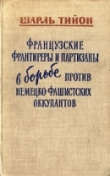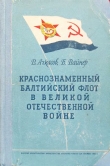Текст книги "Партизанская хроника"
Автор книги: Станислав Ваупшасов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
– Засада, – прошептал Ларионов.
Партизаны отползли назад.
– Засада не помешает поставить мину, лишь отрежет путь к отходу, – прошептал Сермяжко, и они кустами поползли вдоль железнодорожного полотна.
– Здесь положим, – остановился Константин.
Афиногентов, как тень, бесшумно приблизился к рельсам и быстро заложил мину.
Через полчаса – снова взрыв, снова пламя бушевало над разбитыми вагонами.
В стороне затрещали пулеметы и автоматы гитлеровцев, но подрывники благополучно отошли в Замостье.
– Теперь домой, – сказал Сермяжко.
По пути в районе Белая Лужа Сермяжко заглянул в тайник Каледы. Дядя Вася писал, что в районе началась карательная экспедиция.
Группа Сермяжко двое суток просидела в кустах и, только когда кругом затихло, решила заглянуть в лагерь. Здесь она встретилась с нашими разведчиками и партизанами Сороки и Мотевосяна.
9
Утром к нам в землянку вбежал радист Глушков и, волнуясь, подал мне лист.
– Читайте! – радостно сказал он.
Это было сообщение о разгроме немцев под Сталинградом.
– Об этом должны знать все партизаны и население, – сказал комиссар и вышел.
Из землянок выбежали бойцы, стихийно возник митинг.
Партизаны в течение дня размножили сообщение в сотнях экземпляров. Валя, Чернов, Денисевич, Ларченко и другие разведчики, взяв листки, разъезжали по деревням и раздавали их крестьянам.
Разгром фашистов под Сталинградом еще больше воодушевил партизан на борьбу с захватчиками.
– У дяди Васи была? – спросил Родин у Вали Васильевой.
– Еще нет, к нему попозже, – на ходу крикнула она.
– Поезжай сейчас, пусть обрадуется человек, обязательно сейчас! – приказал комиссар.
– Есть! – ответила Валя и, стеганув лошадь, помчалась.
Радисты дежурили у раций. Москва передавала все новые и новые данные о разгроме гитлеровских полчищ.
Под вечер, ведя лошадь на поводу, вернулась Валя. Рядом с ней, опустив голову, шел Василий Каледа. Он поднял глаза, и мы поняли, что случилось большое несчастье.
– Жену и младшего сынишку фашисты забрали, – с трудом проговорил Каледа.
Я взял его под руку и повел в штабную землянку. Василий Аксентьевич овладел собой, стал тихо рассказывать.
– Пронюхали, сволочи, что я вам помогаю… Когда карательная экспедиция началась, я со всей семьей был дома. Смотрю, по улице идут эсэсовцы, думал, мимо пройдут, где там – окружили дом. Я достал из-под пола наган и, крикнув «Бежим!», выскочил из дому. За мной выскочили дочь и старший сын. В упор я выстрелил в одного эсэсовца, тот рухнул, убитый наповал… Четыре километра преследовали нас гады, мы кое-как убежали. А жену и младшего сына забрали. Вероятно, их уже нет в живых, – тяжело вздохнул Каледа.
– Не отчаивайся, Василий Аксентьевич, – попробовал я успокоить его, но понял, что горе старика неутешно.
– Что ж, – сказал Каледа, – я знал, с кем веду борьбу. Так пусть же захлебнутся нашей кровью, звери! Я видел, что изверги сделали в деревне Воробьево: окружили дома и подожгли, а потом начали расстреливать выскакивающих из огня женщин и детей. Гады! Их нужно уничтожать, как бешеных псов… Неужели и сейчас не дадите мне оружие?!
– Где ваши сын и дочь? – спросил я.
– В деревне, у знакомых приютил.
– Приведите их в лагерь. Коско возьмет к себе.
– Сперва дайте оружие, – твердо сказал Каледа.
– Ступайте к Ларченко, он даст вам коня и автомат.
Каледа в тот же день привел своих детей. Партизаны окружили их любовью и заботой. Повариха Мария Сенько готовила специально для них. Каледа посмотрел на Сенько и своих детей, отер рукой выступившие на глазах слезы и сурово обратился к Ларченко:
– Давай задание!
На другой день он уже сидел в седле и вместе с Валей развозил жителям наши листовки о победе под Сталинградом.
Мне сообщили, что в деревню Кошели прибыл Степан Хадыка. Я распорядился привести его в штаб. Скоро в лагерь въехала повозка. Рядом со Степаном в санях сидела женщина, повязанная большим платком.
– Анна, – коротко представил ее Хадыка и спросил: – Где у вас тут поставить лошадь? Везде так чисто!
Я позвал Долика, и он взял у Степана лошадь, а мы пошли в землянку. Хадыка осмотрел стены, обшитые шелком парашюта, белые – также парашютные – покрывала на нарах и не спеша уселся на скамейку.
В это время Воронкова развязала платок и сняла полушубок. Я всмотрелся в мягкие черты лица, в приветливо поблескивающие карие глаза. «Сестра Максима», – припомнил я и послал Малева разыскать Воронкова.
– Анечка! – обрадованно закричал вбежавший Максим.
– Какой ветер принес тебя, Степан? – спросил я Хадыку.
– Мурашко послал. Они там что-то на железной дороге готовят, так Мурашко просил мин, только чтобы объемом были небольшие, а взрыв давали бы сокрушительный. Вот и записка. – Степан порылся за пазухой и вручил мне крохотный листок.
Мурашко писал, что есть возможность минировать на станции эшелоны, просил мин, сообщал, что работа идет, группа увеличивается.
– Больше записок не вози. Так и передай об этом Мурашко. Если что нужно, пусть словесно сообщает через тебя, – сказал я.
У нас были маломагнитные мины, но умеет ли Мурашко обращаться с ними?
– Дадим тебе хороших «вещиц», научим обращаться с ними, а ты хорошенько запомни и объясни Мурашко, – сказал я Степану.
– Постараюсь, голова, кажется, еще работает.
Луньков и Хадыка вышли из землянки. Я подсел к Анне и Максиму.
– Что в Минске?
– Не спрашивайте, не город, а концентрационный лагерь… Вам приходилось бывать в Минске? – спросила Анна.
– Приходилось, жил там.
– Знаете Университетский городок? Теперь городок и многие другие здания превращены в застенки СД. В самом городе и окрестностях гитлеровцы создали для истребления советских людей концентрационные лагеря. Редко кому удается живым выбраться оттуда. Они на Широкой улице, в деревне Малый Тростенец и в поселке Дрозды. Там замучены тысячи минчан и военнопленных. Да и те жители, которые еще свободны, также живут под постоянной угрозой смерти… Вот и меня стали преследовать. – Анна замолчала.
– Вере Зайцевой не угрожает опасность? – встревожился я.
– Она пока вне опасности: никто не знает, что у нее муж в партизанах. А вот про Максима пошли слухи… – Анна нежно положила руку на плечо брата.
Она помолчала, потом, оглядев землянку, снова заговорила:
– Как у вас здесь хорошо! Свои люди – и сердце отдыхает. А что в Минске! Минское гетто – сущий ад: там каждый камень пропитан слезами и кровью советских людей. За что? За то, что они евреи… Сколько было знакомых, товарищей… – По щекам Анны потекли слезы, и она дрожащим голосом рассказала страшную историю.
…В специальном лагере – гетто, расположенном в западной части города, фашистские варвары держали за колючей проволокой около ста тысяч евреев. Гетто было обнесено пулеметными вышками.
7 ноября 1941 года гитлеровцы в минском гетто устроили погром и массовое истребление еврейского населения. Пятнадцать тысяч мужчин, женщин, стариков и детей были согнаны в район Тучинки и расстреляны. Расстрелы длились несколько дней.
Особенно зверское побоище было учинено фашистскими палачами 28 июля 1942 года. В этот день они организовали массовый погром, охвативший все районы минского гетто и продолжавшийся четверо суток. 27 июля фашистские изверги приказали своим прислужникам – полицейским развесить объявления во всех районах гетто, в которых сообщалось, что 28 июля к девяти часам утра все жители гетто с пятнадцатилетнего возраста должны явиться на Юбилейную площадь. На этой расположенной в центре минского гетто площади населению гетто обычно выдавались отличительные повязки: красные – для работающих и зеленые – для безработных. Объявления предупреждали, что за невыполнение приказа виновные будут расстреляны.
Напуганные погромами жители гетто терялись в догадках. «Наверное, всех безработных будут уничтожать», – думали некоторые. Другие полагали, что это очередная ловушка для осуществления погрома.
С трепетом ждало население рокового дня. С 27 на 28 июля всю ночь моросил дождь. Природа словно заранее оплакивала жертвы готовящегося кровавого фашистского террора.
К утру 28 июля, кто сумел, ушел с рабочими колоннами на работу.
В полдень на Юбилейную площадь согнали всех оставшихся в гетто независимо от возраста. Многотысячная толпа собралась перед комитетом гетто, прямо на улице был поставлен огромный стол, празднично украшенный и уставленный всевозможными яствами. За столом сидели обер-бандиты, вдохновители и руководители затеваемого злодеяния. В центре этой шайки палачей сидели так называемый шеф гетто Реббе, комендант лагеря Ридлер и его помощники Готтенбах и Бенцке. Эти инквизиторы уже показали себя в предыдущих погромах и за особые заслуги в деле учинения расправы над советскими гражданами были награждены железными крестами.
Недалеко от стола возвышалась трибуна. С этой трибуны фашисты заставили композитора Иоффе произнести перед многотысячной толпой речь. Не зная еще истинных замыслов гитлеровцев, Иоффе начал говорить, что ему подсказывали палачи. Он успокаивал возбужденную толпу, уверяя, что немцы ничего плохого с ними не сделают. Он говорил так потому, что был уверен: при малейшем неповиновении эсэсовцы уничтожат всех. Разумеется, Иоффе чувствовал, что эсэсовцы стараются использовать его для своих целей. И все-таки в нем шевелилась слабая надежда, он цеплялся за нее.
Только он окончил речь, как со всех концов на площадь въехало несколько десятков черных крытых машин-«душегубок». Иоффе сразу понял, в чем дело. Понял это и народ. Композитор с поднятыми кулаками крикнул заволновавшейся толпе, по которой молнией пролетело слово «душегубки».
– Товарищи! Я вас обманул, вас будут убивать! Проклятые палачи…
Последние слова Иоффе потонули в крике многотысячной обезумевшей толпы, в страхе бросившейся в разные стороны. Все смешалось в какой-то огромный людской водоворот.
Иоффе был сдернут фашистами с трибуны и зверски убит. Фашисты, окружавшие площадь, открыли стрельбу из автоматов, в упор расстреливали бегущих.
Убив несколько сот человек, усеяв площадь и примыкающие к ней улицы трупами, изверги восстановили «порядок». К десяткам «душегубок» были установлены бесконечные очереди женщин и стариков. Детей отделили от взрослых и с поднятыми руками поставили на колени. Так они должны были стоять до своего конца.
Маленькие дети не выносили долго такой пытки и опускали усталые ручонки. Изверги подхватывали детей и, подняв высоко над головой, бросали на камни или резали их кинжалами.
Матери, стоявшие в очереди у «душегубок» и видевшие такую расправу над детьми, в ужасе заламывали руки, рвали волосы, сходили с ума.
Беззащитных женщин изверги хладнокровно оглушали ударами резиновых дубинок по голове или прикладами.
Не выдержав ужасного зрелища, народный артист Белоруссии Зоров кинулся на фашистов, но тут же был схвачен и брошен в «душегубку».
Только поздно ночью закончили курсировать «душегубки».
Утром в гетто повалили эсэсовцы; начался грабеж. Звенели стекла, разбивалась выбрасываемая из окон мебель. Эсэсовцы брали лишь самое ценное. Группа пьяных эсэсовцев ворвалась в больницу и перерезала всех больных, врачей и обслуживающий персонал.
До 3 августа гитлеровские головорезы уничтожили в гетто двадцать пять тысяч советских граждан. Минчане со страхом смотрели на «душегубки», курсирующие в Тростенец и Тучинку…
Когда Анна закончила рассказ, в землянке воцарилась мертвая тишина. Хотя это и не было для нас новостью, минские подпольщики уже сообщали нам об этом, все же рассказ Анны произвел на нас потрясающее впечатление. Губы Анны дрожали.
– С ума можно сойти, – прошептал подавленный рассказом Максим.
Анна снова заговорила:
– В больницу в Новинках приехал сам Кубе, осмотрел ее, а утром туда прибыл офицер СС в сопровождении химика и группы немцев. Они герметически закрыли баню, подвели к ней шланги от автомашин. В баню помещали по двадцать человек больных, пускали по шлангам отработанный газ. Через двадцать пять – тридцать минут гитлеровцы открывали двери и вытаскивали трупы, грузили их в машины и вывозили к ямам.
В этот день было уничтожено двести тяжелобольных.
В конце октября 1941 года в другой больнице больных заставили копать ямы. Когда ямы были подготовлены, подъехала полицейская часть и стала вывозить больных к ямам и там расстреливать.
Задержанных советских граждан, как правило, сначала избивали, потом, окровавленных, бросали в тюрьмы.
В тюремные камеры, где с трудом могли поместиться пятнадцать человек, фашисты вталкивали по семьдесят. Люди задыхались, некоторые стоя умирали. Многих заключенных, чтобы быстрее лишить физических и моральных сил, раздевали донага и держали на залитом водой цементном полу.
Тюрьмы зимой не отапливались. Среди заключенных были беременные женщины, грудные дети и старики. Арестованным один раз в день выдавалось 100 граммов смешанного с опилками хлеба и пол-литра кипятку. Заключенным не разрешалось пользоваться баней и умываться. В местах заключения свирепствовал тиф. Больных не лечили, а уничтожали. Поэтому заключенные принимали все меры, чтобы скрыть заболевание. Смерть косила людей.
Перед зверствами, которые совершались гитлеровцами, бледнеют ужасы средневековой инквизиции. Арестованных пытали железом, избивали шомполами, плетками, свитыми из проводов, со свинцовыми шариками на концах, пытали электрическим током, втыкали им под ногти иголки, раздавливали пальцы дверьми, дробили кости, травили собаками. Девушек и молодых женщин садисты раздевали донага, насиловали, а затем замучивали насмерть. Обреченным на смерть связывали руки колючей проволокой. Железные шипы глубоко врезались в тело, и в таких мучениях эти люди ожидали казни. Много людей, подвергавшихся пыткам, умирали на допросах.
День годовщины Великой Октябрьской революции фашисты превратили в день массовых казней беззащитных жителей. В этот день в центральном сквере в Минске были повешены многие жители города. Массовый расстрел был организован в минской тюрьме. Людей выводили по сто человек. Тех, у кого была хорошая одежда, раздевали. Зарывать трупы немцы заставляли самих заключенных, ожидавших расстрела.
Столицу Белоруссии превратили немецко-фашистские захватчики в лагерь смерти…
– Вы слышали о Сталинграде? – спросил я Анну.
– Нет… Разбили их?
– Разбили в пух и прах. Гитлеровцы только за последние три месяца потеряли сто двенадцать дивизий, при этом убито семьсот тысяч и взято в плен триста тысяч… – опередил меня Максим.
– Скоро освободят и нас, – сквозь слезы прошептала Анна.
В землянку возвратились Луньков и Хадыка.
– Вот и наловчился я, – похвалился Хадыка.
– А ну, покажи, – попросил я.
Хадыка взял учебную мину, ловко вставил взрыватель и показал, как поставить время.
– Мы тебе листовок дадим, а ты их распространи по сельсовету, может, и в Минск попадут. Пусть народ знает, – предложил Хадыке комиссар.
– Давайте, отвезу, – обрадовался он.
– Я в Минск поеду. – Анна поднялась. – Пусть сегодня же народ узнает о победе нашей родной Красной Армии. – Она повязывала уже платок.
– Отдохните еще, пока приготовим, – удержал ее Родин.
Хадыке дали четыре маломагнитки и капсюли к ним.
– Как ты доставишь их? – спросил я.
– Брошу под сено в сани и привезу, ведь до самого Озеричино партизанская территория, – весело ответил Степан.
– Эх, Степан, уж чересчур ты самоуверенный, – покачал головой комиссар. – Давай подумаем, как замаскировать мины в твоих санях.
Мы подошли к саням. Родин осмотрел их, поднял сиденье, затем перевернул и внимательно осмотрел низ.
– Что если здесь вынуть дощечку? – обратился комиссар к Степану.
– Хорошо придумано, – обрадовался тот.
Вербицкий быстро прибил снизу лист фанеры, а сверху вынул одну дощечку и, довольный своей работой, отошел в сторону.
– Никто и не догадается, что здесь двойное дно, – сказал он. – Только, когда будешь укладывать мины, Степан, положи соломы, а то будут дребезжать, – наказал он.
Луньков уложил мины, взрыватели, предварительно завернув их в сено, а Родин положил в этот же тайник пачку последних сообщений Совинформбюро. Сверху настлали еще сена, и Вербицкий прибил на место вынутую дощечку.
– Пора ехать, – сказал Хадыка, посмотрев на солнце.
Из землянки в сопровождении Воронкова и Гуриновича вышла Анна. Распростились. Воронков и Гуринович пошли провожать Анну, они долго шли рядом с санями и давали ей советы.
Рано утром возвратился Любимов с группой. Они благополучно проводили Морозкина и Кухаренка до озера Палик. Воронянский тепло принял их и обещал помочь пробраться ближе к линии фронта.
Любимов быстро оглядел расщепленные стволы деревьев, воронки от мин.
– По пустому лагерю они били или вы оборону держали?
– Было тут время жаркое, и мы немного прогулялись – в Полесье побывали, – засмеялся Карл Антонович.
– А мы-то думали, что только нам пришлось путешествовать, – улыбнулся Любимов. – Отряд Воронянского вырос, почти бригада. – И тут же, как бы спохватясь, воскликнул: – В дороге про Сталинград узнал!
– Это далеко было? – прищурился комиссар.
– В деревне Велень.
– Чудесно! – обрадовался Иван Максимович Родин. – У наших сообщений длинные ноги. А как народ?
– Радуется! Когда узнали, так в Велени праздник устроили. Молодежь красноармейские песни пела… Собирается в партизаны, – вместо Любимова ответил Юлиан Жардецкий.
– Теперь, друзья, идите отдыхать.
Они ушли.
– Хорошо, что народ знает про победу и радуется, – сказал комиссар. – Слишком много черных дней он видел… И все же надо народ предупредить о том, сколько еще трудностей нас ждет впереди. Врагу еще хребет не переломили.
– Правильно! Действуй, – сказал я.
Зашли в землянку. Комиссар сел за стол, взял последнее сообщение Совинформбюро, бумагу, карандаш и стал писать. Карандаш быстро бегал по листу бумаги. Я смотрел на его мужественное, с правильными чертами лицо, и мне вспомнился бой с гитлеровцами, далекий поход в Полесье, прорыв через железную дорогу… Везде Родин действовал хладнокровно и умело.
Окончив, комиссар прочел мне и Кускову листовку.
«Каждый советский человек на оккупированной врагом территории может приблизить час нашего освобождения, – говорилось в ней, – потому что каждый может помочь партизанам и подпольщикам, нашей славной Красной Армии в их самоотверженной борьбе…»
– Я думаю, нужно еще добавить о том, сколько истреблено и взято в плен гитлеровцев: народ наш любит конкретные дела, – добавил Кусков.
Комиссар согласился.
– Ты прав, пусть народ почитает радостные вести.
Наконец воззвание было окончательно отредактировано, и Малев отнес его печатать на машинке.
– Теперь весь отряд в сборе, надо провести партийное собрание, избрать бюро и секретаря, – продолжал комиссар. – Да и комсомольцев мы плохо еще воспитываем. Комитет комсомола вроде есть, а учебы никакой. Война вечно длиться не будет. Победим фашистов, выйдем из леса – везде руины. Нужно будет все восстанавливать, и уже сейчас к этому надо готовиться.
– Иван Максимович, ты пойми, мы не успели, – оправдывался я, но в то же время радовался настойчивости комиссара.
– Не подумай, будто я кого-то в этом виню, – спокойно проговорил он, – я говорю о ближайших наших задачах.
Утром было закрытое партийное собрание. Выбрали бюро, в которое вошли Родин, Сермяжко, Кусков, я и Мацкевич.
После собрания состоялось заседание членов партбюро. Секретарем был избран наш отважный подрывник Сермяжко. Как быстро рос этот немногословный, скромный партизан!
Решили побеседовать с каждым бойцом в отдельности и выяснить его политические знания, чтобы можно было укомплектовать группы для учебы из людей с одинаковым уровнем знаний. Из более подготовленных партизан решили создать группу лекторов. Эту работу поручили Родину и Сермяжко.
В этот же день провели общее комсомольское собрание и избрали новый комитет. Туда вошли Валентина Сермяжко, Валя Васильева, Андрей Ларионов, Алексей Михайловский и отличившийся в недавних боях Александр Яновский. Секретарем комитета был избран Яновский.
Родин и Сермяжко помогли новому комитету составить план работы. Через несколько дней все партизаны были распределены по группам, и политучеба началась.
Родин, Мацкевич, Сермяжко и Кусков руководили кружками по изучению истории нашей Коммунистической партии. Теперь по вечерам то в одной, то в другой землянке собирались партизаны и учились. Кое-кому учеба давалась нелегко, но постепенно все привыкли и поняли, что она необходима.
Не хватало литературы. Комиссар дал задание разведчикам собирать где можно политическую и художественную литературу. Спустя некоторое время были собраны почти все тома В. И. Ленина и несколько экземпляров Краткого курса ВКП(б). Партизаны приносили художественную литературу: произведения Горького, Пушкина, Маяковского, Шолохова, Николая Островского, – и таким образом незаметно была создана библиотека; Валя Сермяжко стала библиотекарем.
Из Минска возвратилась Анна Воронкова.
– Больше нужно таких листовок, – оживленно говорила она. – Для минчан это как хлеб. А если бы вы видели, что делается в городе! Немцы вывесили траурные флаги, закрыли все кино, театры и казино. Увидев улыбающегося человека, гитлеровцы сейчас же его арестовывают. Люди стараются принять опечаленный вид, но стоит взглянуть в глаза – они говорят совсем о другом: радостью сияют глаза советских людей… Знаете, что произошло на товарной станции? – спросила Анна.
– Нет, а что?
– Наши подорвали состав с цистернами, был большой пожар. Состав загорелся сразу с обоих концов…
– Кто же это сделал?
– Хадыка говорил, что знает… А фашисты просто взбесились: начали подряд арестовывать людей… Хадыка просил передать, что завтра или послезавтра прибудет сюда с каким-то товарищем.
Я и радовался, и злился. Какая необходимость взрывать эшелон на самой станции, когда можно было заминировать с таким расчетом, чтобы эшелон взорвался в пути следования? Эти мысли не давали мне покоя. Я с нетерпением ждал приезда Хадыки или Мурашко.
На другой день прибыл Мурашко.
– Расскажите о взрыве! – прежде всего попросил я.
– Эшелон застрял и взорвался на месте. Сгорели четыре цистерны и товарный склад.
– Чья работа?
– Олега Фолитара. Помните, я рассказывал вам об этом пареньке? Я ему дал две маломагнитные мины, он долго рассматривал их, потом сказал: «Я им устрою штуку». Я предупредил Олега, чтобы он минировал тот эшелон, который скоро должен отойти от станции. И вот на второй день утром я увидел на станции пожар. Днем в условленном месте, в развалинах, встретился с Олегом. Тот рассказал, как он с маломагнитками в карманах долго ходил по станции, присматривался. На первом пути стоял состав с горючим, Олег крутился возле него. Он стал заговаривать с охраной, клянчить сигаретку, но вместо сигареты получил подзатыльник. Тогда он смешался с железнодорожниками. Никто не заподозрил его: больно он молод. Один из сцепщиков проверял вагонные оси, и Олег увязался с ним. Выбрав момент, Олег прилепил одну мину к цистерне, а потом в конце состава пристроил и другую. Это было вечером. Готовый к отправке эшелон по неизвестной причине задержался. К утру он взорвался…
– Олег не задержан? – не выдержав, перебил я.
– Нет.
– Из вашей группы никого не подозревают?
– Пока что тоже нет, – ответил Мурашко.
– Счастье, что все хорошо кончилось. Олегу запретите показываться на станции, – предупредил я Мурашко.
– Он не хвастун? – о чем-то думая, спросил комиссар.
– Нет, – ответил Мурашко. – А что?
– А то, что от радости может похвалиться, – погибнет сам и погубит всю группу.
– Нет, Олег скромный парень. Он сам волновался, что так получилось. А на станцию мы его действительно больше не пошлем. Остальные две мины я отдал Игнату Чирко. Он железнодорожник, знает, когда и куда идет эшелон; ему легче достичь большего эффекта, – сказал Мурашко.
Мы заговорили о Зое Василевской.
– По-прежнему работает на аэродроме. Виделся с ней, она рассказала, что присматривается к людям. К ним на аэродром недавно пригнали работать группу военнопленных, и Василевская старается установить с ними связь.
Я дал Мурашко адрес Велимовича, рассказал, как от него получить взрывчатку, и предупредил, чтобы без особой нужды к Велимовичу не ходили.
Приближалась 25-я годовщина Красной Армии. Партизаны на железных дорогах устраивали крушения вражеских эшелонов с живой силой и техникой; на шоссейных дорогах работали наши засады.
Лысенко записал приказ Верховного Главнокомандующего, партизаны размножили его, а разведчики разнесли по деревням.
Валентина и Каледа поехали в деревню Крушник Гресского района к связной нашего отряда молодой девушке Нине Корзун. Они вручили ей листовки для распространения в райцентре Греск.
24 февраля разведчики возвратились. Вместе с ними на санях сидели четверо юношей и девушек. Нина рассказала нам страшную историю.
…Вечером 22 февраля 1943 года, в канун 25-й годовщины Красной Армии, в небольшой крестьянской избе в деревне Крушник собралась молодежь. Некоторые играли в домино, другие пели под аккомпанемент гитары партизанские песни. Тихо обсуждали последние события на фронтах.
– Завтра день Красной Армии, фашисты в этот день будут брехать о своих победах на фронте и об уничтожении партизан, – заметил хозяин, пожилой крестьянин с угрюмым лицом; это был отец Нины Павел Корзун. – А под видом борьбы с партизанами начнут и детей и стариков убивать…
– Недавно я была в Греске, специально разузнавала: карателей как будто здесь не будет… Наоборот, из Греска и Шищиц много немцев выехало, полицейские одни не пойдут, – возразила Нина.
Ей не сиделось, она ждала разведчиков из отряда, чтобы передать им ценные сведения. Разведчики приехали поздно вечером и, поговорив с ней, рано утром уехали. Нине хотелось снова попасть в Греск, узнать, какое впечатление произвели на население и оккупантов расклеенные партизанские листовки. «Сегодняшний день пережду, а завтра пойду», – подумала Нина.
23 февраля к двенадцати часам дня послышалась отдаленная стрельба. Она становилась все ближе и ближе. Крестьяне насторожились. Через час из деревни Поликаровки пришло несколько человек. Они сообщили, что по дороге Осиповичи – Бобовня идут эсэсовцы.
Два молодых парня Вячеслав Дробыш и Александр Тригубович начали успокаивать и уговаривать крестьян:
– Никуда не удирайте, все будет хорошо. Немцы, если и придут, ничего не станут делать плохого, если народ останется на месте. А коли сбежите – они сожгут деревню.
– Не слушайте их, они подосланы гитлеровцами! – сказала Нина.
Все в нерешительности стояли на улице, переговариваясь и споря. Многие были за то, чтобы уходить в лес; два парня всеми силами старались их удержать.
– Нина, что будем делать? – спросил отец.
– Надо обязательно уходить в лес. Как бы меня ни уговаривали, я все равно пойду, – твердо сказала она.
– А как мне, больному старику… Только в тягость вам буду. Вы, детки, уходите. Вы молодые, вас могут в Германию забрать, а мы с матерью останемся дома, – проговорил отец.
Между тем выстрелы все приближались. В деревню входили эсэсовцы.
Двоюродный брат Нины Анатолий выскочил на улицу и крикнул, поспешно запрягая лошадь:
– Выходите! Уедем!
Но Павел Корзун и его жена отказались ехать.
– Нет, детки… Коли мы уедем – немцы обязательно хату спалят… А вы езжайте!..
Анатолий и сестры вскочили в сани, помчались в сторону леса. Отец Нины Павел Корзун стоял на улице и, опустив голову, смотрел вслед удалявшимся. Со слезами на глазах к нему подошла жена. Нина помахала им рукой, сани быстро скрылись из виду.
Каратели вошли и начали повальные обыски. Они согнали весь скот и приказали крестьянам собраться в крайней хате. Многие поняли, что им грозит, и прощались со своими близкими.
Несколько гитлеровцев и полицейских подошли с гранатами к дому. Лица крестьян побледнели. Вячеслав Дробыш поднял руку, каратели поняли, что это «свой». Последовала команда: «Отставить!» Дробыша вывели. Он что-то прошептал офицеру, указывая рукой на крестьян. По-видимому, речь шла о том, что не надо расстреливать всех, что это может оказаться опасным… Тогда эсэсовцы приказали крестьянам разойтись по домам и никуда не выходить.
Родственники Дробыша и других полицейских торопливо запрягали лошадей. Гитлеровцы ходили по избам и расстреливали крестьян. Никого не оставляли в живых: ни женщин, ни детей, ни стариков… После этой зверской расправы все дома были подожжены.
Те, кто до прихода карателей успели убежать в лес, ничего не знали о происшедшем в деревне. До них доносились выстрелы и рев скота. Но вот они почувствовали запах дыма и заметили оседавшую на снег копоть.
– Ребята, что это за черные хлопья? – удивилась Нина. – Неужели подожгли? Пойдем на опушку, посмотрим.
Нина и еще одна девушка вышли из леса и увидели, что деревня уже почти сгорела.
Кроме деревни Крушник, горело еще пять деревень. Девушки стояли в каком-то оцепенении. «Мстить!» – промелькнула мысль. Опомнившись, Нина схватилась за голову: «Папа, мама, почему вы остались дома? Почему не уехали с нами? А может, еще живы? Может быть, удалось спастись?..»
Девушки возвратились к остальным и сообщили страшную весть. Когда стемнело, все вернулись в деревню. Она догорала; треск и багровые отблески нарушали зловещую тишину ночи. В лицо ударил терпкий запах жженого мяса.
– Верно, скот сожгли, – угрюмо заметил кто-то из парней.
Подошла чудом спасшаяся корова и с мычанием стала лизать девушкам руки. Едва сдерживая рыдания, парни и девушки направились к своим дворам. На улицах трупов не было. Но вот один из юношей выскочил со двора и крикнул, что нашел обгоревшие трупы своих родителей. Все начали обыскивать пожарища. Анатолий нашел в своем доме двенадцать обгоревших тел.
У тех, которые в темноте не нашли трупов родственников, еще теплилась маленькая надежда: «А может, живы!»
Наступившее утро не принесло никому радости. Выкопали общую могилу и в нее положили двадцать семь обгоревших трупов.
Приехали разведчики нашего отряда. Нина подошла к ним. Платок на ее голове сбился, и в густых каштановых волосах поблескивали седые пряди, появившиеся за ночь. Партизаны взяли ее в отряд.
Запасы хлеба и продовольствия подходили к концу. Мы устраивали на дорогах засады, ожидая обоза противника; наши связные просачивались в деревни, занятые немцами, но там продовольствия достать было трудно.
Коско выдавал все меньше и меньше продуктов. Кончался фураж. Конные разведчики кое-как достали для лошадей немного сена. Долин Сорин уныло смотрел на худеющих животных.
– Продовольствия осталось всего на два дня. Что будем делать? – спросил Коско комиссара.
– Во всяком случае, среди своих людей от голода не умрем, – улыбнулся Родин.
– Может, дать продразверстку населению?
– Нет, дорогой, здесь такой стиль работы не подойдет. Мы возьмем только добровольную помощь. Да и потом один хозяин может иметь хлеб, и даже лишний, а у другого и вовсе может не быть куска. Необходимо обратиться к населению. Будь спокоен, народ нас поддержит, – уверенно проговорил комиссар.