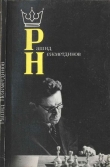Текст книги "О сколько нам открытий чудных.."
Автор книги: Соломон Воложин
Жанры:
Эссе, очерк, этюд, набросок
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
У Соколянского я прочел и ссылку на интерес украинца Илличевского к «Козаку», что хорошо для моего предположения, что подначки украинским любовным народным песням особенно хорошо чувствовались людьми, знакомыми с этими песнями.
В результате я доволен тем, что мне удалось осилить книгу Соколянского. Человек с более широкими интересами и знаниями, чем у меня, найдет в ней больше пищи для ума, чем это представил я, и им я ее рекомендую.
Литература
1. Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы… Одесса, 1999.
2. Соколянский М. Г. И несть ему числа. (Статьи о Пушкине). Одесса, 1999.
Написано в январе 2000 г.
Зачитано в феврале 2000 г.
Попробовать примирить с Пушкиным украинских националистов
Попытка 1‑я: понять значит простить
Зачем Пушкин в таком негативном свете выставил Мазепу в Полтаве? – Затем что в то время, в 1828 году, ему казалось, что он нашел причину поражений современных ему антифеодальных дворянских революций: в Португалии, в Испании, в Италии, в османской Молдавии и в России (декабризм). Революции эти были безнародные (дворяне, помня недавний разгул Великой Французской революции, боялись разбудить революционную стихию крестьянской и солдатской массы), и народ не поддержал выступления элиты. Та желала конституции и свободы; была мечта: элите – освободиться от монархического, крестьянам – от помещичьего самоуправства. Но, как оказалось, история не делается прекраснодушными мечтателями. Да они не так уж и прекраснодушны, если задуматься. Если докопаться до корня антифеодальных выступлений – они движимы, в конечном счете, эгоизмом. Красиво это называется свобода личности. Поэтически – свобода страстей: любви, ненависти… И эстетическим воплощением этого был тогда романтизм. И вот это все потерпело поражение. И Пушкин счел, что такова была воля Истории. И перешел к историзму. А ранний этап историзма, – как писал Лотман, опираясь на духовный опыт всей Европы, – неизбежно включал в себя примирение с действительностью, представление об исторической оправданности и неизбежности объективно сложившегося порядка.
И Пушкин поверил было, что новый российский царь, Николай I, это новый Петр I и что он продолжит реформы Петра и приблизит Россию к Европе, где много где уже были конституции и не было крепостничества. И Николай I, взойдя на трон, дал–таки повод думать о себе хорошо. Например, он учредил комитет, который должен был заняться вопросом о положении крестьян. И можно было поверить, что ведущая роль, какую Россия приобрела в Европе после победы над Наполеоном, из реакционной превратится во что–то приемлемое. И тогда вообще продолжилась бы традиция самого счастливого, как выразился Губер, столетия для России‑XVIII-го. Пушкин и был по его мнению последним и самым ярким выразителем той, счастливой России. И в этом свете и явилась миру поэма «Полтава», в которой Петр I выводился прославившим себя в веках именно потому, что целиком отдал себя Истории, а История улыбалась России.
И как враги Николая I были, получается, романтики – декабристы, частью повешенные, частью сосланные в Сибирь, так индивидуалистами (людьми, приверженными своим страстям) представились не только враги Петра I, Мазепа и его сторонники, но и охваченный ненавистью Кочубей и даже кроткий агнец Искра. И все они – с точки зрения, вынесенной в «Полтаве», через сто лет вперед – оказались в забвении. «И что ж осталось От сильных, гордых сих мужей, Столь полных волею страстей? Их поколенье миновалось – И с ним исчез кровавый след Усилий, бедствий и побед… Забыт Мазепа с давних пор… Но дочь преступница… преданья Об ней молчат».
Пушкин испытывал моральный дискомфорт оттого, что изменил свой идеал и как бы предал своих друзей декабристов. Он не мог обрушиваться на национально–освободительные (Испании против Франции, Италии против Австрии, Молдавии против Турции) и антифеодальные движения 20‑х годов, которым он сочувствовал, и горечь от поражения которых была еще свежа. А в Украине в XIX веке национально–освободительного движения против России не было. И всю мощь антиромантического пафоса он обрушил на Мазепу, сделав того абсолютным злодеем в романтическом духе.
А чтоб ему (в том числе и этот занос) простили он снабдил поэму примечаниями. И там есть одно, в котором говорится о том, что Мазепа был поэт, что одна его патриотическая дума «замечательна не только в историческом отношении».
Пушкин и перед декабристами своеобразно извинился, предпослав поэме посвящение, которое в книжной публикации не имело номеров страниц, какие были для остальной поэмы. Этого тогда не поняли. Только сейчас ясно, что посвящение обращено к Марии Волконской, уехавшей к мужу–декабристу в Сибирь. И мы не осуждаем Пушкина за то, что он отказался от романтизма и перешел к реализму.
Может, не осудим его и за то, что он применил своеобразный образ Мазепы в этой борьбе?
Попытка 2‑я: кто старое помянет…Попытка 3‑я: бойтесь данайцев, дары приносящих
Пушкин недолго пробыл в покорной, так сказать, фазе историзма. Он даже стал историком (в «Истории Пугачева»), чтобы историей управлять, а не только ей подчиняться. Если верить Марине Цветаевой, народ не сложил песен про Пугачева. Народ был прав: слишком мрачная это была фигура, как показало исследование Пушкина. И слишком неутешительные должны были бы получиться выводы, если б просто подчиниться открытию причин народного восстания, возглавленного Пугачевым. Причины эти были – непримиримые классовые интересы сословий дворян и крестьян (Пушкин, правда, термин «классовые» не применил, но суть–то узрел). А он бы хотел консенсуса в сословном обществе. И обольщаться, уж в который раз, тоже не хотел. Вот он в «Капитанской дочке» историю фантастической доброты и Пугачева, и Екатерины II к главному герою, Гриневу, и поручил изложить этому довольно недалекому человеку – Гриневу. Он «произнес» свою мечту о консенсусе, и в то же время его нельзя назвать утопистом.
Те, кто скажет, что Россия всегда опасна, особенно для соседей, потому хотя бы, что все еще слишком велика и потому что народ ее все еще привержен к глобальному самосознанию, те будут нынче не правы. Не правы потому, что нынче весь мир, включая и Россию, и Украину, стоит перед вызовом Истории в лице, так сказать, США подчиниться глобализации экономики. А за экономикой американизируются и народы Земли. Вот откуда теперь исходит угроза украинской самобытности, а не от России. И, может, стоит у Пушкина поучиться тому, как под конец жизни он бросил вызов Истории?
Написано в мае 2000 г.
Опубликовано 14 февраля 2001 г. в одесской газете «Правое дело»
О художественном смысле пушкинского «Демона»
…каждая мысль… страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью… а чем–то другим… для критики искусства нужны люди, которые… руководили бы читателей в том бесчисленном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства…
Л. Толстой
Вы знаете, что художественный смысл произведения я ищу между строк, отталкиваясь от его противоречивых элементов, то есть в соответствии с принципом художественности по Выготскому. Этот принцип мало кто применяет, и поэтому я заинтересовался, когда увидел у Лакшина нечто похожее в отношении пушкинского «Демона».
<<«Злобный гений», «тайный яд», «неистощимая клевета» – вот какие слова находит… Пушкин… Поэт будто останавливается на пороге нового сознания. Демон еще сохраняет могущественную власть над его душою, но злая природа этой силы уже осознана автором, и он готовится стряхнуть с себя его чары… И лучшее тому доказательство, что все это выговорилось в стихах, закреплено, отлито в слове, стало предметом созерцания со стороны и, значит, преодолено>> [3, 143].
А теперь подумаем: раз преодолено, то для автора демон – гений не злобный, тайные приемы того – не яд, неистощима – не клевета. Так?
Логически – да. А по сути – нет. Потому что Лакшин понимает «Демона» как отталкивание от предшествующего варианта:
Мое беспечное незнанье
Лукавый демон возмутил,
И он мое существованье
С своим навек соединил.
Я стал взирать его глазами,
Мне жизни дался бедный клад,
С его неясными словами
Моя душа звучала в лад.
Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным?
Чего, мечтатель молодой,
Ты в нем искал, к чему стремился,
Кого восторженной душой
Боготворить не устыдился?
И взор я бросил на людей,
Увидел их надменных, низких,
Жестоких ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких.
Пред боязливой их толпой,
Жестокой суетной, холодной,
Смешон глас правды благородной,
Напрасен опыт вековой.
Здесь мир отвергается, а демон полностью приемлется лирическим героем. И относительно этого «Демона» канонический вариант действительно является шагом от экстремизма. Но, зато, оказывается, что и противоречия никакого Лакшин в каноническом варианте не выявил: по Лакшину, хорош – юный идеализм, плох – демонизм. А мне лишь показалось, что критик выявил столкновение противоположного.
Однако, вдумавшись, я противоречие все же обнаружил. Оно состоит в прошедшем времени происходящего, с одной стороны, и в колоссальном накале эмоций, с другой. (Ведь если плохое – в прошлом, то можно бы сейчас и не волноваться. Да?)
Это прошедшее время не просто грамматическое. Речь идет о давних годах: «В те дни, когда мне были новы / Все впечатленья бытия». Речь идет о лицейском времени: «И взоры дев, и шум дубровы ” – это о Наташе Кочубей, о Кате Бакуниной, о царскосельском парке, где «ночью пенье соловья», если уж подходить биографически. «Когда возвышенные чувства, / Свобода, слава и любовь» – это об освободительной войне против Наполеона и о связанной со всенародным патриотическим подъемом в этой войне надежде на конституцию и освобождение крестьян от крепостничества, а также о гармонирующих с этими высокими переживаниями первых нешуточных любовях к упомянутым ровесницам и ровням по образованию и культуре (если опять – биографически). И тогда «вдохновенные искусства», что «Так сильно волновали кровь», – это первые продекабристские стихотворения, вроде «Воспоминаний в Царском Селе», «Лицинию», а не стихотворения предшествующего им периода, когда Пушкин, пробуя силы, – совсем, как оказалось, немалые, – иронизировал то над «легкой поэзией», то над «оссианизмом», то над сентименталистской – надо всем [1, 55].
Впрочем, биографический подход, как всегда, мелок. В первой части стихотворения просто мало глаголов, и я обратил повышенное внимание на ассоциации, заданные тональностью первых двух строк: «В те дни, когда мне были новы / Все впечатленья бытия». Биографический подход (несчастные любови и связанный с ними элегический период, а может, и творческий кризис, заявленный в тогдашних элегиях) не объяснит, что именно «Тогда какой–то злобный гений / Стал тайно навещать» лирического героя. Чувство повсеместного краха охватило Пушкина после второго продекабристского периода, с его знаковыми стихотворениями, такими, как «К Чаадаеву», «Вольность», из–за которой его сослали, когда ее стали применять в качестве агитки, казалось бы, друзья–вольнолюбцы. Страшный любовный удар, по Губеру, тогда же он получил от Натальи Кочубей, в которую в то время вторично и очень глубоко, но несчастливо, влюбился. Оклеветал товарищ (Толстой). Все обрушилось. Случился второй творческий кризис. Но и эти биографизмы, строго говоря, не проходят для иллюстрации строк «Демона». Не проходят потому, что в жизни Пушкина тогда удары на него посыпались извне, а «Демон» описывает внутреннюю драму: «Часы надежд и наслаждений / Тоской внезапной осеня, / Тогда какой–то злобный гений / Стал тайно навещать меня».
Оно конечно: при мировоззренческих ломках (раз наступают новые периоды творчества и раз даже случаются творческие спады) происходят внутренние драмы. Но уж больно ярко описаны в «Демоне» эти «дела давно минувших дней». Все–таки 7 лет прошло с тех пор, как «были новы все впечатленья бытия». И каких лет!
Однако представим, что мы не в курсе биографии поэта. Широкий читатель не обязан быть в курсе. И все же, думаю, и он заметит, как от строки к строке нарастает интенсивность переживаний якобы «в те дни», явно довольно удаленные от времени рассказа.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.
Широкий читатель, по–моему, должен заподозрить, что что–то катастрофическое произошло совсем недавно, раз лирический герой так подогрет.
Кто знаком с биографией Пушкина, понимает, что произошло с вольнолюбивым человеком, оказавшимся в Молдавии чуть не в центре резерва этеристской революции Ипсиланти, загубившего это восстание, на фоне, кстати, тогда же все возникавших и побеждаемых дворянских, но антифеодальных, революций, не поддержанных народами, в Португалии, Испании и Италии. Сведущие понимают, как себя чувствует импульсивный и чуткий прогрессивный человек в окружении заговорщиков против царя, когда тех вдруг сажают в тюрьму (В. Ф. Раевского), отдают под следствие (М. Ф. Орлова, который и до того – после женитьбы – <<заметно увял как заговорщик>> [3, 113]). А кто прочел книгу Краваль и впечатлился ею (насчет любви Пушкина в те годы к Анне Гирей, любви взаимной, очень глубокой и продолжительной), тот поймет, каково ему было, когда – тогда же – ее отдали замуж за нелюбимого и та пошла.
Нужен ли для таких, сведущих в пушкинской биографии, еще и общепризнанный прототип демона из пушкинского «Демона» – Александр Раевский? – Может, он даже и мешает. Мешает потому, что очень уж это был плохой человек. И всех тянет видеть отрицание его Пушкиным в «Демоне». А художественный смысл этого стихотворения нужно искать в катарсисе от противочувствий. И если одним из противочувствий является большого накала негативизм к демону, то в художественный смысл это переживание попасть не может.
Любому ясно, что повидавший жизнь человек, каким был Пушкин в 1823 году (когда он и создал «Демона»), обычно довольно скептически относится к своему молодому идеализму (о котором и говорится в стихотворении). И не проще ли не отрицание демона юнцом видеть в стихотворении (как об этом написано, если понимать текст «в лоб»), а некое утверждение критики человеком опытным? И не вернее ли будет не экстраполировать чувства того юнца на чувства лирического героя стихотворения, человека тертого? (Не экстраполировать на том основании, что уж больно горячо этот тертый говорит.) Не резоннее ли будет этот свежий накал чувств отнести к озарению, что тертый нашел, наконец, не подобную прежней реакцию крайнего разочарования, а отличную? И что–то теперь у демонического отрицания плодотворно приемлет.
Да. Приемлет что–то в Александре Раевском, останавливаясь, как тонко заметил Лакшин, а я уже цитировал, <<на пороге нового сознания>>. Лакшин сам стихийно влечется прочь от собственного заблуждения (о полном отрицании Пушкиным злого Александра Раевского), когда замечает, что пишет–то окончательный вариант «Демона» Пушкин в то же время и на тех же листах бумаги, что и первые две главы «Евгения Онегина» [3, 143]. А ведь пока Пушкин их писал, у него отношение к Онегину изменилось с сатирического, противопоставленного декабристскому идеалу [4, 400] как хорошему идеалу, на более взвешенное: Онегин <<вырос в серьезную фигуру, достойную встать рядом с автором>> [4, 408]. И ведь давно общепризнанно, что прототипом и Евгения первых глав романа, как и прототипом демона, является все тот же Александр Раевский.
Но у Лакшина замечаем некое мерцание приятия–неприятия демона-Онегина, иррадиирующее в неприятие автором демона из стихотворения «Демон»: <<Юноша–поэт [Ленский] предстает в романе в той фазе своей жизни, какая обрисована в первых строках «Демона»: «В те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия…» Его встреча с Онегиным – это встреча со своим Демоном…
В Онегине, как в трезвом и скептическом наблюдателе, сохраняющем при этом благородство покровительственного суда, есть то, что импонирует и автору и читателям: он становится наперсником поэта, терпеливо выслушивает «отрывки северных поэм», то есть Байрона, и не спешит произнести «охладительное слово».
Симпатии автора то склоняются к Ленскому, то остаются с Онегиным, но главное, пожалуй, что поэт отчетливо занимает какую–то более высокую точку зрения. По сути он поднимается над обоими героями, как над прожитыми фазисами своей жизни: романтическим восторгом молодости и холодным скептицизмом, нераздельным с именем Демона – Раевского>> [3,152–153].
Видите? В начале и в конце процитированного отрывка, – там, где Демон, – по Лакшину истаивает пушкинское приятие даже Онегина – Раевского. И дальше у Лакшина это пушкинское, мол, неприятие разрастается: <<Претензия на «демонизм» ведет к их [добра и зла] неразличению>>, и в пример Лакшин приводит <<все сюжетно–психологическое развитие романа, отношения Онегина с Татьяной [неспособность полюбить ее] и Ленским [насмеялся и убил его]>> [3, 154]. То есть – неприятие. Тогда как на самом деле в Онегине всегда есть барочного типа соединение несоединимого. Как и в демоне стихотворения «Демон».
Почему же сбивает сам себя Лакшин? – Из–за перекоса на биографизм, на прототип, на Александра Раевского, очень плохого человека. А еще – из–за невнимания к принципу противочувствий и катарсиса по Выготскому, который Лакшин не мог не знать. В применении к «Демону» этот принцип должен был бы подсказать Лакшину: если что отрицается в тексте («злобный гений», «яд», «клевета»), то в художественный смысл это отрицанием не входит; если что воспевается в тексте же («улыбка, чудный взгляд», внушающая сила: «речи вливали в душу», нешаблонность и смелость суждений), то, опять же, в художественный смысл воспеванием это тоже не входит.
Могу судить по себе. Уже зная Выготского и время от времени применяя его принцип противочувствий и катарсиса, я часто его и не применял тоже (потому что это очень трудно – применять, и сам не замечаешь, как про него забываешь и начинаешь понимать текст «в лоб»). И когда–то, приступив к пушкинскому «Демону» и столкнувшись в нем с противочувствием, заключающимся в воспевании красоты юношеского идеализма, с одной стороны, и в воспевании красоты прямо противоположного, я, – по–совковому опешив перед необычностью второго – воспевания демонизма, – забыл о красоте идеализма (тем более, что демонизм был в конце). И… решил, что наконец–то Пушкина хоть раз да занесло в экстремизм крайнего разочарования. И простил (извините за выражение) Пушкину только за то, что это редкое исключение.
Я был не прав относительно, как мне тогда казалось, пушкинского приятия демона главным образом из–за своей неосведомленности в биографии Пушкина. А теперь вижу, что и Лакшин не прав относительно, мол, пушкинского неприятия демона как зла и только – из–за биографического перекоса.
Лучше всех как бы возразил Лакшину насчет измельчения художественного смысла, если налегаешь на прототип, сам Пушкин в 1825 году: <<…Пушкин не хотел ли в своем демоне олицетворить сей дух отрицания или сомнения, и в сжатой картине начертал отличительные признаки и влияние оного на нравственность нашего века>>.
И чтоб это парировать Лакшин опустил начало пушкинского текста. Вот оно: <<Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения, иные даже указывают на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении>>. Зачем это Лакшину понадобилось? Чтоб сделать упор на прототип. И Лакшин позволил себе следующий домысел в духе дурного биографизма: <<…опровержение, скорее всего, понадобилось Пушкину потому, что зимой 1824/25 года ему было непереносимо думать, чтобы одно из любимейших его созданий соединяли с именем человека, столь чуждого теперь ему. Ему хотелось как бы смыть в памяти лицо своего демона, отнять у него ту поэтическую честь, которую сам он дал в общественном мнении Александру Раевскому. Да и неприятно ему было числиться под чьим–то влиянием, тем более такого человека>> [3, 175]. И цитирует слова Вяземского, оправдывающегося по поводу доноса, будто бы Пушкин о нем, Вяземском, сказал однажды: «вот приехал мой демон!»: <<по уму, если и мог бы он быть под чьим влиянием, то не хотел бы в том сознаться…>>. И Лакшин добавляет еще о расположении пушкинского опровержения прототипизации в черновиках «Евгения Онегина», что <<всего несколькими строками выше – обширное лирическое отступление о… друзьях и красавицах, в котором содержатся прямые отголоски недавних одесских впечатлений>>[3, 176] о соперничестве относительно жены Воронцова с Александром Раевским и доносе того о ее связи с поэтом самому Воронцову.
Я возражу Лакшину собственным домыслом. Пушкин чувствовал себя благодарным Александру Раевскому за то, что тот, такой дрянной, существовал в его жизни как раз тогда, когда поэт от краха революций на Западе смотрите, как занесся в своих политических идеалах:
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! – мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся…
Пушкину нужны были и изменницы, когда вышла замуж Анна Гирей, когда, «надежду потеряв, забыв измены сладость», он рвался к лихорадочным любовям: к Собаньской, Ризнич, Воронцовой – этим неверным женам и изменницам своим любовникам.
Ему нужны были демоны и демоницы, чтоб излечиться от рецидива тех дней, когда нам были новы все впечатленья бытия. Они нужны ему были и потому, что демонстрировали, в какую черноту он скатится от полного разочарования в тех днях.
Но… Об этом у меня есть отдельная специальная работа.
Под конец я хочу возвратиться к Выготскому. Этот гениальный ученый открыл психологический принцип художественности в 20‑х годах ХХ века, а творцы создавали художественные произведения тысячи лет до того. О чем это говорит? – О том, что художественность творится стихийно и частично неосознанно. Поэтому каждый настоящий художник недоосознает, что он сделал. Как это ни дико звучит, он недопонимает художественный смысл собственного создания.
Это можно увидеть и у Пушкина в отношении «Демона».
Каков, если одним словом, художественный смысл этого стихотворения? – Квазидемон. То есть то, что он, Пушкин, частично демонизм приемлет.
А назвал он стихотворение одним словом – демон. И это не вполне соответствует художественному смыслу.
То же – с проектом прозаического автокомментария. Лишь слово «сей» указывает, что он отстраненно относится к такой крайности, как дух отрицания и сомнения, что стихотворение и создано–то для преодоления этой крайности путем частичного приятия ее.
Однако неполное осознавание художественного смысла такого этапного произведения, как «Демон», не помешало Пушкину по–особому относиться к нему. <<«Не стыдно ли Кюхле, – писал он брату, – напечатать ошибочно моего «Демона»! моего «Демона»! после этого он и «Верую» напишет ошибочно»>> [3, 137].
Есть разница между переживаемым и осозаваемым. Переживаемое – шире. Может быть неосознаваемое, но переживаемое. Может быть недоосознаваемое и переживаемое. К последнему и относится особое отношение Пушкина к «Демону»: он нашел третий путь, когда третий раз его настигло – однотипное – крупное мировоззренческое разочарование. И в третий раз обошлось без творческого спада. Лакшин это отметил так: <<Пушкин переживал в ту зиму какой–то новый взлет молодых сил, запоем писал «Онегина», являлся в обществе, часто бывал в ударе, легко покорял сердца>> [3, 159]. И здесь не хочется вполне согласиться с Лакшиным. Шла ломка мировоззрения. Это не сладко. Но шла без кризиса. И это было сладко. И только это и проявлялось внешне.
Закончить я хочу согласием с одним едва уловимым нюансом у Лакшина, с которым (с согласием) Лакшин вряд ли бы согласился. Он в начале своей работы вспоминает: <<За несколько месяцев до смерти Пушкин писал в Крым Н. Б. Голицыну: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату: письмо ваше разбудило во мне множество воспоминаний разного рода. Там колыбель моего «Онегина»: и вы, конечно, узнали некоторых лиц»… Письмо Голицыну важно… тем, что прямо указывает на существование лиц, послуживших прообразами по крайней мере некоторых героев романа>> [3, 76, 77]. А вся работа Лакшина имеет подзаголовок «Александр Раевский в судьбе Пушкина и роман «Евгений Онегин»” и посвящена продвиганию хорошего протортипизма, так сказать. Так получается, что Пушкин, вспоминая благодатный Крым, по ассоциации вспоминает и Александра Раевского, благодатного, давшего ему, Пушкину, такую благодать, как прототип Онегина.
Что ж. С этим можно согласиться. Байронизм Пушкина, начавшийся с Крыма, никогда не был полноценным байронизмом [2, 72]. А можно говорить «демонизм» вместо «байронизма». Всегда байронизм–демонизм у Пушкина был лишь элементом. Благодаря байроновскому романтизму Пушкин переборол свой второй идейный и творческий кризис, но русским Байроном не стал. И именно это было благодатью: соединение несоединимого.
Да, оно хорошо развернулось в нем в Крыму в 20‑м, еще полнее (после нового залета в декабризм) в 23‑м, в Одессе. И повлияло на всю русскую литературу. Было чем хорошим помянуть юг.
Литература
1. Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы… Одесса, 1999.
2. Дьяконов И. М. Об истории замысла «Евгения Онегина». В кн. Пушкин. Исследования и материалы, т. Х, Л., 1982.
3. Лакшин В. Я. Биография книги: Статьи, исследования, эссе. М., 1979.
4. Лотман Ю. М. Пушкин. С. – Пб., 1995.
Написано весной 2000 г.
Зачитано в мае 2001 г.






![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)