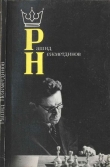Текст книги "О сколько нам открытий чудных.."
Автор книги: Соломон Воложин
Жанры:
Эссе, очерк, этюд, набросок
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Бес арабский
Мы знаем Байрона… Врете, подлецы: он мал и мерзок – не так, как вы – иначе.
А. С. Пушкин
А как – иначе? – Как демонист. До демонизма «подлецы» не дотягивают.
Я уже неоднократно заявлял (иногда и со ссылками на других авторов), что в эволюциях своих идеалов, выражавшихся в художественных произведениях, Пушкин никогда не впадал в демонизм и сатанизм. Не раз я напирал и на утверждение Натева о том, что искусство – не жизнь, а непосредственное и непринужденное испытание сокровенного мироотношения человека в целях совершенствования человечества. Это приводит меня к некоторому согласию с концепцией Вересаева [1, 7] о двух планах проявлений Пушкина: жизненном и творческом. То есть в жизненно–бытовом плане Пушкин постоянно мог быть преимущественно демонистом, а в творческом – никогда. И это не лицемерие. Ибо <<ни в чем писатель не выявляет так глубоко… свое мировоззрение, как в своих произведениях>> [2, 58]. То есть жизнь художника – это поверхность, его произведения – глубина, а их художественный смысл – сокрытое дно. Истина на дне.
Если так подойти, станет ясна причина, по которой Пушкина глубоко впечатлил стихотворный ответ митрополита Московского, Филарета, на собственные его стихи к своему дню рождения – «Дар напрасный, дар случайный…» Филарет, вопреки устоявшейся христианской традиции о подвластности всего Господу, – почти в духе иранской религии, маздеизму (с его дуализмом, равноправием в мире – добра, Ормузда, и зла, Аримана [3, 340]), а лучше, в духе более поздних ипостасей дуализма: гностицизма [3, 493], манихейства [3, 495] и тому подобных ересей, возрождавшихся под разными названиями и в средневековье, и позже, в дуалистических философских системах, – Филарет едва ли не приравнивает Пушкина к демону, не меньше.
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Господа дана,
Не без цели Его тайной
На тоску осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из бездн земных воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забытый мною, —
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждится с Тобою
Сердце чисто, светлый ум!..
Вы видите! – «Сам» творил зло, не по наущению дьявола, не при попустительстве Господа, – пусть продуманном и неисповедимом, – а «сам».
И Филарета нельзя обвинить в дуалистической ереси. Он же якобы от имени Пушкина написал. Это Пушкин, по Филарету, дуалистический еретик. Заколебавшийся, правда, но еретик.
И Пушкин, во внелитературной жизни – до тех пор, во всяком случае – действительно бывший словно демон, почувствовал себя как жук, приколотый булавкой.
Действительно, смотрите.
Внешне «Дар напрасный…» походит на <<прямую параллель сетованиям многострадального Иова>> [1, 170], – как замечает Благой.
Чтоб в этом убедиться напомним историю Иова. (А надо сказать, что она, как и все книги Ветхого Завета, была [3, 352] отредактирована после того, как евреи попали под власть Персии и переняли у маздеизма идею духа зла. И сатана в Книге Иова есть одно из доказательств этой переимчивости [3, 370].)
Итак, история Иова.
Он был до чрезвычайности праведный. Тем не менее Бог позволил себе пойти на поводу у сатаны и проверить праведность Иова чрезвычайными же несчастьями: лишением всего имущества, умерщвлением семьи, проказой. Иов отнесся к Богу адекватно – как к самому сатане, равному по силе Богу. Друзья уговаривали Иова, чтоб он смирился. Тот отказался. И даже больше – припомнил Богу вообще всю несправедливость, царящую на земле. И Бог оценил неправоту друзей и правоту Иова, вернул ему здоровье, семью, а имущество удвоил.
Так был момент, когда Иов еще не доходил до мятежной крайности и просто проклинал миг своего рождения и зачатия. Вот ему и подобно стихотворение «Дар напрасный…».
Только, в отличие от Иова, Пушкин страдал не от материальных, так сказать, воздействий сатаны, а от насланного кем–то – изобрету такое слово – безыдеалья.
Филарет же проигнорировал и это отличие, и недотягивание пушкинских стихов – в их подобии проклятиям Иова – до мятежа. Филарет в своих стихах довел мятеж Пушкина дальше, чем сам мятеж Иова: Пушкин, мол, сам сатана, сам творец зла.
В личной жизни поэта так оно и было. И Пушкина поразило, что Филарет его увидел как бы насквозь. Пушкин как бы на миг забыл, что на самом деле «Дар…» был страстным порывом к чему–то, подобному граждански–романтической вере роли великой личности в истории.
Непонимание Филаретом «Дара…» касалось искусства. Зато Филарет коснулся, повторяю, жизни, личной жизни Пушкина. И попал в точку. Пушкин был <<задран стихами его преосвященства>> по свидетельству Вяземского [1, 682]. Благой прав: <<слово Вяземского «задран» совсем не свидетельствует о возмущении Пушкина стихами Филарета>> [1, 682].
Поэтому совершенно закономерен тон искренности ответного послания Филарету:
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
Это уже 1830‑й год, 19 января. Это через полтора года после стихотворения «Дар напрасный…». Это где–то то ли перед (но предчувствуемым), то ли сразу после ужаса жизненного падения его с графиней Фикельмон и накануне его бегства из Петербурга, подальше от этой демоницы Фикельмон, поближе к недосягаемому ангелу, Наталье Гончаровой. И это – мгновенный ответ на только что ставший ему известным пронзительный ответ Филарета. И, да простят меня пушкноведы (и да возрадуются наивные биографисты), слова: «душа… Отвергла мрак земных сует» – я предлагаю считать биографическими и касающимися женщин и карт. А также – вообще низкого:
Мой идеал теперь – хозяйка,
Мои желания – покой,
Да щей горшок, да сам большой.
У Пушкина тогда, в первой половине 1830 года, уже брезжил (о чем я докладывал, говоря о «Тазите») новый идеал, идеал консенсуса в сословном обществе, идеал, в чем–то подобный православному царству Божьему, только восторжествующему на земле, а не на небе. И тем естественней было Пушкину ответить именно Филарету, представлявшему собой <<в ту пору фигуру довольно своеобразную, – по словам Герцена, «какого–то оппозиционного иерарха»>> [1, 683].
Ну и, конечно, этот новый в 1830 году идеал нельзя впрямую вычитать в ответе Филарету, нельзя процитировать. А можно – только отчаяние от своей прошлой личной жизни.
Действительно, относятся ли слова: «В часы забав иль праздной скуки» – к его продекабристским переживаниям? Относятся ли «изнеженные звуки» к таким, например, стихам: «Тираны мира! Трепещите!» Или к таким: «Но нет! – мы счастьем насладимся, / Кровавой чашей причастимся…» Или к таким: «Где ты, гроза – символ свободы?». Или к таким: «Он весь, как Божия гроза…»
Вересаев <<истолковывает [описываемое] стихотворение… как плод чистого «воображения», не имеющий никакого отношения к реальному, биографическому факту>> [1, 682], – пишет Благой и совершенно верно возражает на такое объяснение Вересаевым искренности Пушкина.
Но нельзя согласиться и с Благим. Он пишет в том духе, что Пушкин понял Филарета широко: <<Поэту, который в эти годы ощущал себя все более внутренне одиноким, все менее понимаемым окружающими, почуялось в них [в стихах Филарета] подлинное сочувствие… и послужило толчком к написанию им ответных «Стансов»…>> [1, 177].
В чем–то правы и в чем–то неправы одновременно и Благой и Вересаев. Вересаев прав, что вообще–то нельзя стихи Пушкина понимать биографически. А не прав, что не видит биографического в ответе Филарету. Благой прав, что ответ Филарету и биографичен и искренен. А не прав, что биографичность тут – широко понимаемая (а не лично–житейски–бытовая) и что вообще лично–житейски–бытовое Пушкина не показывает его плохо.
Литература
1. Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина. (1826–1830) М., 1967.
2. Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе. М. – Л., 1966.
3. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1986.
Написано в мае 2002 г.
Не зачитано
В порядке предварения
Среди разных непониманий людьми моей Синусоиды идеалов, – а ее я обычно представляю развертывающейся горизонтально, – одно таково. Будто бы я утверждаю, что лишь на вершинах Синусоиды случаются вершинные явления искусства.
Я злюсь на такой домысел. И понятно почему. Идеал, каков бы он ни был, это ж – субъективно – святое. Сама плавность изменений идеалов означает, что этих святых бесконечное множество. Как можно было настолько неверно меня понять!?
Видно, очень уж въелось в сознание людей отношение к верхнему как к ценностно высшему.
И вот я наткнулся на воплощенное возражение моей догме, что новый идеал субъективно так же упоителен, как и идеал оставленный.
Телега жизни
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел! ….
Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!
Катит попрежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней,
И дремля едем до ночлега —
А время гонит лошадей.
1823 год.
Год перехода от гражданского романтизма к реализму. Год отказа от продекабристских залетов, отказа от сатирического уклона, – против легкомысленной молодежи, равнодушной к прогрессивным идеалам, – год перехода ко взвешенности в подходе к людям в начатом «Евгении Онегине». Год, когда несмотря на ломку старых идеалов творческого кризиса не произошло – благодаря органически выросшему новому идеалу, идеалу смирения перед историей и ее законами, повергающими ниц любые прекраснодушные мечты прекраснодушных личностей, этих слишком мелких величин, чтоб история с ними считалась. Год прихода к благоговению перед историей, перед временем.
И не должно, казалось бы, оставаться грусти при наличии нового очарования, очарования действительностью, реализмом. Ан нет. Ноет сердце потихоньку: ну, опять я сменил приоритеты; уж не в первый раз; и еще их сменю, безусловно. Все оказывается и оказывается относительным. Нет абсолютного. И как же «меня» угораздило (в первом четверостишии) радоваться как абсолюту – безразличности, мол, времени к человеку?!.
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.
Когда при ближайшем рассмотрении гармония с безразличностью оказывается просто наработанной «мною» привычкой (последнее четверостишие).
Вот мне и упоение новым – сегодня – идеалом!
Я б не занялся этим стихотворением Пушкина, если б не уловил отличие своего впечатления от попавшейся мне на глаза интерпретации Донской:
<<Это русский человек, современник автора, представитель его же поколения, принадлежащий той же среде, и это его национальная социальная и историческая определенность, а следовательно, и реальность создается прежде всего благодаря языку стихотворения. У Флориана [автора прототипа «Телеге жизни»] его вневременному, абстрактному герою соответствовал такой же условно–литературный, ничем не окрашенный язык стихотворения. Язык лирического героя Пушкина – это живой язык его современника со всеми приметами бытовой разговорной речи: тут и грубоватое слово «дуралей», и просторечная идиома «голову сломать», и лихое русское «пошел!», и даже брань.
Этой исторической конкретностью всех образов стихотворения определяется и его, так сказать, драматический конфликт, который возникает здесь как результат действительности и теснейшим образом с ней связан. Во флориановском стихотворении, собственно, никакого конфликта нет. В нем содержится лишь констатация всеобщего, объективно действующего закона человеческого существования. Для автора – это некий высший закон, проявление божественной воли, что подчеркивается последней строкой стихотворения, формулирующей философский итог его размышлений: «Да будет над нами воля Божья!»
В отличие от флориановского пассивного путника, который целиком подчинен действию этих неумолимых законов, у Пушкина – и именно на этом весь философский акцент стихотворения – показано субъективное отношение его седока к бегу времени, к объективно действующим законам его движения. В пушкинском стихотворении на первом плане – отношение седока к ямщику, полемика человека и времени, т. е. в конечном счете – человека и истории. И хотя ямщик–время гонит лошадей так, как ему положено по его законам, человек активно, по–разному в разные периоды своего краткого пути относится к бегу телеги жизни… В юности он нетерпелив и неосмотрителен; ни о чем глубоко не задумывается, он гонит время, он торопит общественные перемены, рискуя «голову сломать». С годами приходит благоразумие, трезвая оценка жизни, истории. И, наконец, – смирение, усталость, покорность неумолимым законам, жажда покоя.
В этом пессимистическом взгляде на взаимоотношения человека и истории, в той горечи, которой подернуто все стихотворение, несомненно отразились настроения, владевшие Пушкиным и всеми русскими передовыми людьми в эти годы, когда по–новому приходилось оценивать возможности исторических перемен. Горькие раздумья о человеке, его отношении к жизни, мысли о необходимости переоценки мира, ноты усталости и равнодушия к жизни настойчиво звучат не только в «Телеге жизни», но и в ряде других его стихотворений и черновых набросков 1822–1823 гг.>> [1, 219].
У Донской Пушкин по стилю уже реалист, а по пафосу – еще романтик, досадующий на крах дворянских революций по всей Европе. Представитель гражданского романтизма по духу. Потому что грустит из–за того, что <<по–новому приходилось оценивать возможности исторических перемен>>. Раз грустит, что <<по–новому>>, значит, идеал остался старым.
А я говорю, что грустит из–за <<мысли о необходимости переоценки мира>> в принципе, вневременно, абстрактно, как у Флориана.
Донская акцентирует отличие Пушкина от Флориана, я – сходство.
Ведь смотрите, если б только из–за сомнения в продекабризме была грусть, речь бы шла о времени не дальше полдня.
Можно, правда, возразить мне, что речь, чтоб быть минорной, с необходимостью должна коснуться и вечера.
Но я не соглашусь. Такой необходимости нет, если речь, по Донской, идет о переходе к историзму. Чего абсолютизировать? Тут же не романтик Жуковский, певец вечеров, для которого весь объективный мир утратил ценность из–за краха, происшедшего с ним лично, в объективном мире.
И я похожий пафос вневременной печали (но происшедший не от личного – как у Жуковского – краха, а от общественного) заявляю вопреки явной враждебности, с какой примут мое сближение Пушкина с классицистом Флорианом.
Более того, я усматриваю некий пессимизм и у Флориана: <<Пуститься в путь, на ранней заре, ощупью, ни зги не видя, не позаботясь даже о том, чтобы спросить дорогу, идти, спотыкаться и так, то и дело падая и вставая, к полудню проделать треть своего пути; и тут, увидев собирающиеся над головой твоей тучи, ускорить шаг, бежать, увязая в зыбучем песке, претерпевая грозу за грозою, вперед, к неясной цели, к которой никогда не дойти; поближе к вечеру угомониться, искать себе пристанища, задыхаясь добраться до него, лечь и заснуть. Все это называется – родиться, жить и умереть. Да будет над нами воля Божья!>> [1, 217]
А воля Божья, по Откровению Иоанна, это воскресение всех умерших и дальнейшая жизнь праведно проживших уже без смерти. Пессимизм верующего есть сверхисторический оптимизм.
И то же видится и в символическом, скажем так, реализме пушкинской «Телеги жизни».
Это Пушкин в 1823 году на миг залетел в свое будущее, которое он так же – и символически, и реалистически – осуществит в самом конце жизни.
Противоречит это плавному движению вдоль Синусоиды идеалов? – Противоречит. А в чем–то – и нет: что бы ни происходило – все происходит на типологическом витке Синусоиды с вылетами с нее вверх и вниз. Здесь, в «Телеге жизни», – на вылете вверх. В порядке предварения.
Случилось ли и тут столкновение противочувствий и катарсис по Выготскому? – Случилось.
Вопреки Донской, видящей только столкновение личности со временем, я еще вижу и столкновение позитивного отношения к личностному безразличию времени (в первом четверостишии) с негативным отношением к этому личностному безразличию времени во всех остальных четверостишиях. Да, во всех остальных. И в последнем четверостишии тоже негативизм к личностному безразличию времени, хоть, казалось бы, там гармония между субъективным «привыкли» и объективным «катит попрежнему». Это не внутренняя гармония, а внешнее временное же совпадение. И Пушкин с грустью относится к этой временности.
И от столкновения всех личностных временностей, относительностей в общении со временем, с историей (с ямщиком) – с абсолютной личностной безотносительностью времени, истории (ямщика) – возникает грустный катарсис мечты об абсолюте гармонии личности и истории, то есть о сверхистории. К чему он вернулся в своем «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Литература
1. Донская С. Л. К истории стихотворения Пушкина «Телега жизни». В кн. Пушкин. Исследования и материалы, т. VII. Л., 1974.
Написано в мае – июне 2002 г.
Не зачитано.
К пушкиниане 2002
Издание в 2002 году материалов научной конференции, посвященной памяти Слюсаря, дает возможность остро критически подойти к некоторым из них, на первый взгляд острой критики не требующих.
Я прочту – со своими комментариями – цитату о так называемой философии сердца из доклада Матковской «Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и социально–утопическое сознание 20–30‑х гг. ХХ в.»
Вот эта цитата:
<<…творческое осмысление Пушкиным духовного опыта развития утопического сознания 20–30‑х годов XIX века пролагало пути утверждению в отечественной культуре нового варианта философского понимания человека и истории – «философии сердца».
…парадоксальность нового типа философствования заключалась в том, что «философия сердца» предлагает и помогает человеку обрести силу именно на основе своей слабости.
… Маша Миронова, не побоявшаяся одна
[Оспариваю: «с верной Палашей и с верным Савельичем», а не одна; ну разве в том смысле одна, что без вооруженной охраны поехала в то время, когда (из пушкинской «Истории Пугачева») <<совершенное спокойствие долго еще не водворялось>> после казни Пугачева, на которой присутствовал прощенный Петр Гринев; я возражаю здесь Матковской не по поводу духа, а по поводу буквы: Маша – буквально – поехала не одна, хотя Матковская и имела право намекать, – пусть подсознательно, – что само наличие слуг могло демаскировать Машу перед встреченными остатками мятежников и, следовательно, Маша могла рассчитывать на их снисхождение к ней, слабой, что уже есть сила по философии сердца; но дело в том, что отступление здесь от пушкинского текста у Матковской, как увидим далее, это начало целого ряда подтасовок ради выведения упомянутой философии сердца.]
… Маша Миронова, не побоявшаяся одна пуститься в опасное
[Опасное из текста собственно романа и настроения его героев не следует, а нужно Матковской для выведения силы из слабости.]
… Маша Миронова, не побоявшаяся одна пуститься в опасное путешествие в далекую северную столицу с намерением – ни больше ни меньше! – встретиться с самой царицей
[Ложь; цитирую: «она едет искать покровительства и помощи у сильных людей», а встреча с царицей произошла непреднамеренно и случайно.]
и просить ее о помиловании своего опального жениха, вдруг пугается – до непроизвольного вскрика
[Не было вскрика, а лишь остановка в прогулке.]
вдруг пугается – до непроизвольного вскрика – «маленькой белой собачки английской породы»,
[Испуг от внезапного лая среди благостной утренней тишины – естественен – вне зависимости от величины собаки, но естественность мешает выведению силы из слабости и поэтому акцентируется испуг, как признак слабости.]
внезапно на нее кинувшейся…
[«Побежала ей навстречу», а не кинулась; все не так драматично, как надо Матковской.]
И поскольку «дама в утреннем саду» «спасла»
[Якобы цитируется, кавычки стоят; но нет этих слов в романе.]
«спасла» ее от этой собачки, то Маша обезоруживающе простодушно обращается
[Не обращается, а садится на ту же скамейку, где сидит дама. «Дама первая прервала молчание».]
простодушно обращается к этой даме с рассказом о своем невероятно смелом намерении просить саму императрицу
[Ой ли! Намерение – цитирую: «подать просьбу государыне», что мыслилось сделать и не самой, а через «сильных людей».]
проявить милосердие к государственному преступнику Гриневу… Именно пленительным простодушием Маши
[Нет: совершенной убедительностью рассказа Маши, из которого следовало, что Гринев не «безнравственный и вредный негодяй», а совсем наоборот.]
и ее непоколебимой верой в добро
[А на самом деле в обоих женщинах действовала элементарная справедливость.]
мотивировано внимание «дамы в утреннем саду» к дерзкой
[Ни герои (кроме дезинфомированной императрицы), ни читатели обращение дворянки к царице – за милостью к невиновному – дерзостью не считают.]
мотивировано внимание «дамы в утреннем саду» к дерзкой просьбе «капитанской дочки». Вспомним, как дама, вспыхнув поначалу от этой дерзости,
[Ложь; на самом деле императрица вспыхнула от непривычки, чтоб на ее обвинения кричали: «Ах, неправда!»]
Вспомним, как дама, вспыхнув поначалу от этой дерзости, довольно резко спрашивает свою собеседницу – понимает ли она, о чем просит?
[Строго говоря, и этого нет в тексте.]
И лишь непосредственно убедившись в обезоруживающей наивности
[Ложь; в убедительности Маши убедилась царица.]
в обезоруживающей наивности Маши – этой силе слабых, – и даже отчасти поддавшись обаянию такой безграничной наивности и горячей убежденности ее в силе милосердия,
[Ложь; веру в силу «правосудия», продемонстрировала Маша, поначалу хитро, а совсем не наивно отводя «правосудие» ради «милости». И вот дама]
продолжает разговор и даже обещает помочь.
[Ну все повывернуто. Дама продолжает разговор и обещает помочь из сострадания к дочери казненного пугачевцами отца Маши, которого она аж знает по фамилии, а не из–за обаяния веры своей подданной в ее, императрицы, милосердие по поводу чего–то, еще неназванного ей в ту минуту.]
Подчеркнем, что именно в ходе этого продолженного диалога дама узнает, что ее собеседница – дочь известного капитана Миронова, казненного пугачевцами…
[По Пушкину – наоборот, как я уже заметил:
– Капитана Миронова! того самого, что был комендантом одной из оренбургских крепостей?
– Точно так-с.
Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, – сказала она голосом еще более ласковым, – если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».]
Иными словами, реальная мотивация появляется уже после того, как «дама в утреннем саду», безотчетно поддавшись порыву сочувствия, разрешает Маше продолжать свой рассказ о действительной сути событий…>> [1, 106–107]
А на самом деле не после порыва сочувствия разрешает продолжать, а после порыва возмущения:
«– Как неправда! – возразила дама, вся вспыхнув.
– Неправда, ей-Богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу».
Маша взяла даму нахрапом, а не слабостью и наивностью.
У Пушкина в тот период настало сомнение относительно возможности консенсуса в сословном обществе, вот он и учинил случай, именно случай, доступности царицы самой низовой дворянке, а Матковская путем препарирования пушкинского текста выводит, в частности, у него тогдашнего, мол, философию сердца, которая <<предлагает и помогает человеку обрести силу именно на основе своей слабости>> [1, 106]. Если бы текст не искажался, философию сердца вывести бы Матковской не удалось.
Я тоже художественный смысл вывожу не из текста, а (по Выготскому) из противоречий текста. И это не приемлется никем хотя бы за то, что вообще сделана попытка художественный смысл обозначить словами. Так мне радоваться бы, что и Матковская взялась за <<освоение идейного содержания>> [1, 109] и выдала конкретный, словесно выраженный его фрагмент – философию сердца. Но именно потому, что она столь святое, никем не предпринимаемое деяние позволила себе сопрячь с прямым искажением интерпретируемого текста, – именно потому я не смог пройти мимо этого искажения молча.
Литература
1. Матковская И. Я. Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и социально–утопическое сознание 20–30‑х гг. ХХ в. В кн. А. С. Пушкин и мировой литературный процесс. Одесса, 2002.
Написано в октябре 2002 г.
Не зачитано






![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)