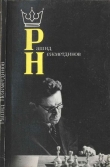Текст книги "О сколько нам открытий чудных.."
Автор книги: Соломон Воложин
Жанры:
Эссе, очерк, этюд, набросок
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Попытка открыть художественный смысл«(Из Пиндемонти)» Пушкина
Два скрытых возражения, получил Марк Соколянский в хвалебном по общему тону обсуждении его доклада о пушкинском «(Из Пиндемонти)». Одно – от Островской: «Как жаль, что на слух недостаточно воспринимается такой содержательный доклад!» Другое – Александрова: “ Есть, есть русские ноты в этом стихотворении: не гнуть шеи, царям».
Чем скрыто недовольна Островская? – Традицией, – как выразился Гачев, – упаковывать каждое свое суждение в ватную обертку осторожных оговорок, снимающих напряжение ищущей мысли. А грубее – она подсознательно недовольна мутью, а может, и просто отсутствием той, главной и новой, мысли, ради которой и полагается делать доклады.
Что не принял Александров? – Всемирной отзывчивости Пушкина в этом стихотворении на, мол, общечеловеческие ценности, о чем сказал было, но без настойчивости, Соколянский, – сказал настолько осторожно, что несколько выступивших хвалили его за еще одно выявление чуткости Пушкина к… инонациональному – западному.
На мою просьбу коснуться в своем, – видимо, глобалиста, – ответном слове, коснуться возможности какого–то проявления евразийской идеи у Пушкина в этом стихотворении, раз там есть прямое указание на «иные», не западные ценности, Соколянский ответил приблизительно так: «Я мог бы, но не хочу, говорить о том, почему и зачем Пушкин написал это стихотворение». – Старая традиция уходить от рассмотрения того главного, ради чего поэты сочиняют, живописцы пишут, скульпторы ваяют, и что призваны помочь людям допостичь искусство– и литературоведы.
И я почувствовал некий вызов. Кто, как не я, попробует открыть художественный смысл этого стихотворения!
Перечитал его.
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова,
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль,слова, слова, слова 1 —
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
– Вот счастье! вот права…
И пушкинская сноска: 1 Hamlet (Гамлет).
Если стихотворение понимать «в лоб» – мы имеем декларацию бегства от действительности. Если расположить эту декларацию на моей Синусоиде идеалов – она окажется – по максимуму – на нижнем вылете с Синусоиды вниз. В супериндивидуализм. В созерцательное ницшеанство: «по прихоти своей», «Никому отчета не давать», «себе лишь самому служить и угождать».
Это прямо противоположно сделанному мною размещению «Гамлета» на верхнем вылете с Синусоиды идеалов [1, 63].
Александров в своем выступлении высказал мысль, что настолько нарочито выпятил Пушкин гамлетовские слова: и курсивом, и самим фактом сноски, и переводом имени Гамлет, – что чувствуется дистанцирование Пушкина от Гамлета.
Я не соглашусь. Дистанцирование – да. Но не Пушкина от Гамлета, а Пиндемонте. Это ведь от имени того – все слова произведения, кроме сноски.
А если сноска и демонстрирует дистанцирование самого Пушкина, то не от Гамлета, а от Пиндемонте.
Ни Гамлет – у Шекспира, ни Пушкин – во всем своем творчестве никогда не исповедовали идеал супериндивидуализма. А Пиндемонте, – один из первых разочаровавшихся в идеалах Просвещения, заколебавшийся было в Великую французскую революцию, но быстро разочаровавшийся и в ней, – Пиндемонте как раз мог быть тем, от кого Пушкину дистанцироваться. Да и Альфред Мюссе, этот разочаровавшийся в революции романтик (а романтизм, если одним словом и – этически, – это эгоизм [2, 19]), и Альфред Мюссе, чьим именем первоначально было названо Пушкиным это стихотворение, и Альфред Мюссе как и Пиндемонте, требовал от Пушкина дистанцрования. И, наоборот: если Шекспир своим «Гамлетом» выступал против самой истории с ее побеждающим феодализм капитализмом, то от Шекспира можно скорее ждать симпатии к аристократам с их честью и верностью сюзерену. А от Пушкина – чего–то такого же: <<С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом… большинство, нагло притесняющее общество… богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой, – такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами>>[4, 798]. Все это вполне тянет на недистанцирование Пушкина от Гамлета.
И все–таки я рад, что вопрос дистанцирования Александровым был затонут. От него недалеко до признания того, что «в лоб» произведения искусства понимать нельзя.
Однако дал ли Пушкин – и в самом тексте произведения – более ясные ориентиры, как же понимать эту его вещь?
Я думаю – дал. Выделенностью шрифтом слов Гамлета. Идеал – в том, чтоб слова превратились в дела, причем достойные.
Я как–то уже замечал – в докладе о Пришвине – о позднем Пушкине: <<Художественный смысл тут в исканиях сейчас того недостижимого, что будет на этом, а не том свете. Нисколько не обнаружило себя автору то сверхбудущее. Пока непостижимо, а не только недостижимо>>.
Так почти то же можно сказать и об обсуждаемом стихотворении. Совершенно не объявлено, в чем должна состоять нефальшивость прав и свобод, совершенно отсутствующих в России и совершенно фальшивых на Западе. И уж конечно она не в а ля Восток бегстве от действительности, хоть та и заявлена (от имени Пиндемонте).
Но если катарсис, возникающий при аннигиляции впечатления от написанных элементов, – условно говоря, прозападных и провосточных, – правомерно все–таки назвать, то это будет что–то пророссийское, мессианское проросийское.
Насчет «мешать царям друг с другом воевать», – не в том смысле, как, например, Конгресс США дает или не дает право (т. е. мешает) президенту объявлять войну, – высказался недавно очень определенно наш земляк Василий Попков. Славяне, мол, народ военный, но не воинственный. В Печерской Лавре не зря, мол, лежат мощи Ильи Муромца, а потому, что он считал войну горем и после ее окончания бесконечно замаливал свои грехи, грехи уничтожения им множества людей, мало, что врагов – людей. Это вам, мол, не Запад, где война была спортом королей и религией не осуждалась. И православие в этом смысле дает, мол, ориентир человечеству, заблудившемуся в противоречиях.
Можно в том же духе посметь заикнуться даже насчет «сладкой участи оспоривать налоги». По Нерсесянцу Россия не утратила мессианской роли в мире. К будущему человечества – цивилизму (с его наделением равной долей бывшей – и еще не приватизированной – социалистической собственности каждого гражданина России и с амнистированием собственности прихватизированной [3, 55]), к этому цивилизму Россия – со своей вечной тягой к справедливости – приспособлена больше всех. И кому как не ей опять стать маяком человечества. И почему б не предчувствовать это, – если мыслимо предчувствие, – задолго до.
Вот вам и приоритет цивилизационных ценностей перед общечеловеческими, которых пока нет, в сущности. Вот вам и ценность российской (евразийской) цивилизации.
Не ею ли вдохновился Пушкин в стихотворении «(Из Пиндемонти)»?
Но он был очень битым человеком, Пушкин в 1836 году, чтоб посметь определеннее выразить свой идеал, теперь – идеал соборного сверхбудущего, чтоб его яснее обнаружить. Да, впрочем, и нечего ждать от художника публицистической внятности им произносимого в художественном творении.
Литература
1. Воложин С. И. Сопряжения. Одесса. 2001.
2. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
3. Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно–историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. М., 2001.
4. Пушкин А. С. Сочинения. М., 1949.
Написано в ноябре – декабре 2002 г.
Не зачитано
Перечитывая «Смутную улыбку» Франсуазы Саган и кое–что из Пушкина
Странное чувство
Странное чувство испытал я (в 2002 году), первый раз начав читать «Смутную улыбку» Франсуазы Саган, написанную в 1956 году (до этого я Франсуазу Саган не читал). Сперва я подумал, не потому ли меня что–то смущает, что это произведение женщины? Очень уж мелочные переживания описываются.
Девятая страница:
«Франсуаза [персонаж] с самого начала отнеслась ко мне очень мило. Показала квартиру – отлично обставленную, наполнила мне рюмку, усадила в кресло, заботливо и непринужденно. Неловкость, которую я чувствовала из–за своей немного поношенной юбки и обвисшего свитера, почти прошла».
Четвертая страница:
«Бертран был моим первым любовником. Это благодаря ему я узнала, как пахнет мое собственное тело. Так всегда, благодаря телу другого мы узнаем собственное, его длину, запах, сначала с недоверием, потом с признательностью».
Что за «длину» узнала Доминика «благодаря телу другого»? – Определенной части своего полового органа? – Что за «запах»? – Его же?
Гм.
Я подумал: Саган пишет для женщин, и мое дело просто проскочить поскорее мелочные и стыдные места, и все. Хотя… Мало вероятно, чтоб столь знаменитая писательница начинала когда–то свое творчество (а это был – я потом узнал – ее второй выход в свет) с – по большому счету – несообразности некой.
Я часто пробую понимать писателей через Пушкина. У него есть такой эпизод в «Путешествии в Арзрум»:
«При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату, и что же я увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем, – сказал мне хозяин, – сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». – «Конечно, не беда, – отвечал я ему, – напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрою; ни одна не перестала раздеваться».
Так «Путешествие в Арзрум» это экзотически–сатирическое произведение. Неожиданное поведение женщин в тифлисской бане – один из многочисленных экзотических эпизодов. А Саган вовсе не экзотику избрала для описания, а обыденную французскую распущенность. Студентка Доминика, главная героиня, поняла, что не любила своего первого любовника, соученика Бертрана; ей понравился его дядя, Люк; тот женат и предлагает Доминике сойтись с ним без взаимной любви; Доминика соглашается, и ее охватывает сильное чувство; жена, Фансуаза, узнает об адюльтере, но, по просьбе мужа, приглашает соперницу в гости для того, чтоб мягко ее отвадить от мужа; Доминика соглашается уйти из их жизни. Все – обычно. Внушительно написал Илья Рубин: <<…всякий народ в воображении соседей мифологизируется (например, сексуальная распущенность, приписываемая всем французам…)>>. Саган не развеяла во мне этот миф, хоть описывала не сексуальную, а нравственную распущенность. Но.
Мне–то приходилось читать художественные произведения и покудрявее, а неловкость перед самим собой я что–то не чувствовал. – В чем дело?
А в жизни когда я не чувствовал неловкости в сомнительных обстоятельствах?
Я подростком жил в переулке рядом с баней. Одноэтажной. Окна женского отделения выходили на улицу и были закрашены снизу масляной краской. Но если взобраться на цоколь этого дома… Я без зазрения совести так проделывал, когда темнело, когда переулок пустовал (не каждую ж минуту приходили и уходили посетители) и когда фонари на столбах еще не зажигали.
И мне понятно стало, что это меня теперь озадачило, когда я стал читать роман Франсуазы Саган. – Такая же необычность, что заставила и Пушкина приостановиться от секундной робости. Саган умудрилась создать иллюзию собственного, авторского, отсутствия в тексте, написанном от первого лица, якобы для себя и якобы не предназначенном для чтения другими. Это как «я-изнутри», не ведающее Другого (видящего мое я «извне»). А я – проведал. Подсмотрел, уже не будучи отроком. Стал читать как бы чужой дневник, явно не предназначавшийся для постороннего чтения.
И еще из жизни.
Как–то раз я шокировал некое изысканное собрание, сказав: «Зря вы так упрощаете высокоморальность Татьяны Лариной. Чтоб сделать ее столь возвышенной, какой мы видим ее в конце романа, Пушкин в начале его сотворил ее прямо демонисткой. Вспомните эти ее мечты о приютах счастливых свиданий с Онегиным под каждым кустом, этот ее эротический сон, где она на шаткой скамье готова отдаться Онегину–разбойнику, предводителю бандитской шайки».
Такое необычное осмысление было воспринято моими собеседниками не без некоторого возмущения: словно я, как тот банщик у Пушкина, спровоцировал их подсмотреть то, что не полагается видеть приличным людям.
Но почему чтение «Евгения Онегина» не вызывает беспокойства, что вы подсматриваете чужую жизнь, читаете чужие письма? – Потому что ясно просматриваются в пушкинском романе и автор, и герои. Там нет иллюзии, что перед вами чей–то самоотчет, чья–то исповедь. Пушкин – реалист.
А Саган?
Кто бы она ни была – эти пришедшие на ум «я-изнутри», «я-извне», иллюзия исповеди напомнили мне одну работу Бахтина.
Вольный пересказ из Бахтина
Тут мне прийдется пойти на длиннейшее отступление – на углубление в работу Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности», написанную где–то в 20‑х годах ХХ века, не подготовленную автором к печати, потому безумно трудную в чтении, немыслимую для цитирования, но зато в одной своей части, мне кажется, очень плодотворную для понимания Франсуазы Саган и ее романа.
Итак.
В жизни мы реагируем на окружающих людей не так, как автор на героя создаваемого им художественного произведения. В жизни мы реагируем не на целое человека, а на отдельные проявления его. Даже когда даем ему законченное определение: добрый, злой, эгоист, альтруист… И тогда мы не столько определяем его, сколько выражаем свою жизненно–практическую позицию по отношению к нему, некий прогноз, чего от него нам можно ждать для себя.
У искусства же – специфическая функция по отношению к нам: испытывать, более или менее жестоко испытывать наше сокровенное мироотношение. И чтоб не сломать большинство из нас в этом испытании, искусство должно явно отличаться от жизни. А чтоб все–таки испытать – быть очень на жизнь похожим. Поэтому герой там дан и в освещении автора, и в освещении себя, то есть – и как целое, видимое даже с затылка, видимое на фоне и нравственно определенное Другими, и – из себя, одинокого и свободного.
И эту бинокулярность трудно осуществить. Трудно, когда герой автобиографичен. Трудно, когда герой – товарищ или враг. В общем, трудно, когда ценности жизни дороже ее носителя. Тогда происходит нарушение гармонических отношений автора и героя.
И возможно, в общем, три случая нарушения таких гармонических отношений: 1) герой завладевает автором, 2) автор завладевает героем, 3) герой является сам своим автором, как бы играет роль.
Случай с Саган – второй. Потому что подходит под его описание Бахтиным.
Бахтин пишет, что в этом, втором, случае самопереживание героя есть иллюзия читателя, тогда как на самом деле герой одержим автором, ценностной позицией автора. Так самая «исповедь» героя обращается на себя, успокоенно довлеет себе, и герой вовсе не кается. И это потому, что одинокий внешне герой оказывается внутренне ценностно не одиноким, а милуемым автором. Герой вовсе не нуждается в действительном удовлетворении.
Вот кончаются две недели «медового месяца» Доминики и Люка в Каннах:
«И вот настал день отъезда. Из лицемерия, где главную роль играл страх: у него, что я расчувствуюсь, у меня – что, заметив это, я расчувствуюсь еще больше, мы накануне, в последний наш вечер, не упоминали об отъезде».
Согласитесь ли, что вообще внимательность, подробность описания – это проявление позитивного отношения к описываемому? Так какие тонкие переливы чувств перед нами! И чей это позитив: Доминики, теряющей любовника, может, навсегда, или ее автора? Думаю, когда вопрос так заострен, деваться некуда, кроме ответа: позитив – автора.
«– Давай последний раз посмотрим с балкона, – сказала я мелодраматическим голосом.
Он посмотрел на меня с беспокойством, потом, поняв выражение моего лица, засмеялся.
– А ты и в самом деле твердый орешек, настоящий циник. Ты мне нравишься».
И такая тонкость почти сплошь.
«Моя любовь удивляла и восхищала меня. Я забыла, что для мня она только причина страданий».
Так может, герой таки вовсе не нуждается в действительном удовлетворении?
«Это было прекрасное анданте Моцарта, несущее, как всегда, зарю, смерть, смутную улыбку. Я долго слушала, неподвижно лежа в постели. Я была почти счастлива.
[Потом позвонил Люк – справиться о ее состоянии.]
Откуда во мне этот покой, эта кротость…
… … … … … … … … … … … …
…музыка кончилась, и я пожалела, что пропустила конец. Я увидела себя в зеркале, заметила, что улыбаюсь. Я не мешала себе улыбаться, я не могла. Снова – и я понимала это – я была одна. Мне захотелось сказать себе это слово. Одна, одна. Ну и что, в конце концов? Я – женщина, любившая мужчину. Это так просто: не из–за чего тут меняться в лице».
Этими словами кончается роман. Нуждается его главный герой в действительном удовлетворении? – Нет. Одиночество – эстетизировано. Возведено в ранг ценности.
А вот Доминика пришла в гости к Франсуазе. Финал сюжета:
«Я была так напряжена, так несчастна, что сила отчаяния вернула мне уверенность.
– Ну вот, – сказала я.
Я оторвала глаза от пола и посмотрела на нее. Она сидела на диване напротив меня и молча пристально на меня глядела. Мы могли бы поговорить о чем–нибудь постороннем, на прощание я сказала бы со смущенным видом: «Надеюсь, вы не слишком этого хотели для меня». Все зависело от меня; достаточно было заговорить, и поскорее, пока молчание не превратилось во взаимное признание. Но я молчала. Вот она, эта минута, минута настоящей жизни».
Герой вовсе не кается. Довлеет себе. Пусть даже по сюжету перед ним находится как раз тот персонаж, перед которым–то что и делать как не каяться. – Побоку это!
Вот вам и исповедь. Перед безнравственным автором не в чем исповедоваться безнравственному герою, не за что каяться. И такой автор для героя представляется не выродком в мире, а чрезвычайным авторитетом в мире. И вот устами любящей авторитетной авторской души воспевает себя герой.
В разбираемом втором случае, – когда автор завладевает героем, – даже и предметное окружение героя, по Бахтину, часто символизировано. То есть отдает автором. – Пожалуйста: «анданте Моцарта, несущее, как всегда, зарю, смерть…»
Вспомните слова пушкинского Моцарта о своей музыке:
Я весел… Вдруг: виденье гробовое…
Вникните в слова тех музыковедов, – увы, довольно редких, – кто по–настоящему понял музыку этого гения, Моцарта: <<…его демоничность – темная страсть прекрасного, которая должна раствориться в противоречиях… Сама смерть продуктивна… Сладостное предчувствие конца заставляет лучше осознавать бытие>> (Паумгартнер).
И сравните с началом романа Франсуазы Саган:
«Помню, облокотившись на проигрыватель, я засмотрелась на пластинку, как она медленно поднимается, потом ложится на сапфировое сукно, прикасаясь к нему нежно, будто щека к щеке. И, не знаю почему, меня охватило сильное ощущение счастья: в тот момент я вдруг физически остро почувствовала, что когда–нибудь умру, и рука моя уже не будет опираться на этот хромированный бортик, и солнце уже не будет смотреть в мои глаза».
(Это первая страница романа.)
Демонистка.
А по Бахтину, – раз уж – и обстановка, – то и жизненный путь героя символизирован (отдает сделанностью, сочиненностью, в общем – автором). Ну так пожалуйста: несчастная невозможность Доминике навсегда отнять для себя чужого мужа, свою жену уже разлюбившего, символизирует несовместимость общественных отношений со свободной человеческой личностью.
Причем эта мысль проводится в предельных условиях. Уж куда какие свободные нравы во Франции, в Париже. Ан нет. И там общественное давит свободную личность. Почти ничто материальное не мешает главным героям жить в соответствии с принципом свободы: Доминика, когда бы и сколько бы ни вступала в половой акт по инициативе Бертрана или Люка, никогда не забеременевает; она как бы свободна от своей физиологии. То же у Люка с Франсуазой. Десять лет они в браке, брак был по любви, и должны были б быть дети, очень ограничившие бы свободу Люка. Но детей нет. И он свободен от физиологии. И Люк и Доминика в решающие моменты своего сближения достаточно безнравственны, чтоб это сближение состоялось. То есть достаточно свободны душевно. И все–таки зловредное общественное – уважение к институту брака – засело и в них и переводит, – по пути так называемого наибольшего сопротивления, – их свободу всего лишь в свободу стоического приятия разлуки. Как и Татьяна Ларина в замужестве стоически принимает разлуку и отвергает адюльтер с теперь уже любящим ее и как всегда любимым ею Онегиным.
Видят ли и Доминика и Татьяна свой идеал в общественном? Исповедуют ли этику долга? Находят ли в таком идеале и такой этике радость? – Нет. Их эмоции негативны. А негативная эмоция к этике долга и к идеалу общественному, пусть даже всего лишь семейному, есть позитив к идеалу и этике в чем–то противоположным. Обе героини исповедуют этику силы. Они супер–, так сказать, вумэны.
И я должен пересмотреть свое заявление о высокоморальности поздней Татьяны Лариной.
…просит позволенья
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.
… … … … … … … … … …
…Чтенью предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.
Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтенье разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана
Да с ним еще два–три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.
И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее – слава Богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
Так если принять, что слово это – «пародия», то Татьяна сочла Онегина недостойным демонизма, раз он не овладел ею. Значит, она укрепилась в своем демонизме.
Сверхчеловеки они обе: Татьяна и Доминика. Демонистки.
Только Пушкин смотрит на героиню с авторской, незаинтересованной (хоть и авторски милующей) точки зрения реалиста, идейно далекого ото всех своих героев. (Пушкин создал произведение, в котором отношения главного героя и автора гармоничны.) Франсуаза же Саган сделала Доминику одержимой автором, который чрезвычайно заинтересован идеалом демонизма.
Так что все сходится с бахтинским вторым случаем нарушения гармонических отношений героя с автором.
И раз мы уверились, что автор в «Смутной улыбке» завладевает героем, – хоть это и не бросается в глаза, – то можем теперь спокойно рассматривать героя, его «я-изнутри», его отличие от «я-извне» или сходство с этим «я-извне».






![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)