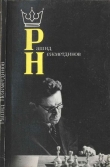Текст книги "О сколько нам открытий чудных.."
Автор книги: Соломон Воложин
Жанры:
Эссе, очерк, этюд, набросок
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Пушкинское «Путешествие в Арзрум» как выражение идеи несостоятельности доброй миссии России в мире
Недавно я читал обзор достижений русской литературы за десятилетие, проведенное ею без цензуры. Результат выводился плачевный. Раньше, мол, хоть перемигиваться с читателем – уже было интересно. А теперь… скука.
Мне, любителю подтекстов, приятно было это читать и думать, что вообще писание не «в лоб» – это уже есть что–то от художественности.
Вот такое «что–то» проникло у Пушкина и в самый нехудожественный жанр – в путевые записки.
Читали ль вы пушкинское «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»? И если читали, то заметили ль какую–нибудь странность этого повествования?
Мне показалось удивительным, как Пушкин представил читателям войну. Парад какой–то.
Вот первое столкновение, увиденное вчера приехавшим в армию Пушкиным, увиденное издали и как на красочной картине живописца:
“ «Много ли турков?» – спросил Семичев. – «Свиньем валит, ваше благородие»… Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склонении противуположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостию, прицеливались шагах в 20 и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые долиманы и блестящий убор коней составляли резкую противуположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли…»
Ну, это еще ладно. Исчезли так исчезли. Мало ли, какие цели были у их наступления. Пушкин же предупредил: «Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело». Впрочем, уже здесь видно, что одним наблюдением издали он не ограничился. Вряд ли с другого склона он видел Басова, да вряд ли и знал его. (Черейский пишет: <<В стихотворном отрывке «Был и я среди донцов» Пушкин вспоминал о казачьем полку Басова, в котором пробыл более месяца>> [5, 29]. И Пушкин был–таки в армии месяц и 6 дней. Но считал себя приписанным к Нижегородскому полку Раевского. Вот и упомянутый Семичев из того же полка. Описанная сцена боя происходила после обеда назавтра после приезда Пушкина, который сразу попал к Раевскому и у него и переночевал и с ним и выступил наутро. А полк Басова, как видим, был впереди Нижегородского. Мог ли Пушкин с Басовым познакомиться вчера, например, при визите Пушкина к командующему, перед выступлением армии? – Может, и мог. Но без сомнения, не мог он видеть, что Басов ранен именно в ногу. Что казаки было смешались – мог. Об остальном узнал после боя. Но роль командования выделена определенно. Ясно, что уступать склон было не предусмотрено, что подмога попрошена вовремя, что просьба была оценена верно и прибыло подкрепление тоже вовремя. Все – как часы. Не говоря уж о личном мужестве командира.
В обозе – тоже блеск:
«…во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен».
Вот следующее сражение:
«17 июня утром услышали вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами; полковник Фридерикс имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман – Паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись».
Опять впечатление – играючи побеждают турок.
Вот фрагменты, – так видел Пушкин, – следующего сражения:
«Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением».
В те времена в европейских армиях полагалось идти в атаку или отступать не толпой, а строем, и смыкать строй при попадании картечи, двигаясь дальше. Полагалось в любом случае держать строй, чтоб не думалось о бегстве. А у турок – толпа. Может, дело в этом. Но факт фактом: опять бегут турки при первом военном движении российских войск. Или то был маневр? – Пушкин не уточняет, а впечатление о турках оставляет неважным.
«Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись».
Может, это и рационально – стрелять по приблизившемуся противнику, даже если он одиночка. Но выпячена преувеличенная реакция турок.
«Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по лощине».
Опять впечатление, что турки не выдержали.
«Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли…
Сражение утихло…»
Все голы в одни ворота.
«…турки у нас на глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать…»
Все равно, мол, их бьем, когда ни захотим.
«Около 6‑го часу войска опять получили приказ итти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре начали отступать».
Чего? Так принято у них? Война в поддавки? Россияне в 1812 году тоже завлекали Наполеона вглубь своей территории. Но отступали–то не в процессе боя, а после боя или перед ним.
«Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистела мимо моих ушей…»
Так, как игру, увидел большое сражение Пушкин. Объективно все тоже было прекрасно:
«…я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки – Паше с 30 000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган–лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки – Паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему времени распорядиться».
Пушкин уже не потрудился это описывать ни со своей, ни с чужой точки зрения. Его в тот, следующий после описанной (вчерашней) победы, день заинтересовал гермафродит, оказавшийся среди пленных.
Кончается все – через несколько дней – чуть не анекдотическим взятием Арзрума.
«С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ – Дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топ – Даг был занят».
Дальше – принесли ключи от города. Вот и вся война.
«Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь».
Та же идеальность в поведении российских раненых:
«Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь, на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его».
Потом – упоминавшийся стоический Басов.
А вот – раненный смертельно:
«Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга».
Герои все.
Кстати, особое рвение в этой войне – с мусульманами все же – проявляют, по Пушкину, мусульмане российские:
«Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою».
Отношение к пленным – тоже идеальное. А исключение лишь подтверждает правило:
«В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленною тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия.
Но это слишком меня возмутило: я заступился за бедного турку и насилу привел его, изнеможенного и истекающего кровию, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере».
Безукоризненно относятся россияне и к населению:
«Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска, и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме…»
Проверили положение женщин гарема – в порядке. Их кормят, охраняют, и они ждут возвращения захваченного в плен Османа – Паши, которого отвезли пока для чего–то в Тифлис.
И что–то подозрительно: да не посмеялся ли Пушкин иносказательно?
Конечно посмеялся. Посмотрите в начало первой главы, как смеется над предшествующей войной, персидской, и над главнокомандующим на ней и на нынешней, турецкой, – как смеется специалист, генерал в отставке Ермолов:
«…Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче, и всегда язвительно. Говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. «Пускай нападет он, говорил Ермолов, на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавшего в Шумле – и Паскевич пропал». Я передал Ермолову слова гр. Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. «Можно было бы сберечь людей и издержки», сказал он».
Вот Пушкин и последовал в своем описании войны за ермоловским ярлыком – «графом Ерихонским». И посмеялся. Пусть не над кавказским войском – так над своим недавним представлением о нем, о России, о персонифицированном их воплощении – царе – как о несущих благо своему и чужим народам.
Его [царя] я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной…
Начало 1828 г.
А в конце 1829‑го? – Вот, вроде, освобождает Россия, ее царь и армия от турецкого владычества последнюю неосвобожденную территорию православной Армении… А скепсис ко всему на свете, навалившийся в 1829‑м на Пушкина, давит. Чем кончается описание побед и ожидание конца войны? – «Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом… это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась!»
Видно, все–таки больше турок там жило, чем армян и скорее несправедливая эта новая война, чем справедливая. И потому надо было ее так подозрительно ура–патриотически описывать. Главное же, это было не начало 1828 года. Пушкин уже разочаровался в надежде на прогрессивность Николая I. Пушкин уже отошел от общественных умеренных идеалов и исповедовал индивидуалистический идеал Дома и Семьи. И ему все никак не удавалось этот идеал достичь, в частности, и из–за изъянов российского общества. А в арзрумский поход он бросился от отчаяния из–за неудачного сватовства к Наталье Гончаровой. И вот – перед нами скепсис ко всему, подколка армии, а может, и вообще межнациональной политики России.
Судя по чехарде, – в вариантах (то есть он, то нет его), – с отрывком о посещении в начале путешествия оппозиционера генерала Ермолова, ясно, что Пушкин сразу собирался отводить душу в скепсисе, начиная новую, называемую арзрумской, тетрадь. (Впрочем, считаясь с тем обстоятельством, что всегда была опасность попадания к жандармам его бумаг, Пушкин о Ермолове приписал: «О правительстве и политике не было ни слова».) И все–таки достаточно крепкие выражения проникли в его записи:
«Думаю, что он [Ермолов] пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу».
Вы как это понимаете: о прошедшем, настоящем или будущем должны были быть его записки?
Как бы то ни было, у Пушкина в его ироническо–экзотическом «Путешествии» прошли столько народов, что кажется, будто поэт решил (тут – уже в пику Ермолову) писать (намекать) о непереходе к славе и могуществу инородцев в этой необъятной и все расширяющейся России. Калмыки, черкесы, осетины, грузины, курды–езиды… Одни других ужаснее по качеству жизни духовной и физической. А кто виноват? – Россия, раз она приняла их под свой протекторат или завоевала их землю.
Лишь для дворян обустраиваются новоприобретенные земли:
«…Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену… Нынче выстроены великолепные ванны. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем… везде порядок чистота, красивость…»
Сравните это с калмыцкой кибиткой, в которой на одном пространстве и кухня, и спальня, и гостиная, и на открытом огне готовят в ней пищу и что готовят! – «чай с бараньим жиром и солью», про который Пушкин пишет:
«Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что–нибудь гаже».
Намек такой: Россия только тем и хороша, по сравнению с западными колонизаторами, что дает инородцам жить так, как жили, если они не трогают никого. Но вряд ли это путь «из ничтожества».
То же в Осетии.
«Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам».
Почему, спрашивается, благосклонны? – От темпераментности и безнравственноти? – Вряд ли, раз лишь точкой с запятой отделено предложение о бедности от предложения о благосклонности к путешественникам. Бедность и проституция – сестры.
Предлагает Россия осетинам путь «из ничтожества»? – Нет.
То же в Грузии, Тифлисе.
«Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями».
«Большая часть города [Тифлиса] выстроена по–азиатски: дома низкие, кровли плоские… Русские не считают себя здешними жителями… смотрят на Грузию как на изгнание».
Есть исключение:
«Санковский [издатель Тифлисских ведомостей] любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность».
Так исключение подтверждает правило. Если б Пушкин был склонен в данном произведении показывать путь под влиянием России хоть какого–нибудь «народа из ничтожества», он бы не преминул передать рассуждения Санковского. Однако у Пушкина здесь была противоположная задача: отвергнуть Россию как благо для народов.
И вот – только немирные черкесы чувствуют влияние России. Злое.
«Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружбамирны`хчеркесов ненадежна… Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку… У них убийство – простое телодвижение… Недавно поймали мирно`го черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру [имеется в виду, что раньше они были христиане]… Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености взамену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты».
То есть даже здесь – в достаточной мере – заброшенность края и его народа, вызывающая критицизм Пушкина.
Вообще «Путешествие в Арзрум» в чем–то противоположно в тот же год сочиненным «Дорожным жалобам». Ко второму произведению очень хорошо подходят мысли Асафьева о живописцах того же времени:
<<…с исключительной неутомимостью они совершали поездку за поездкой и с тщательностью зарисовывали виденное… Работы – многообразные и многочисленные – обнаруживают делово–обозренческий характер, это своего рода изобразительная летопись. «Глаз» художников «добру и злу внимает равнодушно», но, как в языке летописей впечатляют живые интонации эпохи… так и в скромных «деловых подорожных записях» живописцев… Смотришь вид за видом, скорее с «путешественническим» интересом к странам, векам, народам, чем к художеству, и вдруг – прекрасная, меткая, всецело живописная подробность, яркий красочный миг природы или же характер фигуры, умно схваченной рисунком! И надолго в сознании сохраняется этот образ – заметим – среди множества равнодушно «проехавших мимо» предметов. Значит, думается… в их странствованиях было что–то, гнавшее вперед–вперед: то ли жажда впечатлений, то ли своеобразное чувство душевного изгнанничества, столь характерное для эпохи… Характерная черта для николаевской эпохи, вовлекшей в состояние изгнанничества (и физического, и духовного, и морального) лучшие умы и сердца интеллигенции, – увеличение в изобразительном искусстве следов беспрестанного… странничества, блуждания>> [1, 188–189].
Так в «Дорожных жалобах» таки настолько «проехавшее мимо», что и следа нет. Разве лишь то, что способно поставить точку в путешествии, убить: «под копытом», «под колесом», «во рву», «под разобранным мостом» и т. п. А в «Путешествии в Арзрум» почти сплошь экзотика. Экзотика юга, востока, гор, чудны`х народов, нравов, особей – вроде гроба Грибоедова, знатока Востока, тем не менее там убитого, гермафродита, дервиша, женщин гарема без паранджи или несмущающихся голых женщин в тифлисской бане.
Но если и у упомянутых живописцев, и в «Дорожных жалобах» изгнанничество проявляется в редкости живописных подробностей и в частоте смертельно опасных случаев (и те и те – выдающиеся на скучном фоне), – то в «Путешествии» (где смертельно опасный случай был лишь один: возможность быть затоптанным своей же конницей в начавшейся атаке на неровном месте, если б конь Пушкина споткнулся и упал) – изгнанничество в «Путешествии» упрятано гораздо глубже: в тончайшую иронию по отношению к действительности, к военной экзотике, связанной со все же Россией, с ее никчемными завоеваниями, с ее нераспорядительностью относительно пути «из ничтожества» для ее азиатских народов.
Пушкин в 1829 году, – со своим идеалом Дома, – был, как я уже докладывал, в нижней точке Синусоиды идеалов. Это поворотная точка кривой. Находящегося в ней не тянет ни «вверх», ни «вниз». Это относительно нее наиболее верно высказывание Белинского: <<Он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине>> [2, 259]. Но в подобном состоянии, скажем так, равнодушия естественно отрицать доктрины и учения. В частности, – идею неоценимой миссии России в истории человечества, пестуемой в этой стране под названием «Третьего Рима» с того момента, как рухнула Византия и Константинополь, «Второй Рим», и как Россия осталась единственной независимой православной страной. Отрицается русская национальная идея, возвышенный идеал. Нижняя точка Синусоиды.
После нижней точки Синусоиды идеал тянет на повышение. Так и случилось в конце этого же, 1829 года. И длилось до 33‑го (идеал консенсуса), а там наступило сомнение и в консенсусе, о чем я тоже докладывал. Взлетающая ветвь Синусоиды как бы пригнулась, стала опять не тянуть ни «вверх» ни «вниз». Опять захотелось все отрицать, в том числе отрицать и мелькнувшее в 1831‑м международное следствие из консенсуса – всемирную миссию доброты России (о чем я тоже докладывал). И тогда наступило время вспомнить о путевых записках 1829 года и попробовать их издать. Все. В том числе с насмешками над войной (на что он не решился в 1830‑м, опубликовав в «Литературной газете» лишь отрывок – «Военная грузинская дорога», отрывок без войны, без Ермолова, без калмыков и езидов).
Однако теперь, в 1835‑м, его больше тянуло иронизировать и над войной, и над нераспорядительностью России в своей миссии по изменению человечества в сторону добра. И он дописал сатиру на войну и «Приложение» – о секте езидов, поклоняющихся дьяволу.
Это приложение в чем–то противоречит строкам вне приложения. Вот они:
«Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого Бога, что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее».
После чтения «Приложения» становится ясно, что речь езида, переданная Пушкиным, была уловкой этого езида. А успокоенность Пушкина, зафиксированная в основном тексте, была пушкинской уловкой то ли перед самим собой (слишком жутко представлять открытых дьяволопоклонников), то ли перед возможными читателями–жандармами.
Но Пушкин все же решился. Правда – на французском языке у него приложение: малообразованные люди, понимай, больше податливы субнизким идеалам, зато меньше вероятность, что они хорошо читают по–французски; не так опасно обнародование подобного мировоззрения. Вот выдержки из «Приложения».
«Первое правило езидов – заручиться дружбой дьявола и с мечом в руках встать на его защиту».
«Они верят, что все святые, во время своей земной жизни, были отличены от других людей в той мере, насколько в них пребывал дьявол. Особенно сильно, по их мнению, он проявился в Моисее и Магомете. Словом, они думают, что повелевает Бог, но что выполнение своих повелений он поручает власти дьявола».
Вокруг горы Синджар их очень много, и их нельзя победить из–за храбрости их. «Года не проходит без того, чтобы какой–нибудь крупный караван не был ограблен этим племенем».
«…они не ограничиваются ограблением попадающих им в руки, они всех поголовно убивают; если же среди них находятся шерифы, потомки Магомета, или мусульманские законоучители, они убивают их особенно жестоким способом и с особенным удовольствием…»
«если езид убивает турка, он совершает дело, весьма достойное в глазах великого шейха , то есть дьявола».
А что они делают в ночь своего единственного праздника, на который не допускаются только незамужние девушки, Пушкину то ли не рискнул рассказать его информатор, то ли Пушкин сам не решился передать.
Ну, все это разбавлено, конечно, массой нравственно нейтрального этнографического материала. Амортизирует. Идеал Пушкина все–таки был на подымающейся ветви Синусоиды, пусть и на время пригнувшейся, негладкой…
Введением этого приложения Пушкин хотел сказать, какую новую обузу – в виде 300 семей исчадий ада под одним только Араратом – Россия приобрела для своей нераспорядительности с судьбой низов и русского и нерусских народов.
Всю сумму иронии в «Путешествии» следовало теперь хорошо самортизировать для прохождения цензуры. (Довольно чуткий на лобовые выпады Николай I уже в беловике «Военной грузинской дороги» в 1830‑м собственноручно [4, 518] зачеркнул, – я выделил, – слова: «Но легче для нашей лености в замену Слова живого выливать мертвые буквы», – заменив их абстрактным выражением: <<И пример лучшего и Слово живое будет действительнее, чем выливать мертвые буквы>>.)
Итак, что было делать Пушкину для маскировки иронии? – Он написал предисловие, в котором обрушился на какого–то Фонтанье, мол, в 1834‑м написавшего во Франции:
«Один поэт, замечательный своим воображением, в стольких славных деяниях, свидетель которых он был, нашел сюжет не для поэмы, а для сатиры».
Увидеть сатиру в «Военной грузинской дороге», где ни слова ни о Ермолове, ни о войне, было невозможно, а телепатии, как известно, не существует. Пушкин и обрушился. По принципу: кричи «держи вора», когда сам вор и удираешь от погони («Олегов щит» – таки сатира, правда, написанная о другом театре военных действий – балканском, зато о той же войне). И… Пушкин рассыпался в уверениях обратного в отношении кавказского театра:
«Может быть, смелый переход через Саган–лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман – Паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму, все это, увенчанное полным успехом, может быть и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье…): но я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание».
Ну как публике после этого видеть подтрунивание в основном тексте? – А быть готовым к чтению не «в лоб».
Я уже полностью закончил было этот доклад, когда случайно наткнулся на заочный спор Макогоненко с Тыняновым относительно сатиричности, мол, (по Тынянову) «Путешествия в Арзрум» и пушкинском, мол, неприятии ни восточной политики царя, ни колонизаторской политики России, ни самой войны с Турцией, ни Паскевича как командующего. Возражения Макогоненко Тынянову меня не убедили. Но я убоялся, что я открыл уже давно открытую Тыняновым Америку. Лестно, конечно, совпасть с таким авторитетом, как Тынянов. Но и стыдно, если я обнаружу свое незнакомство с его открытием. И я занялся сверкой.
Меня поразила немногочисленность ссылок Тынянова на пушкинский текст и их тонкость. Например, ироническая высокопарность в обрисовке Паскевича: слово «повелел» в обычных обстоятельствах боя, когда уместнее было б слово «приказал». Другой пример: неизменный переход на французский язык, как только описывается разговор с Паскевичем. И так далее.
Ну ясно. Статья Тынянова более широка по теме. Он посчитал, что хватит для доказательства сатиричности.
Я же – рад. Мои доказательства не явились повторением.
Но еще одна любопытная работа мне попалась. Это статья «Кавказский дневник Пушкина» Я. Л. Левкович. В ней доказывается, что зря Тынянов назвал черновыми записями то, что Пушкин в 1829 г. написал о путешествии в свою арзрумскую тетрадь, и зря Тынянов и другие составители «большого» академического издания напечатали эти черновые записи в разделе «Другие редакции и варианты» [3, 6]. Тынянов же, мол, сам доказал [3, 5], что замысел «Путешествия в Арзрум» возник лишь в 1834 г., после выхода книги Фонтанье с ее выпадом против Пушкина, будто бы сатирика. То есть, не может быть черновиком и вариантом то, что замышлялось через 5 лет. Левкович считает, что в будущих полных собраниях сочинений этому писанию 29‑го года надлежит быть напечатанным среди дневников поэта [3, 18]. И она дала свою реконструкцию этого дневника. По содержанию он почти совпадает с первой главой «Путешествия» – до спуска в Грузию. Плюс эпизод с казаками на обратном пути, давший материал поэту впоследствии написать стихотворный отрывок «Был и я среди донцов», эпизод, в «Путешествие» не вошедший.
Так вот только этот эпизод, – как казаки в пути встречаются со своими земляками–сменщиками, узнают от них о верности или об изменах своих жен и обсуждают, как кто поступит по приезде, – только этот эпизод, по–моему, и выпадает из сатирического замысла о «доброй» роли России на Востоке.
То есть я смею повторить, что сатирический замысел бродил в душе Пушкина уже в 1829 г. И публикация Фонтанье явилась лишь последним (а не первым) толчком к написанию «Путешествия в Арзрум».
А сколько бы доказательств Левкович ни собрала, что писания 29‑го года это дневник без идеи, как и другие его дневники, – эти доказательства легко игнорировать ради его идейности. И опираться при этом можно на саму же Левкович, представившую особый пример дневника – записи 1831 г., которые<<могли выполнять две функции: отражать впечатления дня (или дней), т. е. быть «ежедневными записками» поэта, и одновременно содержать информацию о политических событиях в стране, которая предназначалась для публики>> [3, 15]. Почему писаниям 29‑го года не выполнять две функции? – Таким вопросом Левкович не задалась. А зря.
Литература
1. Асафьев Б. В. Русская живопись. Мысли и думы. Л. – М., 1966.
2. Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985.
3. Левкович Я. Л. Кавказский дневник Пушкина. В кн. Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983.
4. Литературное наследство. М., 1934. Т. 16–18.
5. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989.
Написано в ноябре–декабре 2001 г., поправлено в апреле 2002 г.
Не зачитано






![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)