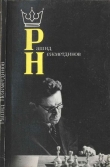Текст книги "О сколько нам открытий чудных.."
Автор книги: Соломон Воложин
Жанры:
Эссе, очерк, этюд, набросок
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
С. Воложин
О сколько нам открытий чудных…
Доклады для Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых
В стихах: Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я – слова «утром», «уверен», «увижусь» находятся в… связи, не зависящей от обычных синтаксических и иных, чисто языковых связей. Звук «у»… конечно, сам по себе никакого значения не имеет. Но повторение его в ряде слов заставляет выделить его в сознании… как некую самостоятельную единицу… она получает семантику от слова… «утром», «уверен», «увижусь»… возникает значение, невозможное вне этого сопоставления… «архисема»…
…«Архисема» не дана в тексте непосредственно…
…В дальнейшем… структура строится уже на уровне архисем, которые, включаясь в оппозиции, раскрывают сопротивопоставленность своего содержания, образуя архисемы второго и высших уровней, что, в конечном итоге, ведет нас к постижению одного из аспектов…
(Ю. М. Лотман)
…художественного смысла произведения, если этак пройти по всем уровням текста: звукам, стихам, строфам, ситуациям, мотивам и т. д.
Обстановка моей деятельности
как интерпретатора
(Вместо предисловия)
Две особенности резко отличают меня от других деятелей в области интерпретационной критики: 1) использование тригонометрической аналогии для иллюстрации изменчивости художнических идеалов – синусоиды бесконечной, к точке на которой я свожу художественный смысл конкретного произведения; 2) парадоксальное использование противочувствий для катарсиса (по Выготскому), приводящее меня к утверждению, что художественный смысл есть катарсис, и в, скажем, произведениях литературы его нельзя процитировать, в произведениях живописи в него нельзя ткнуть указкой и т. д., зато об этом неуловимом художественном смысле принципиально возможно сказать словами, причем довольно коротко.
Так если синусоиду у меня не принимают по недоразумению – она же просто необычное отражение обычного социологизма и культурно–исторической школы, то с нецитируемостью художественного смысла, выраженного мною, интерпретатором, в нескольких словах, совсем беда: и субъективизм, мол, это отчаянный и кощунство примитивное.
О кощунстве – подробнее.
*
Вообще в интерпретаторы идут редкие люди. Потому что это очень скользкая область. Это – если сказать по–плохому. Если по–хорошему – там очень мало наукой наработано и потому там легко испортить себе репутацию.
Вот как толкование характеризуют
за здравие,
за здравие рискующих им заняться.
(Курсивом я отмечу источники, жирным шрифтом – прямое цитирование, обычным – свои вставки.)
Верли М. Общее литературоведение. М., 1957. С. 75–76:
«…в работе по истолкованию литературного произведения меньше, чем в какой–либо другой области гуманитарных наук, можно говорить о каких–то точных, традиционно сложившихся методах работы, о четко определившемся направлении исследования. Поэтому и приходится говорить об «искусстве толкования», об интуитивном или экзистенциональном характере любой попытки освещения произведения».
Нет принципиального «нет». Как же относиться к критику, пытающемуся подкрепить свои, пусть и озарения, некоторыми правилами и проверкой? Совсем терпимо?
Шмелев Д. Н. Слово и образ. М., 1964. С. 15:
«…оценки роли тех или иных речевых средств в художественных произведениях не являются… бесспорными и четко очерченными».
Уже не категорическое фэ. А если вдобавок оценивать эти средства с точки зрения, например, идеи целого произведения, которая как сок, мол, пропитывает весь плод и каждую его клетку? Совсем терпимо?
Виноградов В. В. О теории поэтической речи. М., 1971. С. 103:
В области языка как формы «до сих пор еще нет единства мнений и нет больших достижений».
Так, может, хвалить безумство храбрых, забирающихся в эту terra incognitа?
Рудяков Н. А. Стилистический анализ художественного произведения. К., 1977. С. 4:
«Проблема стилистического анализа художественного произведения, цель которого – «в анализе формы увидеть полнее содержание» (Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974. С. 278) , справедливо считается одной из наиболее сложных проблем современной филологии».
С. 8:
«Выдвинутая Л. В. Щербой проблема целостного анализа художественного произведения, по общему признанию, остается до сих пор нерешенной».
Так, может, хотя бы как–то попробовать решить?
Вы видите, что я пытаюсь комментировать все эти не совсем негативные оценки ситуации как пение за здравие мне подобным, рискующим.
А теперь пойдет -
за упокой.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 121:
«Описательное стиховедение и описательная поэтика исходят из представления о художественном построении как механической сумме ряда отдельно существующих «приемов». При этом художественный анализ понимается как перечисление и идейно–стилистическая оценка тех поэтических элементов, которые исследователь обнаруживает в тексте. Подобная методика анализа укоренилась и в школьной практике. Методические пособия и учебники пестрят выражениями: «выберем эпитеты», «найдите метафоры», «что хотел сказать писатель таким–то эпизодом?» и т. д.
Иной подход… подразумевает, что тот или иной «прием» рассматривается не как отдельная материальная данность, а как функция с двумя или чаще многими образующими. Художественный эффект «приема» – всегда отношение».
Я тоже когда–то начал с описательной поэтики, с подхода: «что есть что». Но вскоре спохватился, наткнувшись на «Психологию искусства» Выготского. Помню, как я чуть не подскакивал от таких выражений: «В течение столетий эстетики твердят о гармонии формы и материала и вдруг мы обнаруживаем, что это величайшее заблуждение». Или: «Предрассудок, будто характеры действующих лиц должны определять собой действия и поступки героев». И т. д. и т. п. Почти как Лотман (с. 164):
«…общим законом структуры поэтического текста» является «соотнесенность» частей. «Сама по себе» часть «просто не существует: все свои качества, всю свою определенность любая часть текста получает в соотнесении (сравнении и противопоставлении) с другими его частями и с текстом как целым».
Только у Выготского все время известно, что кроме характера и действий, кроме формы и материала, кроме одного и другого есть третье, нематериальное, так сказать, но совершенно определенное – катарсис. А у Лотмана – хоть и тоже «не отдельная материальная данность», но зато нечто, совершенно не дающее определенности – «отношение».
У Выготского – «зачем так», у Лотмана – «как» без интереса к «зачем».
С. 7:
Из Гегеля следует, что искусство теперь дает некое знание низшего типа. «Несмотря на то, что это положение Гегеля неоднократно подвергалось критике, например Белинским, оно настолько органично… что снова и снова возникает в истории культуры… Это же убеждение проявляется в слабых сторонах методики изучения литературы, настойчиво убеждающей учеников в том, что несколько строк логических выводов (предположим, вдумчивых и серьезных) составляют всю суть художественного произведения, а остальное относится к второстепенным «художественным особенностям»”.
А отсюда – я так понимаю – отказ настоящих ученых говорить о художественном смысле или, по крайней мере, стеснительное упрятывание высказанного о нем где–то в середине абзаца, в придаточном предложении, практический отказ вывести словосочетание «художественный смысл» в заглавие и т. д. и т. п.
С. 9:
Искусство оказывает «человечеству незаменимую услугу, обслуживая одну из самых сложных и не до конца еще ясных по своему механизму сторон человеческого знания».
А раз так, то не думай, мол, что ты умней других.
Я, впрочем, и не думаю. Атанас Натев эту незаменимую услугу уже открыл и назвал. Удивляюсь, что до Лотмана это не дошло.
С. 10–11:
Пушкин свой стих о непонятной жизни кончил так:
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу…
Жуковский это неопубликованное Пушкиным стихотворение, публикуя, улучшил по рифме:
Темный твой язык учу…
«…для нас важно другое: кто бы ни сделал это изменение – Пушкин или Жуковский, – но для него стихи:
Смысла я в тебе ищу…
и
Темный твой язык учу -
были семантически эквивалентны: понять жизнь – это выучить ее темный язык».
Будто не бывает, что язык знаешь уже, а смысл сообщения не понятен еще, и душе надо трудиться и трудиться. Но для Лотмана–то важно не идти дальше языка, за которым – художественный смысл.
С. 11:
Художественная информация «неотделима от структурных особенностей художественных текстов в такой же мере, в какой мысль неотделима от материальной структуры мозга… объяснить, как художественный текст становится носителем определенной мысли – идеи… такова общая цель…» книги Лотмана.
Это как иной биолог: найти некий центр удовольствия в мозгу у крысы – он найдет, но сказать, какое удовольствие получает крыса от раздражения этого центра: половое, вкусовое или еще какое, – нет, этого он не скажет. Исследуйте сами на свой страх и риск. А я, мол, не при чем, если вы ошибетесь.
С. 17:
«…художественная структура, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой объем информации, который совершенно недоступен для передачи средствами элементарной собственно языковой структуры. Из этого вытекает, что данная информация (содержание) не может ни существовать, ни быть передана вне данной структуры. Пересказывая стихотворение обычной речью, мы разрушаем структуру и, следовательно, доносим до воспринимающего не тот объем информации, который содержался в нем. Таким образом, методика рассмотрения отдельно «идейного содержания», а отдельно – «художественных особенностей», столь привившаяся в школьной практике, зиждется на непонимании основ искусства и вредна, ибо прививает массовому читателю ложное представление о литературе, как о способе длинно и украшенно излагать те же самые мысли, которые можно сказать просто и кратко».
И замалчивается синтезирующий анализ Гуковского, способный в каждом элементе увидеть идею целого, замалчивается так называемая сходимость такого анализа, принципиально отказывающегося рассматривать отдельно идейное содержание от художественных особенностей.
С. 32–33:
«…художественный текст выступает и как совокупность фраз, и как фраза, и как слово одновременно… этот «язык искусства» – сложная иерархия языков… С этим связана принципиальная множественность возможных прочтений художественного текста».
Будто нельзя занумеровать и иерархию прочтений: то единственное, которое все соотнесет в подпрочтениях, то и верно. Сходимость анализа!
С. 33:
«…художественный текст имеет особенность: он выдает разным читателям различную информацию – каждому в меру его понимания, он же дает читателю язык, на котором можно усвоить следующую порцию сведений при повторном чтении. Он ведет себя как некоторый живой организм, находящийся в обратной связи с читателем и обучающий этого читателя».
Так почему версию, соответствующую бо`льшей обученности, не признать более верной? – Нет. Молчаливо принята терпимость ко всем версиям, кроме абсурдых. А интерпретатору, мол, лучше вообще помалкивать и перейти на другой род деятельности.
С. 34:
«…обычные виды связи знают только два случая отношений сообщения на входе и выходе канала связи – совпадение или несовпадение… А между пониманием и непониманием художественного текста оказывается очень обширная промежуточная полоса».
По принципу «если не можешь достигнуть удовлетворения потребности (тут – в понимании) – снизь ее уровень». А кто с этим принципом не хочет мириться, тот, мол, мальчишка, жизнью не битый, или дурак неисправимый.
«…разница в толковании произведений искусства – явление повседневное и, вопреки часто встречающемуся мнению, проистекает не из каких–либо привходящих и легко устранимых причин, а органически свойственно искусству».
Так как же ученому позволить себе выдать интерпретацию, когда другой тут же выдаст другую и тоже обоснованную?
С. 45–46–47:
Наконец, – в порядке раздачи всем сестрам по серьгам, – можно и толкователям кинуть кость:
«Именно изучение того, что же означает «иметь значение», что такое акт коммуникации и какова его общественная роль, – составляет сущность семиотического подхода. Однако для того, чтобы понять содержание искусства, его общественную роль, его связь с нехудожественными сторонами человеческой деятельности, мало доброго желания, мало и бесконечного повторения общеизвестных и слишком общих истин. Нужен семиотический подход.
Если считать это формализмом, то права Простакова по поводу того, как разделить найденные «триста рублев» троим поровну: «Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке»…
…Можно по–разному относиться к обучению арифметике или грамматике, но нельзя опровергнуть того, что для овладения этими науками их следует – на определенном этапе – представить как имманентные, замкнутые…
…изучение культуры, искусства, литературы как знаковых систем в отрыве от проблемы содержания теряет всякий смысл. Однако нельзя не видеть, что именно содержание знаковых систем, если только не удовлетворяться чисто интуитивными представлениями о значениях, наиболее сложно для анализа».
Лезьте в эту сложнятину, фанатики толкований. Но – не нормальные люди.
С. 78:
Можно даже притвориться, будто на кинутой толкователям кости в принципе есть мясо.
Из «…невозможности пересказать поэзию прозой, художественное произведение – нехудожественным языком… не вытекает часто делаемого вывода о том, что наука о литературе… бессильна уловить… единичное своеобразие, в котором и состоит сущность произведения искусства».
С. 90:
Об этом «в принципе мясе» Лотман говорит как «о совокупности допустимых истолкований», но не как «об одном исключительном истолковании».
С. 89:
Сдаваясь перед жизнью, требующей интерпретаций именно исключительных, что «неоднократно вызывало (порой весьма обоснованные) протесты», но «бесконечное число раз практиковалось в истории культуры и, видимо, будет практиковаться и в дальнейшем, поскольку… органически вытекает из самой общественной роли искусства», Лотман не понимает специфики этой роли.
Роль–то эта – по Натеву – испытательная. Функция искусства, ничему больше не присущая, есть <<непосредственное и непринужденное испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества>>. (Натев А. Искусство и общество. М., 1966. С. 212, 224.)
Однако для Лотмана это остается тайной. Даже когда он говорит о рамке и моделировании действительности (С. 258).
С. 90:
А сдается он толкователям – лишь будто бы.
«Поэтому целесообразно будет указать на возможный путь, следуя по которому мы сможем [толковать] с наименьшими утратами».
Потому «будто бы» он сдается, что пути–то к исключительному художественному смыслу и не дает. А если и дает, – я его даже в эпиграф вынес, – то в конце рекомендации стесняется признать, что это путь к художественному смыслу. К «постижению одного из аспектов структуры произведения» (С. 181), – увиливает в последний миг Лотман, и мне пришлось – в эпиграфе – оборвать его и вставить более достойные слова.
С. 101:
И еще потому «будто бы» сдается он толкователям, что то, что он дает–таки, это – думает он – не путь уточнения исключительного варианта содержания, а – хоть он и не акцентирует – путь увеличения различности содержаний в связи с «многократными вхождениями одного и того же элемента в различные конструктивные контексты» (а раз конструктивные, – понимаю я Лотмана, – то – и содержательные).
Ну а я – буду акцентировать досадный плюрализм Лотмана при цитировании:
«Закон художественного текста: чем больше закономерностей (указующих, каждая, на свой смысл) пересекается в данной структурной точке, тем индивидуальнее он кажется. Именно поэтому изучение неповторимого (многосмысленного) в художественном тексте может быть реализовано только через раскрытие закономерного (многозакономерного) при неизбежном ощущении неисчерпаемости (количественной и разносмысленной) этого закономерного.
Отсюда и ответ на вопрос о том, убивает ли точное знание произведение искусства. Путь к познанию – всегда приближенному – многообразия (в вариантах художественного смысла) художественного текста идет не через лирические разговоры о неповторимости, а через изучение неповторимости как функции определенных повторяемостей (за каждой из которых – свой смысл), индивидуального (многосмысленного) как функции закономерного (многозакономерного).
Как всегда в подлинной науке, по этой дороге можно только идти. Дойти до конца по ней нельзя. Но это недостаток только в глазах тех, кто не понимает, что такое знание».
Лотман знание понимает как бесконечное увеличение количества вариантов смысла. А я – как бесконечное уточнение и подтверждение исключительного смысла и бесконечное же подтверждение ложности всех остальных смыслов.
С. 90:
Что я не ошибаюсь со своим акцентированием Лотмана, свидетельствует следующее:
«Вероятно, все исторически имевшие место истолкования «Евгения Онегина», если к ним прибавить те, которые еще возникнут прежде чем это произведение перестанет привлекать читательский интерес, будут составлять область значений пушкинского романа в переводе на нехудожественный язык… Все новые и новые коды читательских сознаний выявляют в тексте новые семантические пласты.
Чем больше подобных истолкований, тем глубже специфически художественное значение текста и тем дольше его жизнь. Текст, допускающий ограниченное число истолкований, приближается к нехудожественному и утрачивает специфическую художественную долговечность (что, конечно, не мешает ему иметь этическую, философскую или политическую долговечность…)».
По–моему же, художественную долговечность произведение имеет постольку, поскольку умеет воздействовать непосредственно и непринужденно. А уж этическая, философская и политическая долговечость обеспечивается повторяемостью человеческих идеалов в истории. Пусть только они будут в произведении – эти этические, философские и политические ценности. А уж возбудить – по аналогии или по противоположности со злобой дня – людей они смогут всегда. Важно, повторяю, чтоб произведение смогло – через века – донести до будущих людей свои этические, философские и политические ценности именно непосредственно и непринужденно. И все! И ответное вибрирование душ обеспечено. Шедевры, вроде бы все признают, это умеют. Потому шедевры искусства живут вечно.
Ну, почти вечно.
Все ж не только повторяется, но и изменяется тоже. Вследствие изменчивости развивается глухота на старое.
Но если прочистить уши… Если ввести в курс прошлого… Смерть отступит. Будет возрождение.
Но Лотман, даже когда пускается в операцию прочистки ушей, умудряется увильнуть в сторону от открытия художественного смысла (С. 237):
«То как Якобия оставить,
Которого весь мир теснит?
Как Лонгинова дать оправить,
Который золотом гремит?
(Державин)
«Якобий» и «Лонгинов» выполняют в державинском тексте роль антонимов. Однако для современного читателя, который не знает ни об иркутском генерал–губернаторе И. В. Якоби, обвиненном в попытке вызвать военное столкновение с Китаем, ни о петербургском купце И. В. Лонгинове, ни о страстях и интригах, кипевших вокруг их процессов… эти имена лишены собственного, вне текста стихотворения лежащего значения. Державинское отождествление «Якобия» с «гонимым праведником», а «Лонгинова» с «торжествующим злом» ни с чем не совпадает и ничему не противостоит в сознании читателя (напомним, что совпадение – частный случай конфликта). Поэтическое напряжение, которое существовало в этом месте текста, утрачено».
Так на то есть институт комментариев. И он бы нас навел на аналогии с «незаконной» квартирой Собчака и патриотизмом (за который все прощают) Наздратенко, выступившего против мелкой уступки Китаю в пограничном соглашении. Комментарий бы заставил сравнить бандитов, приведших к власти Екатерину II, с криминалитетом, распоясавшимся при Ельцине. Это теперь. А когда Лотман писал свою книгу, аналогии должны были б быть с брежневско–чурбановскими предпосылками нынешнего массового разврата, о чем говорили на кухнях лучшие люди страны. Напряжение державинского стиха было бы восстановлено. Но в чем его художественный смысл – напряжения?
Может, вообще опасно было при тоталитаризме доходить до художественного смысла любого произведения (чтоб не натыкаться иногда на открытие идеологически запретного и не подвергать себя тогда унизительной самоцензуре)?
С. 234–235:
«В организации стиха можно проследить непрерывно действующую тенденцию к столкновению, конфликту, борьбе различных конструктивных принципов…
Думается, что, глядя на стихи с этой точки зрения, мы… неизбежно придем у выводу о том, что любое явление структуры художественного текста есть явление смысла…
Художественный эффект создается именно фактом борьбы. Полная победа той или иной тенденции, незыблемость значений, существовавших… до возникновения данного текста, и полное их разрушение, позволяющее безо всякого сопротивления создавать любые текстовые комбинации, в равной мере противопоказаны искусству…»
И дальше идет упоминавшийся пример с Державиным.
Казалось бы, все! Лотман «сдался» Выготскому с его борьбой противоречивых элементов, как признаком художественности.
Но нет. Он и тут выскользнул и переключил нас на «энергию стиха», отвлеченную от художественного смысла конкретного произведения.
Все–таки он враг толкователей.
И они, – изредка и втайне призываемые, а чаще затурканные и по сей день, – прозябают.
*
Ну а я оказался особенным даже среди редкостных ныне толкователей…
Ибо я считаю, что творцу художественный смысл в словах обычной речи не дан в принципе (от волнения хотя бы), поэтому он выражает его противоположностями. («Прозаизмы – поэтизмы», “«расподобление» языка – «уподобление» картине действительности», «явление – ожидание», «закономерность – ее разрушение» – Лотман дал десятки примеров противоположностей – и сознательных, и бессознательных). И творец выражается – нечего стесняться – сравнительно длинно, и избыточно (в каждом столкновении противоположностей произведения сквозит одна и та же, одна и та же идея целого), и можно даже по сохранившемуся всего лишь фрагменту реконструировать эту идею целого. И воздействует произведение на нас и непосредственно (как жизнь), и непринужденно (как выдумка, т. е. не как жизнь), и на наше сознание воздействует, и на наше подсознание. И мы всем своим существом соотносим свое сокровенное с идеалом автора, и тем самым человечество нас – каждого персонально – испытывает. Но только чаще всего лучше это получается с помощью интерпретатора, который в качестве сотворца выдаст вашему сознанию, – одному только сознанию! – кратко, словами обычной речи открывшийся ему художественный смысл вещи, созданной когда–то автором в силу вдохновения, то есть вырвавшегося проявления авторского идеала, который автор иначе – словами обычной речи – не мог выразить, как гениален он ни был.
Акцентируя результат столкновения противоположностей – назовем это «зачем так» – (в пику лотмановскому «как» и в пику «что» гонимых им примитивных интерпретаторов), я оказался, похоже, в одиночестве на ниве синтезирующего анализа в интерпретационной критике. И принялся пахать целину. И не получал урожая признания при климате, какой застал. И стал издавать книги крошечными тиражами, для библиотек, для будущего климата. Ну и читал доклады терпимой Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых.
*
Когда я увидел, сколь мало влияния оказывают мои доклады на немногочисленных посетителей заседаний этой комиссии, я понял, что и с этими выступлениями я должен обратиться к будущему: издать книгой и подарить ее библиотекам.
Я собрал те доклады, что не перекрываются изданными книгами, и вот они перед вами, расположенные в порядке зачитывания, если были произнесены на заседаниях, а затем незачитанные – в порядке их написания.
Три исключения.
Одно. Когда я уточнил для себя художественный смысл «Капитанской дочки» и «Полтавы» и поместил это в данный сборник, стало ясно, что надо сюда вставить и то, относительно чего произошло уточнение – газетную статью.
Другое. В конце я вставил не доклад. Очень уж он пришелся под стать всему содержанию книги.
Третье. То же – с отрывком из одного частного письма.
Те возражения, которые я получил после зачитывания докладов, если они, на мой взгляд, хоть чего–то стоили и были сколько–то обоснованы и логичны, помещены в конце соответствующего доклада, но не дословно, а как они мне запомнились. Я не считал целесообразным приводить здесь мои ответы, зато возражения мне, по–моему, показательны.
Одесса. Зима–весна 2002 г.






![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)