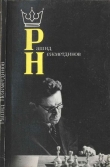Текст книги "О сколько нам открытий чудных.."
Автор книги: Соломон Воложин
Жанры:
Эссе, очерк, этюд, набросок
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
О художественном смысле «Тазита» А. С. Пушкина и других его произведений того же времени написания
Верный тому следствию из известного принципа Выготского о катарсисе, что катарсис, вызванный литературным творением, т. е. его художественный смысл, не может быть процитирован [2, 16], я раз вознамерился найти у Пушкина такое произведение, в котором бы воспевался, так сказать, низкий идеал, о котором Пушкин впрямую написал в 1830‑м, уже осознав его как уходящий (потому–то и можно его процитировать):
Мой идеал теперь – хозяйка,
Мои желания – покой,
Да щей горшок, да сам большой.
И еще:
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой, я мещанин.
Искать надо было после разочарования Пушкиным в Николае I и перед началом нового очарования – утопией о всеобщем консенсусе в сословном обществе, т. е. где–то перед 1830‑м годом [2, 19]. И лучшей иллюстрацией такого низкого идеала, идеала частной жизни, без залетов, идеала, достижимого здесь и сейчас, является, по–моему, стихотворение 1829 года «Делибаш»:
Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.
Делибаш! не суйся клаве,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.
Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Правда ж – сшибаются тут не только отчаянные воины, но и трагический сюжет – с легкомысленным пританцовывающим ритмом стихотворения?
В чем дело? – А в том, что Пушкин здесь не чтит ни героизма, ни насмешки над ним.
Если предположить, что Пушкин и в жизни мог заигрываться: строить ее на противоречиях – как художественное произведение, – если поверить свидетелям, что и в жизни в то время он нарывался на смерть, лез под турецкие пули, будучи в армии в ее арзрумском походе, – то ясно, что в последней глубине души его руководило такими поступками. – Прямо противоположное: желание устроить свое семейное гнездышко с Натальей Гончаровой, матерью которой его предложение дочери руки и сердца в том, 1829, году не было принято, хотя и не было отклонено, отчего Пушкин и рванул куда глаза глядят – подальше, может, и вон из жизни.
Соответственно я предлагаю понимать и «Монастырь на Казбеке»:
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
А правда! Что мешало путешествующему поэту действительно уйти от суеты сует мира? И в стихотворении тоже нет никаких указаний на связанность чем–то лирического героя. Он свободен, а хочет… свободы. Это ли не столкновение противоречий? И не предсказанный ли катарсис вызывает так акцентированное прочтение? Именно «семьею гор» хочет быть стеснен Пушкин, ущельем…
А если взглянуть на вольный Терек, то мечтается ему, как тот пленен обвалом:
Обвал
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могучий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
[Вы не слышите блаженного стона в этом восклицании?]
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега…
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
И долго прорванный обвал…
[А прорван он был, как окажется далее, снизу, образовав снежный мост над рекой.]
И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал,
И пылью вод,
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.
И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где нынче мчится лишь Эол [бог ветров],
Небес жилец.
И эта игра воображения лирического «я», это столкновение несуществующего с существующим говорят нам, что Пушкин не такой уж поклонник свободы и воли был в 1829 году. Он – здесь – НАД. Он здесь полностью индифферентен. Вот здесь–то уж точно <<он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине>> [1, 259]. Вот здесь–то уж самый низ Синусоиды идеалов, точка ее перегиба, где движение этой кривой никуда: ни вверх, ни вниз – не направлено.
С этой точки зрения характерно, что Пушкин перечеркнул в черновике финал «Кавказа»:
Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят…
Сюжет этого всем памятного стихотворения составляет то, что открывается взгляду стоящего на Кавказском хребте лирического героя, взгляду, скользящему все ниже и ниже. И чем ниже, тем сперва все более радостное, а потом – все более тягостное настроение им овладевает. Если «Арагва в тенистых брегах» это еще хорошо, то «нищий наездник таится в ущельи» уже плохо. И далее идет нагнетание отрицательной ауры: «в свирепом весельи», «зверь молодой, / Завидевший пищу из клетки железной», «вражде бесполезной», «голодной волной / Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады: / Теснят его грозно немые громады». Лирического героя не устраивает жизнеустройство у людей. Его не устраивает и парение над этим всем, как ни сладострастно он все это описывает. Он бы хотел чего–то среднего, что мельком прошло под взглядом сверху вниз, как что–то незначительное. Он бы хотел жизнеустройства не такого контрастного, как устроены горы. «Кавказ» рожден нарождающимся новым идеалом – не горам аналогичным. Столкновение прекрасного в горном пейзаже с ужасностями горской жизни дает такой катарсис: да – аналогии бесперепадного, как бы равнинного мироустройства. В Пушкине бессознательно рождается идеал консенсуса в человечестве.
<<Напечатать стихи, выражающие сочувствие Пушкина народам Кавказа, угнетаемым империалистической политикой Николая I, конечно, было бы невозможно, и Пушкин перечеркнул стихи «Так буйную вольность законы теснят» еще в черновом варианте, даже не дописав строфы>> [4, 875], – написано в примечаниях к стихотворению. Но, думаю, дело не в задушенном вольномыслии Пушкина. Дело в том, что тогда он еще не хотел никаких грандиозностей. Он хотел устроить свою частную жизнь. А общественный консенсус это уже некая новая грандиозность. Она, если и забрезжила тогда, то – как невозможность без общественного консенсуса даже такой малости, как идеал частной жизни осуществить.
Эта мысль мне и открылась в тогдашней же поэме «Тазит». Открылась сразу же по ее прочтении (когда я принялся ее читать, помня свой поиск примеров выражения Пушкиным своего низкого идеала).
Действительно, смотрите: человек не хочет добывать средства к существованию путем убийств, не хочет находить в убийствах эстетическое и нравственное удовлетворение, хочет жениться и трудиться, быть тихим и маленьким и в том чувствовать, что он сам большой. И все. Никаких огромностей и экстрем. И этакая малость недостижима, если окружение живет экстремами.
Конечно же, я с большой симпатией прочел у Олега Шмелева его многочисленные выкладки о том, что Пушкин во многом себя имел в виду под именем Тазита [5].
И, наоборот, ученнейшие доказательства [3] колоссальной этнографической осведомленности Пушкина и указания, что и в действительности в Кабарде его времени началось расслоение горцев на мирных и немирных, на принимающих европейскую цивилизацию и не принимающих, мне кажутся неприменимыми в качестве вдохновляющего момента для создания «Тазита». Судите сами. Ведь тот факт, что в Кабарде было принято отдавать младшего сына на воспитание в Чечню, как более устойчивую в противоборстве России и более верную исламу, не объясняет, как же получился обратный эффект с героем поэмы. В чем дело?
А в том, что Пушкину нужно было столкнуть этнографическую невероятность с этнографической точностью, чтобы «сказать», что не в этносе дело, а в общечеловеческой коллизии: необходим консенсус в большом масштабе, чтоб достигнуть блага даже в масштабе малом.
А тот факт, что Пушкин изображал в чем–то себя в Тазите, от столкновения с другим фактом, что это все же изображен горский юноша, – это столкновение работает точно на такой же катарсис: не важно, кто это, важно, что для кого угодно личное счастье требует счастья общественного в качестве своей предпосылки. (Очень немодная формула для нынешнего нашего времени, времени массового спуска вниз по Синусоиде идеалов. Но что поделаешь: Пушкин в 1829 году начал новый подъем по этой Синусоиде, подъем с самого ее низа.)
Хочу согласиться с Олегом Шмелевым, когда он объясняет, почему Пушкин, всегда писавший для себя, но печатавший для денег, не кончил «Тазита», переписал его набело и никогда не опубликовал, хотя из денежной нужды никогда не вылезал: предложение было Гончаровой принято, трагический конец поэмы, на который настроился поэт, в жизни не состоялся, а искушать судьбу публикацией явно трагического отрывка, обладающего законченностью даже и в оборванной форме, когда он сам является во многом прототипом, суеверный Пушкин не хотел. Пушкин – Тазит нужен как элемент, противоречащий Тазиту–кабардинцу. Без противоречий нет катарсиса. А без катарсиса – художественного смысла. А только о последнем–то я и забочусь.
Можно мне попенять, что я отступил от хронологии, располагая пушкинские произведения вдоль своей логико–временно`й синусоиды. Мол, «Кавказ» написан раньше «Обвала», «Делибаша» и «Монастыря на Казбеке», а я все ж именно в «Кавказе» увидел первый намек на отход от низкого идеала частной жизни в проблеске нового, повышенного, так сказать, идеала: бесперепадного, как бы равнинного мироустройства.
Что ж. Правда. Но ведь рождение произведения искусства управляется психологией человеческой. А в ней есть такие явления как предчувствия, предвидения, воспоминания. Они создают настроения. Под настроение сочиняется стихотворение. И – настроения колеблются тоже по синусоидальному закону. Соответственно – и художественные смыслы почти в одно время созданных произведений. Это как бы маленькие синусоидки, которые можно различить в линии синусоиды побольше. Да еще на перегибе линии Синусоиды идеалов близко лежащие участки так мало отличаются по своей направленности вверх, вниз или ни вверх, ни вниз… Так что немудрено, если будущая тенденция подъема идеала вдруг проявится на короткое время среди стихов, вдохновленных идеалом низким. И пусть это не кажется анахронизмом.
Как факт – написанные чуть ранее, чем «Кавказ», стихи «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Что значат эти пронзительные, парадоксальные столкновения мыслей о смерти с местами и моментами, самыми неподходящими для таких мыслей: с улицами шумными, с многолюдным храмом, с безумным пиром юношей, с, казалось бы, вечным дубом, с минутой у колыбели младенца? Что значит это словно зеркальное прежним всем – столкновение мыслей о вечной юности и красоте с местом опять неподходящим для таких мыслей – со склепом фамильным? И что значит само столкновение этих парадоксальных столкновений? – А то значит, что ежеминутно и мучительно жаль, когда невозможно удовлетворить такое для дворянина казалось бы простое стремление, как продолжить свой род в законном браке с достойной женщиной.
В 1829 году доминирующим у Пушкина был идеал низкий, идеал частной жизни. И лишь в конце года он начал плавно и незаметно переходить к идеалу консенсуса в общественной жизни.
Литература
1. Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985.
2. Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы… Одесса, 1999.
3. Турчанинов Г. К изучению поэмы Пушкина «Тазит». В журн. Русская литература, 1962, № 1.
4. Цявловский М. А., Петров С. М. Комментарии. В кн. А. С. Пушкин. Сочинения. М., 1949.
5. Шмелев О. Странная поэма Пушкина. Попытка нового прочтения. В журн. Огонек, 1970, №№ 26, 27.
Написано летом 2001 г.
Не зачитано
Штрихи к панораме творчества Пушкина в 1831 году
Лишь теория решает, что мы ухитряемся наблюдать.
А. Эйнштейн
Я слышал замечательную иллюстрацию одного недостатка такого психологического явления, как стереотип в восприятии. «Почему, – спрашивал говорящий, – люди сотни лет как бы не замечали, что мачты кораблей скрываются за горизонтом так, будто земля не ровная, как утверждали мифы, а круглая?» – «А потому, – отвечал он, – что человек не видит то, что не укладывается в его стереотип. Сказано мне, что земля плоская и покоится на трех слонах. – Все. Я ее округлость в упор не увижу».
То же было со мной по прочтении пушкинского «Рославлева». Сказано мне еще в школе, что в Отечественную войну 1812 года был всеобщий патриотический подъем в России, который и определил ее победу над Наполеоном; что само название – «Отечественная» (с большой буквы) это патриотическое единство отражает. – Все. Я не вижу, что этого единства нет у Пушкина в «Рославлеве».
Более того. Читаю в комментариях об этой вещи: <<Поводом к написанию «Рославлева» явился роман М. Н. Загоскина «Рославлев, или русские в 1812 году». Роман этот возмутил Пушкина своим квазипатриотизмом>> [8, 906]. И это тоже не произвело на меня впечатление.
И только прямые слова Слюсаря: <<Единение нации во время Отечественной войны – едва ли не такая же утопия… Не совместными усилиями всех сословий, а героической самоотверженностью народа и лучших представителей дворянства была спасена Россия в 1812 году – так выглядит ситуация в пушкинском «Рославлеве»>> [7, 166], – только эти прямые слова открыли мне глаза на прочитанное.
Действительно, перечитываю:
«Все говорили о близкой войне, и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастию, заступники отечества были немного простовты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого Моста [я понимаю, что на этой московской улице торговали французскими товарами] и тому подобным».
Тут даже патриоты жалки, не говоря уж о космополитах.
«Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко».
Впечатление такое, что <<лучшими представителями дворянства>>, на которых могла надеяться Россия перед войной, были… только одна Полина, подруга рассказчицы, от имени которой идет все повествование в пушкинском «Рославлеве». Даже столь толково описавшая ситуацию рассказчица не входит в число <<лучших представителей>>. Это задним числом, много лет спустя, она стала такая толковая. А тогда, перед войной, она, шестнадцатилетняя и легкомысленная, была, как все:
“ «Помилуй, – сказала я однажды [Полине]: – охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике, женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта». ”
Само описание этой девицей появления M-me de Staёl в Москве перед войной, кажется, главным образом для того и существует, чтоб иллюстрировать пословицу: со стороны – виднее. Француженка резко разделяет Россию на народ и высший свет. И спасение от Наполеона заставляет видеть в народе:
«Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который, из угождения к иностранке, вздумал было смеяться над русскими бородами [вопреки обычаю, введенному Петром I, сохранившимися преимущественно у крестьян и купцов]: «Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову».»
А солидарная с M-me de Staёl Полина представляется исключением в высшем свете.
Расклад сил, конечно, видится нелепым. Так зато и рассказчик – достаточно неуважаемое лицо: девушка шестнадцати лет. И я бы мог себя простить за свое невидение отсутствия всеобщего патриотического подъема в пушкинском «Рославлеве».
Но дело сложнее. На момент рассказывания Пушкин придал рассказчице собственную пронзительность ума и слога. И нет мне прощения.
И высшее общество непосредственно во время войны описано как не на много лучшее, чем перед войной. Цитировать не буду. Упомяну лишь, что даже граф Мамонов, продавший свое имение и, понять надо, вооруживший и экипировавший целый полк на вырученные деньги, проходит в повествовании девицы лишь как произнесший речь о своем пожертвовании и как, по мнению маменек, «уже не такой завидный жених», а восторг от него всех девиц проходит как увлечение новой модой, модой на патриотизм. И даже брат повествовательницы (безымянный, кстати), записавшийся в мамоновский полк, проходит – в тогдашнем восприятии девицы – больше как легкомысленный, пустой человек. И больше не видно истинных патриотов в поле зрения повествовательницы. И я мог бы и без Слюсаря это увидеть.
Зато когда Слюсарь меня встряхнул, я вспомнил, что ведь почти никто и никогда не пользуется противочувствиями Выготскго. И Слюсарь – вот – не пользуется.
И я понял, что двойной взгляд повествовательницы: легкомысленный («тогда») и умудренный («теперь») – толкает читателя на двойное восприятие. Согласно одному – легкомысленной повествовательнице не веришь и понимаешь российское общество консолидированным по большому счету. Так «до Слюсаря» читал пушкинского «Рославлева» я. Согласно восприятию другому (Слюсаря) консолидации общества по большому счету нет. И мы оба были не правы.
А правда, художественный смысл, как всегда, есть как бы геометрическая сумма разнонаправленных ви`дений. В чем же тут художественный смысл?
Чтоб не ошибиться, надо вспомнить, когда писался Пушкиным «Рославлев». В 1831 году. Через год после болдинской осени 1830 года, когда у него забрезжил идеал консенсуса в сословном обществе и отразился в «Повестях Белкина», в «Моцарте и Сальери», о чем я уже неоднократно докладывал и писал [1, 50; 3, 84]. Мог ли этот новый идеал за год исчезнуть? Вряд ли.
И тогда пронзает мысль, что у Пушкина повторяется логика творческих замыслов. В 1829 году, исповедуя идеал Дома, семьи, он приходит к мысли (в «Тазите», я докладывал), что недостижимость даже такого достижимого, казалось бы, идеала, как семейный, связана с общественной неустроенностью и требует идеала нового – общественного консенсуса, чтоб мог осуществиться идеал семейный. И вот теперь, в 1831 году, когда Европа грозит России новой войной (за Польшу, силой не выпускаемую Россией из состава империи), разве не ясно становится, что идеал консенсуса надо расширить до консенсуса международного.
Вот нейтральность и враждебность к войне с Францией, одновременно проявляющиеся в двойном ви`дении повествовательницы, ее космополитизм и патриотизм и призваны – чем? – идеалом международного консенсуса.
«Рославлев» не закончен Пушкиным. Но ясно, что судьба Полины в нем должна стать трагической:
«Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести… Он… возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени… Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги… Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель…»
Далее идет французский текст и к нему сноска Пушкина:
«Кажется, слова Шатобриана. – Примеч. изд. Перевод: «Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах».»
Что должно было произойти? Даже по незаконченному тексту произведения чувствуется, что Полина и Синекур, пленный французский офицер, должны полюбить друг друга, и от этого должна быть беда. Трагедия же всегда такова, что когда герой умирает, зритель его правду уносит в своей душе. И правда эта в том, видно, должна была состоять, что идеал любви между представителями двух народов выше тех политических идеалов, которые делают эти народы врагами. И, значит, необходим консенсус международный.
Что–то такое чувствуется и в стихотворениях того времени.
Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой…
Все спит кругом: одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.
Под ними спит сей властелин, [Кутузов]
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов.
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал – и спас…
Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! на мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!
Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм – в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон…
Разве не ясно, что тут столкновение страстного призыва с абсолютной его бесполезностью рождает катарсис грусти о самой необходимости этого призыва. Нет того подъема духа, какой был в 1812 году в справедливой войне против захватчика. Сейчас идет война сомнительной справедливости: восстала за свою независимость Польша. Россия сама, как захватчик. И о чем грусть? О том, что нет согласия между родичами–славянами или о судьбе, как пишут в комментариях: <<польской компании в связи с нерешительными действиями командовавшего русской армией Дибича>> [8, 877] на фоне враждебности Европы? – Мне кажется, – помня пушкинский того времени идеал консенсуса, – что грусть – не из–за Дибича и угроз из Франции, а грусть – из–за отсутствия консенсуса.
Это в 1821 году Пушкин (по Лотману [6, 76]) мог вести с Орловым неантагонистические споры и сдать своего тогдашнего конька – вечный мир аббата Сен – Пьера (в применении к тому времени – умиротворение Европы Венским конгрессом реакционных правительств), – сдать этого конька в обмен на конька Орлова (к вечному миру – через кровь революций). Это в 1821 году, дразня Орлова, Пушкин мог притворяться, что он <<убежден, что правительства, совершенствуясь [а не через революцию], постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых… будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия>> [4, 75]. Такой розыгрыш продекабриста Орлова мог быть у Пушкина, повторяю, только в 1821 году.
С тех пор 10 лет прошло. Пушкин от продекабризма давно отказался и прежний розыгрыш вполне мог стать теперь устоявшимся убеждением. Против истории не попрешь. А она такова, что мир делят между собой несколько империй.
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Вопрос риторический, на какой не нужен ответ, ибо его все знают. Сверхдержавы поделили – и содержат более или менее в мире этот мир.
И хоть Пушкин к 1831‑му году успел после 1821 года уже не только поверить новому русскому императору, но и разочароваться в нем, но зато от идеала эволюции он еще не отказался.
Поэтому революция во Франции 1830‑го года вполне могла для него в 1831‑м быть делом <<людей с предприимчивым духом>>, делом, затеянным <<нарушителями общественного спокойствия>>. И угрозы этих людей за Польшу, естественно, очень его злили. Больше, чем сама, своя все же, взбунтовавшаяся Польша:
Борьбы отчаянной отвага…
«Отвага» – слово с позитивной аурой. Отважной Польше в «Клеветникам России» Пушкин отдает–таки должное.
А вот люди во Франции, пришедшие в результате революции 1830 года к власти, вряд ли к власти бы пришли, не внеси свой бесценный вклад Россия в устранение из Франции Бонапарта. Так не националистический ли романо–славянский конфликт назревал в 1831 году?
И ненавидите вы нас…
За что ж?
Пушкин в «Клеветникам России» обижен, что <<того и гляди навяжется на нас Европа>>, во многом Россией спасенная от наполеоновского порабощения Европа.
Какой идеал должен был инициировать обиду? – Идеал консенсуса великих народов.
И конечно, он не заявлен «в лоб».
И тот же идеал можно увидеть и в «Бородинской годовщине». Здесь – упоение русской победой и русским благородством и силой. Чего это залог? – Доброго мира. А добрый мир – залог идеализируемого консенсуса.
Здесь продолжают прорастать зерна, по Пушкину, великого жребия России, превратившегося у Гоголя и Достоевского в ее мессианскую миссию в мире, лелеемую до сих пор, например, Горбачевым, чей фонд ищет российских амортизаторов и компенсаторов к вредным сторонам глобализации.
Речь – о национальной идее (если мыслимо говорить о ней как о чем–то присущем нации, словно лицо – человеку).
Я думаю, о начале осознавания Россией своей национальной идеи можно думать и в связи с такими словами Слюсаря:
<<Русская проза обрела зрелость, отобразив поворот в отношениях между человеком и миром в связи с крушением патриархальности. Этот исторический процесс был запечатлен с огромной художественной силой прежде всего в творчестве А. Пушкина и Н. Гоголя>> [7, 3]
Слюсарь не раскрыл, в каком смысле нужно понимать патриархальность. Ясно, что – не в историческом, относящим патриархальность к концу первобытно–общинного строя. Ясно, что в переносном смысле нужно тут патриархальность понимать: как подчиненность старшему. И тогда крушение патриархальности может в принципе выглядеть двояко: с точки зрения старшего и с точки зрения младшего. Думаю, Слюсарь имел в виду второе, связанное со становлением личности этого младшего.
И тут я хочу высказать мысль, которую Слюсарь вероятнее всего не разделил бы: что выходящим из–под культурного патроната цивилизованного Запада младшим в «Рославлеве» является Россия.
Этот процесс осознавания русскими своего нового места в мире показан и у менее даровитых писателей, чем Пушкин. Вот тот же Загоскин, спровоцировавший Пушкина на замах создать своего «Рославлева»:
<<…по мнению моему, история просвещения всех народов разделяется на три эпохи. В первую, то есть эпоху варварства, мы не только чуждаемся всех иностранцев, но даже презираем их. Иноземец, в глазах наших, почти не человек; он должен считать за милость, если мы дозволяем ему жить между нами и обогащать нас своими познаниями. Мало–помалу, привыкая думать, что эти пришельцы созданы так же, как и мы, по образу и по подобию Божию, мы постепенно доходим до того, что начинаем перенимать не только их познания, но даже и обычаи; и тогда наступает для нас вторая эпоха. Презрение к иностранцам превращается в безусловное уважение; мы видим в каждом из них своего учителя и наставника; все чужеземное кажется нам прекрасным, все свое – дурным. Мы думаем, что только одно рабское подражание может нас сблизить с просвещенными народами, и если в это время между нас родится гений, то не мы, а разве иностранцы отдадут ему справедливость: это эпоха полупросвещения. Наконец, век скороспелок и обезьянства проходит. Плод многих годов, бесчисленных опытов – прекрасный плод не награжденных ни славою, ни почестьми бескорыстных трудов великих гениев – созревает; истинное просвещение разливается по всей стране; мы не презираем и не боготворим иностранцев; мы сравнялись с ними; не желаем уже знать кое–как все, а стараемся изучить хорошо то, что знаем; народный характер и физиономия образуются, мы начинаем любить свой язык, уважать отечественные таланты и дорожить своей национальной славою. Это третья и последняя эпоха народного просвещения. Для большей части русских первая, кажется, миновалась; но последняя, по крайней мере для многих, еще не наступила >> [5, 378 – 379].
Но с этим пафосом равенства русских среди европейцев в начале XIX века, наверно, не согласился Пушкин. И потому, по большому счету, ему захотелось конфликтовать с Загоскиным.
Да, Пушкин – несравненно больший мастер слова. Те жалкие проявления патриотического варварства и космополитского обезьянства в высшем свете перед Отечественной войной, что у Загоскина занимают многие десятки страниц, у Пушкина заняли процитированный абзац. Назревающая любовь настоящей и полноценной патриотки и умницы, космополитки пушкинской Полины к тоже умнице, патриоту и комополиту пушкинскому французу–пленнику Синекуру – потенциально гораздо эффектнее (потому что правдивее, чем невероятные ситуации вражды–дружбы между воюющими русскими и французскими офицерами у Загоскина). А какие живые люди у Пушкина, и какие книжные – у Загоскина. В общем, что говорить. Пушкин дает сто очков вперед Загоскину. Но.
Но соперничать в мастерстве на базе фабулы, заимствованной все–таки, и – у кого? – своего современника… – Это было ниже достоинства Пушкина.
И – он бросил своего «Рославлева».
Скажете: «Он же сам опубликовал начало.» – «Да, – соглашусь я. – Он вечно нуждался в деньгах и все, что можно, публиковал. Но что он опубликовал? Он опубликовал сцену с мадам де Сталь, составляющую начало своего «Рославлева». Она не имела никакого пересечения с романом Загоскина и была совершенно оригинальна».
«А отчего ж, по–вашему, Пушкин все же рванулся было выступить против Загоскина?» – спросите.
Не из–за того, что <<роман этот возмутил Пушкина своим квазипатриотизмом>>, как утверждается в комментариях (хотя и из–за того – тоже). Не из–за того, что он <<согласился с мнением Вяземского о том, что в «Рославлеве» Загоскина «Нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении»>> [8, 877] (хотя и из–за того – тоже).
Разные концепции России были у Загоскина и Пушкина. У Загоскина – что Россия стала равной великим европейским странам. У Пушкина же – что у России «высокий жребий». Это, пожалуй, выше, чем у других великих. При всем своем могуществе и именно вследствие него она, Россия, – проводник доброты и залог мира в мире, международного консенсуса. Во всяком случае, призвана к этому.
Стихотворения 1831‑го года заканчиваются сочинением, посвященным юбилею: 20-летию со дня открытия лицея. Уж куда, казалось бы, консенсусная тема, и где там, – если тогда конснсус же и был идеалом Пушкина, – увидеть в этом стихотворении нечто, не «в лоб» сказанное.
Однако вчитайтесь.
Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину…
Почему? – Из текста, воспринятого «в лоб» видно, что свою общность лицеисты стали видеть в том, что это общность смертников. Им только–только перевалило за тридцать лет, а шести уже нет в живых. Этому обстоятельству так или иначе посвящены пять из шести куплетов. И естественно, что лицеистам не хочется, раз так, встречаться. Не хочется и переживать свою, живых, общность с мертвецами. Такого консенсуса как–то не хочется.






![Книга Писательницы пушкинской поры [историко-литературные очерки] автора Михаил Файнштейн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisatelnicy-pushkinskoy-pory-istoriko-literaturnye-ocherki-195320.jpg)