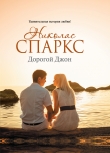Текст книги "Милорд (СИ)"
Автор книги: София Баюн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
– Слово «пративаистивствиный» достаточно интересное? – флегматично спросила Ника. Он решил доставить ей удовольствие и поморщился, не пытаясь сдерживаться.
И Ника, словно в благодарность, замолчала.
Лера растерянно чертила круги на скатерти вокруг чашки.
– Ксюша плохо учится, – пробормотала она. – Я пыталась с ней заниматься, но мне терпения не хватало, туго соображает… Вик, кому она понадобилась? Может, это правда кто-то из твоих клиентов?
– А откуда им знать про венок? – резонно заметил он. – Эта, – он кивнул в сторону спальни, – сказала хоть что-то полезное?
– Нет, – покачала головой Лера. – Они вообще с Ксюшей похожи, обе… не здесь. Я все думаю, может, они в каких-то своих мирах живут, где им хорошо, а здесь просто их тела сидят?..
«Видимо, это у вас семейное. Помнится, ты в детстве все норовил этим же заняться», – ядовито отозвался Мартин, успев подумать, что возраст плохо сказывается на характере.
– Ничего! – сообщила Ника, звонко захлопнув дневник. – До последней страницы – сплошные страдания с привкусом детской жвачки. Неразделенная любовь, попытки понять, чего она от тебя хочет и списки барахла, которое она бы купила, будь у нее деньги.
Ее слова отозвались легким зудом в висках, но он утих так быстро, что Виктор не успел сосредоточиться. Удерживать внимание становилось все труднее – напряжение постепенно отпускало, растворялось в сером кухонном свете, зато возвращалась боль в простуженной спине, а веки словно превратились в наждачку. Два часа сна в самолете напоминали камешек, брошенный в пропасть – не заполнить, даже не услышать, как он коснулся дна.
– Утром пойду в школу, – сказал он, удивившись абсурдности прозвучавших слов. – Спрошу, что там за история с котенком… Постели ей, – он указал на Нику, не поднимая на нее глаз, – где хочешь, только не в комнате… где мать. Хочешь – у себя, хочешь – на полу на кухне, только чтобы в моей спальне.
– Поссорились? – без малейшего интереса или сочувствия спросила Лера.
– Не сошлись во взглядах на интерьер. Спокойной ночи.
Он встал, и кухня вздрогнула, на миг потеряла очертания – пришлось схватиться за край стола чтобы не упасть.
Сквозь всколыхнувшийся в ушах шум Виктор смутно расслышал короткое ругательство Мартина и злой звон бьющегося фарфора. Когда он открыл глаза, на темном полу разметались брызгами белоснежные осколки чашки.
И почему-то это показалось правильным.
…
Сон был дурной и вязкий, забивающий нос и горло. В нем не было образов, людей или изуродованных сознанием воспоминаний, только постоянное чувство обреченности и тоски.
Мартин наблюдал за бредящим воспитанником, сидя в проеме. Манжета блестела свежей чернотой – он не выдержал, попытался сделать сон спокойным. Убеждал себя, что так нужно для спасения Оксаны, что выспавшимся Виктор не так опасен, но в глубине души знал, почему это сделал, заработав еще десяток седых волос.
Но ничего не вышло. Мартин не знал, почему на этот раз его жертвы оказалось недостаточно. Может, Мари была права, и кровь его – холодная и горькая – действительно теряла силу.
В спальне висели часы, черный круг с белыми рисками. Словно светлые обои просачивались в невидимые желобки, на которые по очереди указывали безжалостные стрелки.
И может их едва слышное назойливое тиканье не давало Виктору спать спокойно.
…
Когда Виктор проснулся, в комнате было темно и пахло сырым асфальтом и водой – шел дождь. Тополь, растущий за окном, касался стекла шуршащими ветвями – словно пустая сеть, дрожащая в черной воде.
Лера лежала на краю кровати, там, где обычно спала Ника, и смотрела ему прямо в глаза.
– Не спится? – хрипло спросил он. Она только покачала головой.
Несколько секунд они словно впервые разглядывали друг друга – в темноте терялись их различия, и Виктору казалось, что он смотрит на собственное лицо. Женское, но беспощадно схожее, как отражение.
– Мы ее потеряли, – прошептала Лера, разбив морок. – Нечестно, Вик. Не получилось семьи – сначала ты меня забыл, а теперь ее забрали… А ведь я и не старалась чтобы получилась.
– Я тебя никогда не забывал.
– Ненавижу когда ты оправдываешься.
Он придвинулся ближе, накинул ей на плечи одеяло. Она с готовностью прижалась к нему, обняла холодными руками за шею и замерла. Виктор закрыл глаза и приготовился защищаться, но Мартин ушел. Не просто спал и не видел – ушел, предоставив ему право выбирать, что делать дальше. Стыд неприятно кольнул где-то под горлом – он вечно путал порядочность Мартина с ханжеством – но тут же погас.
– Я ее найду. Обещаю, все будет хорошо…
Холодная кожа, теплая хлопковая ткань, мягкие волосы с жесткими концами – до противоречий, их которых она состояла можно было дотронуться. И это завораживало и от чего-то казалось правильным.
– Ты скоро снова меня бросишь, – она словно не услышала последних слов. – Я поняла, как тебя увидела, ты как будто… уже на краю стоишь… глаза больные, и…
– Я там… девушку убил, – признался Виктор. – В том театре «Дожди» ставят, я поперся смотреть… как будто не знал, чем закончится. Они добавили в финал сцену с Мари… Я готов был на сцене зарезать девчонку, которая ее играла, но она меня увидела и бросилась бежать… на парковке догнал. Хотел бы не догонять.
– Зарезал – и черт с ней, – выдохнула Лера ему в плечо. – Подумаешь, какая-то девчонка из паршивого театра…
– Я правда хотел бы… чтобы она сбежала. Не потому что до сих пор не знаю, куда труп дел и его могут найти. А потом… потом я хотел убить Нику.
– Ты каждый день хочешь ее убить.
– Нет, я бы правда… убил. Мартин… – Виктор осекся, но потом все же продолжил. – Спас. Ее спас, а меня… знаешь, мне казалось, такого больше не повторится. Как с Дарой.
– С Дарой ты был прав. Почему ты не скажешь своему Мартину правду? Если он действительно такой хороший – понял бы, – ее шепот, шершавый и злой, оседал на коже, словно примерзая.
– Пока я не убил девочку на парковке – еще на что-то надеялся. Я все сделал, но до последнего думал, что Мартин найдет какой-то другой выход. Спасет обоих. Но теперь…
Лера зажала ему рот. Ладонь у нее была горячая и едва заметно пахла лавандовым мылом. Замерла, останавливая поток слов и мыслей, заглушая дыханием назойливый ход часов. Виктор, прижав ее руку кончиками пальцев, коснулся губами ее ладони и закрыл глаза, проваливаясь в сон.
Ему снилась разрушенная беседка, окруженная засохшими розовыми кустами, и сотни мертвых шмелей, пришпиленных к белым потрескавшимся доскам.
Интермедия
Другие люди
Если ты ещё не умер, читая эти строки, закрой глаза и увидишь, как я чернею под веками.
(Билл Нотт)
В подъезде совершенно неуместно пахло жареной рыбой и дождевой сыростью. Даже цветы в букете, казалось, пахли так же. Виктор стоял, вытягивая белые – георгины, астры и чайные розы. Правильные, строгие цветы, почему-то не приносившие облегчения.
Рита за его спиной молчала, но он слышал ее сбивчивое дыхание. Она боялась того, что должно было произойти, а он никак не мог найти в себе ни сочувствия, ни страха.
О чем думает Мартин? Что скажет Риша? Что сделает Мари, когда откроет дверь? Что делать, если она закричит раньше, чем он успеет ее заткнуть?
Виктор старался не думать об этом. И о том, что никого, кроме кур, никогда не убивал. И никак не мог прогнать видение – Мартин остервенело отмывает от крови руки в ведре ледяной воды. Вода розовая, пахнет железом, пальцы ломит от холода, руки давно чистые, но Мартин продолжает смывать видимые только ему пятна.
Он протянул руку, чтобы еще раз позвонить, когда дверь открылась.
В первую секунду ему показалось, что он ошибся. Женщина на пороге не могла, не имела права оказаться Мари – Мари никогда не носила пушистых розовых халатов и полосатых носков.
– Китти и ла-а-апочка Виконт, – протянула она. – Заходите.
Виктор обернулся. Рита выглядела такой же растерянной. Она нервно теребила фиалку, приколотую к воротнику, и лепестки сыпались прямо на грязный пол.
– Холодно, – поторопила Мари. – Или хочешь прямо тут? Если пришел просто поскандалить – лучше здесь, будут зрители.
– Нет, – хрипло ответил он, удивившись звуку собственного голоса.
Из открытой двери в подъезд лился приторный туман – смесь дыма фруктового кальянного табака и конопли.
– А я сразу поняла, что ты злой, – Мари стояла, слегка покачиваясь, и зрачки ее были настолько расширены, что глаза казались черными. – Тебе не идут такие глазки и кудряшки, славный. Но приятно, что ты ради меня нарядился.
Коридор был тесным и темным. Прямо у входа стоял манекен-Максимилиан. Сейчас его укрывало небрежно наброшенное темно-бордовое пальто. Голова манекена была запрокинута, и он подставлял входящим деревянное шарнирное горло.
– Мне что делать, котенок? Подружку зачем с собой взял?
– Я хочу, чтобы ты позвонила тому мужчине в сером…
– Его зовут Николай Ровин, – раздраженно перебила она. – Ты не знаешь, как зовут человека, которого собрался убить?
– Я не стану его убивать. Я хочу, чтобы ты позвонила ему и сказала, что у тебя есть еще одна девушка из труппы, – с отвращением выдохнул он, пообещав себе забыть имя режиссера.
– А, вот как ты решил, – задумчиво сказала она. – Плохо придумал. Я ему позвоню, позову на помощь – тебя поймают и все будут знать, что ты – преступник. Она будет знать.
– Какое тебе дело…
Мари только улыбнулась и открыла дверь на кухню. Виктор только сейчас заметил, что у нее влажные волосы.
– Знаешь, какая у меня первая роль была? Ну серьезная, настоящая? Я ставила «Трехгрошовую» в университете и играла Полли Пичем, – она достала из шкафа три чашки. – А теперь кто-нибудь из вас, – она указала на Риту, – ну, например, вы, пусть скажет: «Когда же наконец придет твой корабль, Дженни?»
Она расставила чашки на столе и обиженно посмотрела на ошеломленно молчавшую Риту, а потом на Виктора, который завороженно следил за ее руками в кружевных перчатках застарелых шрамов.
– И вы спросите: «Что стрястись могло?» и воскликнете, лицо мое увидев: «Боже, как она смеется зло!» – пропела она, словно надеясь, что ей ответят.
– Очень мило, – ядовито ответил он, наконец опомнившись, и Мари захлопала в ладоши, чуть не выронив блюдце.
– Молодец! А теперь ты сказал, нужно звонить… тут недалеко, – она обернулась к Рите. – Ты можешь идти. Вот адрес, – она вырвала из лежавшего на столе блокнота страницу и быстро написала несколько слов. – Пей залпом, чай у него полное дерьмо, и возьми анальгин – когда в себя придешь – будет голова болеть. Не переживай, он всегда предохраняется, но там история на пару часов, все-таки он не молод…
– Закрой пасть, – попросил Виктор. Бритва лежала в рюкзаке, и казалось, жгла спину через несколько слоев ткани. Хотелось достать ее прямо сейчас, навсегда заглушив этот красивый хриплый голос.
– Знаешь, в чем между нами разница, котенок? – печально спросила она, погладив Риту по щеке, и Виктор с неприязнью заметил, что она не отшатнулась. – Я ее хотя бы жалею.
«Ты, дрянь, никого не жалеешь», – с ненавистью подумал он, наслаждаясь подступившей от невысказанной лжи тошнотой. Видел, что жалела.
Эта мысль горчила, рвалась из горла и рассыпала зуд от запястий до кончиков пальцев.
Мартин всегда учил видеть в людях хорошее – но что, если это «хорошее» было уродливее «плохого»?
Если она жалела Ришу, пока везла в город, жалела, глядя, как она подводит глаза ее карандашом и пьет чай дома у человека, которого зачем-то теперь зовут Николаем Ровиным – вина Мари становилась еще тяжелее. Виктор не мог объяснить себе этого чувства, этой ненависти, достигшей в этот момент такой силы, что она почти стала равнодушием, но знал, что это правильное чувство.
Мари несколько секунд смотрела ему в глаза, а потом торопливо отвернулась, закрыв лицо рукавом. Вышла в коридор, и подняла трубку старого телефона с медным диском.
– Добрый вечер… да, важно… да, прямо сейчас…
Рита сжала его запястье ледяными пальцами. Виктор вздрогнул от неожиданности – она уже не существовала, отстучала свой ритм, и ей давно было пора скрыться за кулисами.
– Все не так, как ты хотел, да? – прошептала она.
Он только кивнул, глядя на пушистый капюшон халата Мари и мокрые светлые пряди, исчеркавшие спину.
– … вульгарность – это внешнее… защитная реакция… чистенькая, славная…
– Я для него недостаточно хороша, – заметила Рита.
– Ничего, потерпит, – огрызнулся он, чувствуя, как зубы начинает ломить от подступающей желчи.
– Вик… Вик, посмотри на меня! – Рита встала перед ним и дернула за воротник, а потом беспомощно повторила: – Посмотри, а?..
Он заметил, как дрожат ее губы. Хотел сказать что-нибудь ободряющее, соврать или выбрать отрезвляющую грубость, но вдруг понял, о чем она просит.
«У тебя взгляд, как на старых иконах».
Она не его просила посмотреть. Не в нем нуждалась, и не ради любви к нему стояла сейчас на этой кухне и слушала циничный щебет Мари.
Виктор закрыл глаза и попытался вспомнить, что чувствовал Мартин, когда просил пощадить Мари. Эмоции, протянутые от горечи до ярости – в одном взгляде, в одном бессильном чувстве.
– Спасибо, – прошептала Рита, отпуская его. Во второй руке она сжимала таблетки, завернутые в листок с адресом.
«Ты никого не жалеешь», – эхом пронеслось в голове, и Виктор успел испугаться, что Мартин вернулся. Но это была собственная мысль.
Риша наверняка до сих пор лежала скорчившись под одеялом и уставившись в стену.
Рита, бледная до серости, стояла неестественно прямо, только руки дрожали все заметнее.
Мартин замурован в темной комнате наедине со своим сбывшимся кошмаром.
Мари совсем не выглядела злодейкой в этих дурацких желто-голубых носках.
И ему действительно никого не было жаль. Он удивительно быстро устал ненавидеть.
Может, это делало его хоть немного лучше Мари – он еще не научился жалеть своих жертв и заставлять страдать вопреки жалости. Но сейчас тяжесть преступления не имела значения.
Мари повесила трубку и потянулась, упершись руками в стену.
– Ну вот и все, хорошая, можешь идти, – она открыла дверь и в гробовой тишине завыл сквозняк-.
Рита прошла мимо, опустив голову и подняв воротник, на котором все еще дрожал стебель фиалки с последним лепестком.
Виктор встал на пороге, наблюдая, как Мари тщательно запирает дверь на три замка и цепочку.
– Боишься, что придет кто-то, кто захочет тебя убить? – не выдержав, спросил он.
Она подняла глаза и несколько секунд смотрела на него так, будто он сказал глупость и очень ее разочаровал, а потом вдруг опустилась на коврик у двери и засмеялась.
Виктор не представлял, что она может так смеяться. Сначала она глупо хихикала, глядя на него снизу вверх, но чем чаще становились нотки подступающей истерики, тем глубже и ниже становился смех, пока не зазвучал поставленными переливами, а потом вдруг стал совсем незнакомым – искренним и легким.
– Когда я была маленькой, – сказала она, вытирая глаза, – меня тоже отправили… в деревню. Ничего про ту поездку не помню, кроме котят… – Мари с трудом встала, отряхнулась и растерянно посмотрела в зеркало старого трюмо. – Мне… во что одеться?
– В черное, – не думая, ответил Виктор.
Она только пожала плечами и скинула халат – нежно-розовый, пушистый, – прямо на грязный пол. Несколько мучительных секунд он сползал к ее ногам. Никакой одежды под ним не было.
Виктор, не успев подумать, что делает, бросился подбирать. Казалось, еще несколько секунд – и эта еще теплая, мягкая тряпка, пахнущая кондиционером с лавандой и почему-то свежей выпечкой, испортит весь план.
Мари стояла посреди коридора и ошеломленно смотрела, как он вешает халат на манекен.
– Тебя правда больше интересует халат?
– Меня даже Максимилиан больше интересует, – честно ответил он, окидывая ее равнодушным взглядом. – Зачем? Тебе больше не надо играть.
Сначала он заметил, как она инстинктивно вскинула руки, чтобы прикрыться, а потом – как на миг искривились ее губы, словно она собиралась заплакать. Виктор улыбнулся и склонил голову к плечу – как весь год учила Мари.
– Котята… – прошептала она, прижав руки к груди. – У нас кошечка была, белая, красивая-красивая… только тощая и грязная… очень грязная…
Она стояла, опустив глаза к полу. Казалась жалкой и больной, точно как бродячая белая кошка. Виктор отстраненно подумал, что никогда, ни в какой одежде, ни в одной роли, она не могла выглядеть более ничтожно, чем сейчас.
Эта мысль ему нравилась. Она была правильной.
– Кошка… родила котят, – шептала Мари, и на ее лице все чаще сверкали слезы. – И мне сказали утопить…
«У-то-пить» с необычно мягкой «т» в конце. Виктор почувствовал подступающее раздражение – она снова пыталась играть, – но на следующих словах ее голос сорвался, и в нем появился незнакомый присвист:
– Маленькие ко-тя-та, с-слепые… Они так ворочалис-сь, скребли-сь… они… тревожились, но еще не с-сильно. У меня всегда были теплые… руки. А потом я переворачивала ладонь, и они падали… только что была рука, теплая, надежная, а теперь… Холодно! – она запрокинула голову, повторяя позу манекена, и Виктор заметил, как слезы ползут по ее вискам, теряясь в волосах. – Можно было так не делать, но мне казалось, что так нечестно – я их убиваю, а убивать надо… чувствуя всю вину, понимаешь? И дарить перед смертью хоть немного… себя, – она усмехнулась и запустила пальцы в волосы. – Я в детстве была честной, котенок.
– Сейчас не ты переворачиваешь ладонь, – заметил Виктор.
– Ошибаешься. Ты ошибаешьс-с-ся, лапочка Виконт, не ты меня сегодня убьешь. Это я тебя убью, только в пос-следнем акте, – прошептала она, со смесью удивления и тоски разглядывая свои руки. – Поверь прес-ступнице со стажем. В конце наши жертвы всегда приходят за нами… Как эти солнца – прощу ли себе с-сама?..
– Я читал газеты, – сообщил он, пробежав кончиками пальцев по теплому деревянному горлу манекена. – Мне нужно сделать все по правилам, ведь Мир-Где-Все-Правильно мы создаем сами.
– И что же будет правильным, котенок?
– Мы играем чужую пьесу. Про человека, который пытает женщин, перед тем, как утопить, – ответил он. – Кто мы такие, чтобы спорить с режиссером, верно? Это он – главный человек в любой пос-становке, не-так-ли?
Ему нравилось, как посерело ее лицо и посветлели глаза, будто от страха разом отступил весь дурман. Но ответила она неожиданно равнодушно:
– Если тебе станет легче.
Она поежилась, бросила быстрый взгляд на халат, а потом развернулась и открыла дверь в спальню.
Включила маленькую лампу в темно-рыжем абажуре и выкатила из-за шкафа вешалку, на которой висели костюмы в черных чехлах, похожих на покойницкие мешки.
– Не станет, – наконец ответил Виктор, садясь на край заваленной бумагами и коробками из-под конфет кровати. – Думаю, для любимой ученицы он сделает исключение.
– Я не его любимая ученица, – усмехнулась Мари, натягивая чулки. – Я вообще не его ученица, просто подельница. А ведь я в это влезла чтобы учиться. Потому что всегда восхищалась спектаклями Ровина. Это для тебя он просто старый извращенец. Ты не видел его «Колодец и маятник».
– Помогло? Ты можешь поставить «Колодец и маятник»?
– Меня в колледже хвалили за любую чушь, которую я делала, потому что боялись моего отца, – продолжила она, игнорируя вопрос. – Он влиятельный человек… И ничему не научили – знаешь ли тяжело видеть свои ошибки и исправлять их, когда на них никто не указывает. Я записывала роли на диктофон, переслушивала и сама исправлялась… А потом меня хвалили, потому я протеже мастера Ровина. Представляешь?
– Риша тоже мечтала учиться, – сказал он, глядя, как она застегивает крючки корсета.
– Жизнь такая несправедливая штука, – огрызнулась Мари. – Надо же, девочка из деревни мечтала о театре. И ты думал, что она посветит со сцены своей провинциальной мордашкой, ею сразу очаруются и тут же возьмут учиться за большие, красивые глаза?!
Виктор изо всех сил старался сохранять спокойствие. Никогда еще ледяные усмешки и манерное высокомерие Виконта не давались ему так тяжело.
Мари разыгрывала перед ним свой последний спектакль, и ему совсем не хотелось мешать. Обострившимся животным чутьем он чувствовал, что даже если бы все-таки взялся пытать ее – не смог бы заставить сильнее чувствовать приближающуюся смерть. Поэтому позволял ей говорить, улыбаться, выбирать костюм и рассказывать любые истории.
Вчера Риша в полутемном кабинете держала белоснежную чашку, отвечала на бессмысленные вопросы и оставляла на кромке алый след, когда касалась ее губами. Мари дала ей красную помаду, неподходящую, вульгарную. Не для провинциальной нимфетки.
Неправильный цвет. Неправильный финал.
– Зачем так? – вслух спросил он, не зная, о чем именно спрашивает – о помаде или предательстве.
Вчера он стягивал с Риши мокрое платье, с трудом развязав пояс, который она затянула так, будто больше никогда не собиралась снимать. Ненавидел себя за каждое прикосновение. Ненавидел за то, что Риша всхлипывала и пыталась прикрыться, а потом целовала его, виновато и торопливо. За то, что все происходило именно так – грязно и бестолково, почти без любви, почти насильно.
Зачем?
Мари уже надела и застегнула платье – черное, с широкими рукавами и воротником-стойкой – и теперь сидела за туалетным столиком, раскладывая кисти для макияжа.
– Зачем? – повторила она, выдавливая тональный крем на тыльную сторону ладони, и сама выбрала, на какую часть вопроса отвечать. – Ему так нравится. Вроде раньше он просто трахал абитуриенток, но потом ему наскучило – какая тут интрига, какая… особенность? А так – и запрет, и история. Я… мне нравилась Ира, – призналась она. – Она действительно хотела… настоящего. Искусства, служения…
Она обернулась. Светлый крем размыл ее черты – белые губы, белые ресницы, белая кожа. Маска, на которой нужно рисовать новые эмоции.
Белый цвет, правильный цвет. Но на этом белом, бесстрастном лице горели зеленью глаза с черными кляксами зрачков, и Виктор с удивлением заметил, что они полны ужаса и глухой, животной тоски. Что крем влажно блестит от выступающих капелек пота, что кожа даже выглядит холодной, и что лицо выполоскано-белое безо всякого грима. Она говорила и двигалась так уверенно, отстраненно, словно он пришел обсудить премьеру, а не убить ее. Но стоило подойти ближе – и красивая, уверенная Мария Мертей превратилась в испуганную девочку с дрожащей кистью в руках.
Виктор смотрел на нее и старался найти в себе ненависть. Наверное, Мартину будет легче понять его, если он будет мстить подчиняясь ярким чувствам. Мартин будет пересматривать эти воспоминания и поймет, что он не мог иначе, и может даже разделит с ним эти мгновения, ведь наверное он тоже ненавидит ее.
Но ненависть не приходила. Вместо нее он чувствовал только опустошенное равнодушие.
Ему было все равно. Несколько секунд он даже всерьез думал встать и уйти, на прощание вручив Мари завалявшуюся в кармане карамельку. Эта мысль нравилась ему все больше, даже Рита, которая уже наверняка пила чай у Николая Ровина на кухне, его не особо заботила.
«Отряхнется и пойдет домой, – подумал он. – Можно подумать, в первый раз. Про это Мартину и знать-то не обязательно».
– …говорила, что стоит поторопиться, – донесся сквозь пелену голос Мари.
– Что? – нехотя переспросил он. Если вначале сквозь ткань обжигала бритва, то сейчас проклятая карамелька словно превратилась в уголек.
– Я спрашивала у нее, было у вас что-нибудь или нет, – терпеливо повторила она. – Ей никак не удавалась Ложная Надежда… я ей сказала, что для этой роли нужен… особенный опыт. Но на самом деле я хотела, чтобы вы успели, пока…
– Спасибо, – ядовито улыбнулся он, наконец почувствовав, как вожделенная ненависть толкается в груди. – Если она тебе так нравилась – может, стоило отыграть твои проклятые «Дожди» и оставить нас в покое?
– Ну не настолько же, – слабо улыбнулась она, на миг превратившись в привычную Мари. – К тому же мы не можем импровизировать, а в моей пьесе все по-другому… Но ты увидишь, лапушка, сегодня ничего не закончится.
Виктор только сейчас заметил, что она рисует лицо Офелии – тень черепа на белоснежной коже.
– Слезы не рисуй, – бросил он. – Готова?
– Нет… Звонка еще не было, – умоляюще прошептала Мари.
Он молча достал из кармана заколки. Попытался вспомнить, зачем они были нужны. Так же молча встал и вышел на кухню, где на на самом краю стола, рядом с тремя фарфоровыми чашками, лежали белые, уже начавшие вянуть цветы.
«Она знает про Мартина? – растерянно подумал он. – Ах да. Рита. Эта… с черными волосами».
Он нервно усмехнулся и выбил по столу короткий ритм. Желтое пятно света на полу было размыто тонкой взвесью дыма, и Виктор наконец понял, куда делась ненависть, и что так путало его мысли – темная прокуренная духота.
Теперь хотелось просто уйти, без жестов, без прощаний, не оставив даже карамельку. Вернуться домой и лечь спать.
А еще – выпустить Мартина и попросить прощения.
Он бы простил. Понял. И все снова стало бы хорошо.
Желание было таким острым и болезненным, что Виктор даже подошел к двери и протянул руку к замку.
Незачем убивать Мари. Незачем убивать Мартина, и себя тоже убивать незачем.
Он опустил руку, вернулся на кухню и забрал цветы со стола. Перед тем, как вернуться в спальню, открыл окно, выпуская на улицу теплый ядовитый туман.
Мари накручивала волосы на плойку. С тихим шипением, одну за другой светлые влажные пряди.
– Ты зря это, – сказал Виктор, вытаскивая из упаковки пару заколок. – Все… смоет.
– Это неважно, – глухо ответила она.
Он встал за ее спиной, забрал плойку. Перебросил волосы ей на спину, растрепал несколько туго скрученных локонов.
– Сними перчатки, – вдруг попросила она. Виктор с удивлением посмотрел на руки – он успел забыть, что надел перчатки перед тем, как подняться. Тогда он соображал гораздо лучше и позаботился о том, чтобы не оставить отпечатков.
Подумав, он покачал головой и закрепил первый цветок над ее виском.
– Ну пожалуйста! – всхлипнула она, оборачиваясь. – Пожалуйста! Сам сказал – все смоет…
«Мартин бы снял, – мелькнула рыбкой в темноте сознания мысль, и сразу за ней следующая: – Мартин бы ее не мучил».
Он снял перчатку и убрал в карман. Стоило это сделать, Мари вцепилась в его запястье и прижалась щекой к ладони.
– У тебя холодные руки, – расстроенно прошептала она. – Ну что же ты, котенок… нет, не надевай! Оставь, пусть холодные…
– Ты можешь попробовать сбежать, как только мы выйдем из дома, – заметил он, прикалывая очередной цветок. – Не обязательно хватать меня за руки, как будто это последнее, что тебе осталось. Мы еще не пришли на мост.
– Могу, – кивнула она. – Не обязательно. Не пришли. Мне скоро выдадут диплом. Может Николай сможет меня устроить, он вообще-то очень мягкий человек, хоть тебе и трудно в это поверить… нет, вот этот сюда, иначе будет некрасиво… я поставлю еще одну «Чайку». И «Федру», со стихами Цветаевой… и «Трамвай „Желание“» Теннесси! И «Макбет», сначала Шекспира, а потом – Ионеско…
В ее глазах, где-то под помутневшим зеленым стеклом все отчетливее становился блеск будущих софитов. Она говорила, рисуя в воздухе фигуры – совсем как Мартин когда-то, и Виктор вдруг подумал, что Мари тоже умеет наполнять образами темноту.
И режиссировать собственную смерть.
Это тоже казалось правильным.
– Я вернусь домой, – сказал он, перебрасывая ее прядь так, чтобы закрыть заколку. – Заберу аттестат и уеду. Поступлю в медицинский колледж, помирюсь с Мартином. Уеду к морю, как он хотел, и Риша будет по вечерам выступать в местом театре – в темном зале, где ряды сидений начинаются почти у самой сцены.
– Кто такой Мартин, котеночек?
– Мой друг. Я ему очень, очень много должен. И сегодня задолжаю еще больше.
– Я тоже поеду в город у моря, в город, стоящий на заливе! Холодный город, дождливый город, где много театров и в одном из них обязательно найдется место для меня! – Мари улыбалась, натягивая перчатки, и казалось, смотрит не в зеркало, а в окно, где зажигаются огни города, о котором она говорила. – Там никто не будет меня знать, а значит, у меня там не будет никаких… грехов. Я буду лучше, чем сейчас, буду… совсем другим человеком, никто не узнает про «Дожди», никто… и может, там я буду жить вечно!
– Я буду совсем другим человеком, – глухо повторил Виктор, проверяя, держится ли заколка. – В каком-то другом городе, в другое время и с другими людьми. Никто не узнает меня, никто не будет знать про «Дожди» и Офелию в белом венке. Мы будем другими людьми, когда…
– Когда мы наконец-то умрем.
Мари обернулась. И почему ему казалось, что у нее мутные глаза? Откуда взялась глупая мысль, что она боится?
Белые цветы терялись в светлых волосах, словно требуя другого, более яркого цвета. Она улыбалась, но по щекам ее текли слезы, черные, перемешанные с подводкой и тушью, завершая грим Офелии. Настоящей Офелии, которой нет нужды рисовать слезы и играть жертву на сцене.
– Только… не делай мне больно, хорошо?
Виктор кивнул и заколол над ее лбом белоснежный георгин.