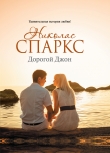Текст книги "Милорд (СИ)"
Автор книги: София Баюн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Действие 15
Правда или ложь?
Чтоб тень была живее нас самих.
Байрон
Из открытой двери в беседку сочился сигаретный дым. Мартин, сидя спиной к проему и закрыв глаза, прислушивался к образам, мелькающим в сознании Виктора. Сначала его подташнивало, от бешено сменяющихся картинок словно укачивало, потом пришло раздражение и сменилось равнодушием – разобрать что-то было невозможно, эмоции и образы смазывались в единое пятно.
– Ну и что будешь делать, солнышко? – спросила Мари, не заходя в комнату.
– Приедем, разберемся с его друзьями, и я дам Нике пистолет.
– Ах, какой злой! – раздался короткий смешок. – Почему это, интересно знать? Устал от счастья воспитания трудного подростка?
– Он давно не подросток. Ты же видишь, что происходит. И все равно задаешь глупые вопросы. Не можешь без монологов со сцены, зрители иначе не понимают твой замысел?
– Разве что-то изменилось? – с наигранным удивлением спросила Мари.
Она появилась на пороге – на фоне темноты в багровых вспышках было видно только ее лицо и небрежные белые штрихи волос. Мартин равнодушно оглядел ее, а потом снова закрыл глаза. В другое время стоящая на четвереньках женщина в черном, с наклоненной к плечу головой, показалась бы ему жуткой, но сейчас самым сильным было желание еще раз кинуть в нее ботинком.
– Ты знаешь, что. Я умираю, ты сама сказала.
Лицо обожгло чужое частое дыхание – сигаретный дым, духи и пудра. Он открыл глаза и встретился с блестящим зеленым взглядом Мари. Она стояла на коленях прямо перед ним и смотрела жадно, будто чего-то ждала.
– Ну? – нетерпеливо спросила она.
И Мартин понял, что от него требуется.
– Да и черт с тобой, – пожал плечами он. – Ты была права. Я умираю, он сходит с ума. Когда-нибудь я действительно упаду, свесив в проем руку, и больше никого не спасу. Не знаю, сколько мне отмерено, но точно меньше, чем ему.
Мари отползла в угол и подняла руки.
– Не хочу, чтобы ты умирал, котеночек. Мне нужно, чтобы ты жил.
– Прекрасно, Мари, просто прекрасно. Теперь у меня целых две женщины, которые не дают мне сдохнуть.
– Мне нужно, чтобы ты жил, – упрямо повторила Мари, сощурив глаза.
И исчезла.
…
Виктор стоял на коленях перед ванной, закрыв глаза. Он был совершенно расслаблен – тело, измученное вчерашним кошмаром, наполняла липкая тяжесть. Но он и не собирался рваться и бороться.
Присутствие Мартина ощущалось каким-то далеким и совсем неважным. Все, что он чувствовал – как багровая нить, воспаленная и пульсирующая, тянется из его груди, через километры лесов, полей и морских волн, чтобы бессмысленно биться о глухую закрытую дверь его дома. Его настоящего дома, где жила сестра, которую он не должен был бросать. Которую он предал ради Мартина в детстве, и которую так глупо подвел теперь.
Когда он пытался думать о Нике, к слабости примешивалась тошнота.
Когда он запер Мартина, ему пришлось искать баланс между Собой-Прошлым и Собой-Настоящим. Виктор не помнил, что значит «жить одному». Он не был один с того самого дня, когда Мартин впервые подал голос.
Но тогда он хотел полностью отдаться новой ипостаси – той, что носила красный платок. И каждый раз, когда Лера знакомила его с очередной девушкой, каждый раз с Дарой, которая вовсе не хотела участвовать в его играх, каждый проклятый день неправильной, единолично-алой жизни, он не мог насытиться. Засыпая, он чувствовал вяжущий голод, и просыпаясь искал, чем его утолить.
Чужой боли всегда было недостаточно – он был осторожен. Истязать себя сильнее он не мог – мешало глупое, маячащее где-то чувство ответственности, стыда за то, что он портит не принадлежащее ему тело.
А потом он встретил Нику, и понял, чего ему не хватало все это время.
Теперь он мог быть и палачом, и спасителем. Обе ипостаси скалились из темноты окровавленными ртами, и только тогда Виктор наконец-то почувствовал, как голод отступил. Больше не нужно было рваться пополам.
Но даже тогда он отчетливо понимал, что за все придется расплачиваться – этому научила Мари, красивая мертвая Мари, которую Ника не случайно рисовала в образе Девы Марии, а не Офелии. Мать нового Бога, обреченного на смерть.
«…меня?» – донесся голос Мартина.
– Что? – растерянно переспросил Виктор.
«Ты слышишь меня?! Я сказал – дай мне. Я уговорю Нику отдать ключ».
– Ты уже пробовал.
«А какие у тебя варианты? Хочешь отпилить себе руку осколком чашки?»
Виктор улыбнулся и прижался спиной к стиральной машине. Он был готов перешагнуть через себя и разыгрывать сцены с Милордом на глазах Мартина – теперь это не имело значения. И он точно знал, что это единственное, что пробьет ледяное равнодушие Ники.
Каждое прикосновение ее в первые дни знакомства заставляло сразу несколько чувств, в которых он не хотел себе признаваться, сворачиваться в вибрирующий клубок.
Сильные руки с тонкими пальцами, красота формы – уродство облика, скользящий по коже шершавый след. У нее были волосы Риши, руки Мари, и его собственные глаза.
У Леры руки были совсем другими, уверенными и мягкими. Он раньше не встречал таких женщин – в ней он видел собственное безумие, но оно, переломленное через темноту ее глаз, словно становилось ручным и покорным. Что бы она ни делала – держала в руках плеть, приводила к нему очередную девушку с серыми волосами или перешагивала через отплевывающуюся кровью Нику, чтобы налить себе и ей чай – Лера сохраняла ту особую, мягкую женственность, которая сводила его с ума. Ни в угрюмой ненависти Ники, ни в экзальтированном бархатном безумии Мари, ни в бесцветной жестокости Риши, Виктор раньше не встречал такого искреннего, такого красивого и такого обезоруживающего зла.
Зла, нуждающегося в защите. И если нужно покалечиться или унизиться, чтобы дорваться до глухой железной двери – неужели это имеет значение?
– Что ты будешь делать?
А может, Мартин и сейчас справится лучше – рациональный и сдержанный Мартин, который умеет смотреть на багровые вспышки со стороны?
«Игр-р-рать, котенок», – ответил он, и Виктор почувствовал, как где-то между ключиц вздрагивает рыхлый комочек тошноты.
– Что?..
«Я сказал – постараюсь ее убедить, что нужно заканчивать, только ты не лезь», – в голосе Мартина звучало едва слышное раздражение человека, которому пришлось повторять второй раз.
Такие теплые руки.
Мартин несколько секунд молча наблюдал за Виктором и звенящей пустотой его мыслей, а потом его словно за шиворот втащило в проем. Мгновение падения – и это он сидит на полу, сложив руки на коленях, как примерный ученик.
– Чтоб тебя, – проворчал он, вставая.
Присутствия Виктора он больше не чувствовал.
Перед глазами вспыхивали разноцветные круги, а крючок для полотенец, на котором он пытался сосредоточить взгляд, то и дело подпрыгивал и возвращался на место.
В обрывочной, полной решимости тоске Виктора он успел различить два главных акцента – он был готов на все, чтобы вернуться к Лере, и он ни разу не вспомнил о второй сестре, которой сейчас как раз грозила опасность.
– Ника? – позвал он, открыв дверь.
Она не выходила. Мартин расслышал шорох на кухне, а потом снова наступила тишина.
– Ты в порядке?
– Я не отдам ему ключ, – раздался хриплый голос. – Я все слышала. Пусть его дружки передушат хоть все это крысье семейство.
– Тогда он сломает себе руку, а потом – тебе шею.
– Пусть ломает, – равнодушно ответила она.
– Хорошо, – покладисто ответил Мартин. – Тогда у меня будет другая просьба. Нарисуй мой портрет.
– Что? – равнодушие треснуло, смялось, уступив беспомощной растерянности. Ника наконец появилась на пороге кухни – бледная, взъерошенная, с нервно пляшущей в дрожащих пальцах сигаретой.
– Нарисуй мой портрет, – повторил он, задавив рванувшуюся жалость.
Она смотрела недоверчиво, и ее сжатые губы были похожи на серый разрез. Лица все больше становились похожими на маски – белые пятна, черные провалы глаз, злые черточки ртов. Мари, Ника, Лера, Виктор, его собственное лицо – все теряли очертания.
Внезапно пляшущая в полумраке точка сигареты замерла.
– Хорошо, – пожала плечами Ника. – Тебе раньше не нравилось, когда я тебя рисовала, – в ее голосе послышалось странное потаенное ехидство.
– Так надо, – спокойно ответил Мартин и сел на пороге. Голова все еще кружилась.
Ника мрачно посмотрела на него сверху вниз, а потом вернулась на кухню. Раздался шум воды и несколько щелчков.
– Как рисовать? – мрачно спросила она. – Красками?
– Карандашом, хоть на газете.
– А, ну теперь я вижу, что ты в порядке. Думала, тебя подменили, – неловко улыбнулась она.
Несколько минут она возилась в комнате, потом включила в коридоре свет и разложила на ковре планшет, бумагу, эскизник и несколько карандашей.
Мартин смотрел на вызывающе белый лист и чувствовал себя предателем. Он не собирался лгать, но каждое слово правды давно стало отвратительнее любого обмана.
На кухне взвизгнул и мерно засвистел чайник. Спустя минуту Ника подтолкнула к нему поднос с чашкой, поставила рядом с бумагой пепельницу – потерявшееся в бежевом ковре белое пятно.
– Лицо? – спросила она.
– Да. Сними, пожалуйста, зеркало со стены и дай мне – сделаем все честно.
Она сняла зеркало – тяжелое, в черной геометрической раме – и Мартин заметил, как слегка побелели ее костяшки. Ника положила зеркало на пол, и он поднял его, с трудом устроив на коленях.
Ника отошла, села на пол и раскрыла эскизник. Мартин помнил, что там есть несколько его портретов.
Ника опустила глаза, раскрыла эскизник на нужной странице, положила планшет на колени и начала рисовать. Они сидели в одинаковых позах, опустив глаза. Мартин слушал, как карандаш то клюет, то гладит бумагу, слушал шорох, похожий на далекий шум прибоя, и чувствовал, как в сознание медленно сочится теплый сонный туман с запахом дыма ее сигарет.
– Эй, ты живой? – в плечо коротко клюнул брошенный карандаш. – Смотри.
Мартин открыл глаза и непонимающе уставился на набросок, который она показывала. Человек, похожий на него, смотрел устало и растерянно, она даже обозначила морщины легкими тенями.
Он опустил глаза к зеркалу.
– Хорошо, только нос длиннее – ты мне льстишь, – неловко улыбнулся он, почувствовав легкое раздражение – Виктор описал его лицо, не удержавшись от сглаживания недостатков. Может, он сделал это из инстинктивной тяги к приукрашиванию реальности. На наброске каждая черта неуловимо отличалась, изменяя его лицо.
«Глупый ты котенок, – неожиданно прозвучал издалека голос Мари. – Это он тебя видит красивее, потому что любит. Они оба».
– Когда ты впервые согласился, чтобы я тебя рисовала – я уже шутила про фоторобот, – проворчала она. По бумаге зашуршал ластик, а Мартин подобрал с пола карандаш и задумчиво разглядывал его обломанный кончик.
– Вот здесь морщины, – он показал карандашом контур на лице. – Здесь и здесь. Покажи. Нет, глубже.
– Глубже – это если тебе лет пятьдесят, – растерянно пробормотала она, послушно водя карандашом.
– Здесь очертания мягче, – он нарисовал несколько линий не шее, – а здесь, наоборот, резче – он провел кончиком карандаша по нижней челюсти, оставляя на коже невидимый след.
– Мартин…
– Пожалуйста. Ты обещала.
Он видел, как дрогнули уголки ее губ, а потом она снова опустила глаза к планшету.
– Так?..
– Да. Теперь отсюда сюда…
Мартин показывал, больше не стараясь скрыть свое новое лицо. Он смотрел на него в зеркале, беспощадно четкое в белом свете лампы. Смотрел на него на бумаге, переплетение серых линий и штрихов. Ненавидел себя и заставлял Нику добавлять сходства.
Ему все равно пришлось бы говорить ей правду. Только выстрел, который Ника должна была сделать совсем скоро, заставлял его продолжать лгать, но сейчас он мог дать ей хоть немного правды – беспощадной, и потому способной подарить утешение.
Он рисовал на молодом лице Виктора стареющего, изможденного мужчину, словно срезая мелкие черты, добавляя трещин и нитей. Поправлял Нику, когда она пыталась рисовать не так, как он видел в зеркале. Таланта художника у него никогда не было, но Мартин помнил, как когда-то вырезал из дерева, чувствуя контуры и линии, заключенные в бруске. Из листа бумаги тоже можно было высвободить что-то с помощью карандаша и этой красивой исчерканной шрамами руки.
Правда, он всегда вырезал то, что казалось ему красивым – корабли, птиц, цветы для Риши. Но Мартин давно не делал ничего красивого. И люди рядом с ним тоже.
Наконец, Ника показала портрет – на него смотрело собственное лицо. Вся тяжесть пережитого собралась складками под кожей, расчертила ее новыми линиями. Человек на портрете прожил не такую долгую жизнь, но оставил на себе все ее отпечатки, и очень, очень устал.
– Это неправда, – тихо сказала она. – Зачем ты так?
– Я не могу показать, как выгляжу сейчас. Но я не стал бы так тебя обманывать, клянусь. Мне… все труднее его сдерживать.
– Так зачем? – прошептала Ника, отбрасывая планшет. – Пусть делает что хочет!
– Ты же знаешь, что так нельзя. А я знаю, что ты не такая. Ты на самом деле не желаешь его семье зла.
– Еще как желаю, – ощерилась она, и в ее глазах плеснуло что-то темное и тягучее. – Мне добра никогда не желали. Ни родители, ни он, ни… – Ника осеклась, и слово «ты» повисло в воздухе, так и не прозвучав. – Почему я должна сейчас думать о его сестрах и его совести? Почему ты должен умирать?!
– Я уже умираю. Сам. Без твоего участия, понимаешь? Тебе не придется меня убивать. Я не знаю, почему мне отмерили так мало времени, но оно кончается, – солгал он. Говорить, что он расплатился годами жизни за ее спасение, Мартин, разумеется, не стал.
– И ты хочешь…
– Знать, что я хоть кого-то спас. Отдай ключ, прошу тебя.
Последние слова покалывали язык приторной затхлостью. Он сам никогда не сказал бы ничего подобного. Но он уже сказал все слова, до которых додумался сам, и Виктор сделал все что мог – оставалось положиться на третьего человека. Который умел рассказывать истории и выводить сюжеты из тупиков.
Ника сидела молча, глядя на портрет. Секунды длились, вязкие и холодные. А потом она подняла глаза, и Мартин различил под обычным равнодушием странное чувство, которое он не мог прочитать. Ника встала, вышла на кухню и через несколько секунд, не говоря ни слова, протянула ключ.
Мартин расстегивал наручники, ожидая что Виктор сразу займет сознание и придется гасить его очередной припадок. Но когда звякнул браслет ничего не произошло. Мартин по-прежнему был один.
…
– А сразу так нельзя было?
«Если бы ты рот не открыл – можно было бы».
Виктор раздраженно откинулся в кресле. Сидящая рядом женщина в огромных роговых очках спала, уронив голову на грудь. От нее исходил такой густой маслянистый запах чесночной колбасы и колючий – дешевых духов, что Виктор успел сильно пожалеть, что взял Нике билеты в хвост самолета. Но запах, едва заметный храп и поблескивающая на подбородке слюна вызывали все же меньше раздражения чем Ника. Когда она была рядом, тошнота делала мир серым, а тело – вялым и больным.
«И как мне теперь с ней жить?»
«Никак, скоро пересадка на три часа, увези ее в город, высади и возвращайся домой», – посоветовал Мартин.
«Не пойдет, я тебя знаю – если бы не она – ты бы давно лег поперек рельс и благостно улыбаясь облачка разглядывал», – огрызнулся Виктор.
«Тогда Бетховена послушай».
– Да пошел ты… – забывшись прошептал он, закрывая глаза.
…Дмитрий не брал трубку. Это было странно – Виктор ждал угроз, требований или запугивания. Но трубка не просто молчала – в динамике стояла мертвая тишина, через минуту прерываемая голосом автомата.
Лере он успел дозвониться перед взлетом, но разговор вышел коротким.
– Она не вернулась?
– Нет, – голос в трубке был твердым, но хриплым, будто сорванным.
– Не смей обращаться в милицию.
– Вик, какого черта, ты представляешь, что этот сумасшедший барыга может сделать с ребенком?!
– Но ты до сих пор не обратилась, верно? – усмехнулся он. – Я скоро буду дома. И со всем разберусь.
Самолет приземлился в большом городе посреди степи – сухом, жарком, пропахшем медом и машинным маслом. На улице светло такое яркое солнце, что Виктор не мог смотреть даже на стеклянные двери. Они постоянно открывались и закрывались, выплескивая на пол свет – настолько живой, искрящийся и нормальный, что вызывал омерзение.
Ника стояла в пальто, сжимая сумку с вещами, и смотрела в пол. На нее оборачивались люди – смотрели недоуменно, сочувственно, а кто-то и презрительно – а она стояла, опустив бесцветные глаза к хлорочно-белой плитке, и не замечала никого.
Как она могла показаться похожей на Ришу? Где тогда были его глаза?
«Посиди с ней, – не выдержал Виктор. – Или я ее в сортире придушу, тошнит от ее рожи».
«Начнешь душить – еще хуже станет», – фаталистично предупредил Мартин и шагнул в проем прежде, чем Виктор успел ответить.
Ника подняла глаза спустя несколько секунд после того, как он занял сознание. Эта чуткость пугала его, и вместе с тем Мартин никак не мог понять, как ей удается обманываться все это время.
– Тебе не жарко?
Она непонимающе посмотрела сначала на него, а потом на свои манжеты. Сумка, в которую как попало была уложена одежда и что-то, упирающееся в темную ткань углами, упала на пол и теперь стояла на носках ее ботинок. Мартин, вздохнув, расстегнул пуговицы и снял с Ники пальто, подобрал сумку и поставил на свободное сидение.
– Садись. Хочешь чего-нибудь?..
– Нет, – ответила она и все-таки села – на край, рядом с сумкой. Потом подняла глаза и слабо улыбнулась. – У меня для тебя кое-что есть. Только для тебя.
– Показывай, – Мартин сел рядом, радуясь, что Ника хоть немного ожила. До этого ему казалось, что они везут манекен.
– Тебе понравится, – улыбнулась она и открыла сумку. Долго копалась, что-то звенело и шуршало. Сидевшая рядом молодая женщина с грудным ребенком с ненавистью следила за поисками.
Впрочем, Мартин решил, что она смотрела бы так на любого, кто сел бы рядом – в аэропорту было так шумно, что Ника точно не могла никому помешать. Рядом с Мартином спал мужчина в коричневом костюме, и его тонкий, едва слышный храп изредка царапал ухо.
– Вот, смотри. Я нарисовала… ты ведь тоже ее любил.
Она протягивала ему плотный лист – не вырванный из эскизника. Мартин успел подумать, что она по памяти нарисовала Риту, но с портрета смотрело совсем другое лицо.
Риша изменилась, но он сразу узнал ее. Повзрослевшее лицо, на которое, словно неудачный макияж зачем-то нанесли чужое выражение – Мартин видел, как кривятся ее губы и как она слегка щурится, распуская едва видимые морщинки. Все в ней было чужим – то, как она держала голову, как лежали ее волосы. И только одно осталось прежним – растерянный голубой взгляд, устремленный куда-то за грань листа.
Мартин, не удержавшись, провел по листу ладонью. Девушка на портрете была несчастна.
– Где ты… где нашла? – спросил он, возвращая портрет. Нельзя, чтобы Виктор увидел.
Ника улыбнулась и достала из сумки книгу – «Восемь венков» с картиной Уотерхауса на обложке. Мартин почувствовал, как кровь отлила от рук и лица и ухнула комком куда-то в желудок.
– Она же… Я видел, про Мари была последняя глава, – он торопливо пролистал страницы.
Ника только раздраженно фыркнула:
– Если бы ее тоже кто-нибудь утопил – я бы ему сразу показала. Ему, не тебе.
Мартин на секунду замер, а потом уже медленнее вернулся к началу главы.
Глава о Мари была самой большой. Мартин видел выдержки из интервью, взгляд постоянно спотыкался о слова «молодая», «дар», «постмодернистский стиль», «огромная любовь к детям» и «золотое сердце». Но клише в книге с подобной обложкой его нисколько не удивили.
Первый снимок был групповым – балетный класс, одинаковые фигуры в гимнастических купальниках у станка. В третьей позиции – как услужливо гласила подпись. Мари стояла в профиль, пятой. Если бы редактор не обвел ее – никто не отличил бы будущую Офелию от других детей.
Вторая фотография была явно из личного архива – на ней Мари была совсем молодой, скорее всего школьницей. Она сидела на стуле, обнимая его спинку, и мрачно смотрела в камеру. Светлое разлохмаченное каре, темный спортивный костюм, лицо без косметики и главное – руки, тонкие пальцы в дешевых кольцах, запястья, исписанные подсказками – Мартин разглядел несколько формул и цитат.
На следующей фотографии уже взрослая Мари танцевала на уличной сцене, сжимая в руках сложенный черный зонт. На ней был серый мужской костюм и коричневая шляпа-хомбург. На этой фотографии она уже была в белых перчатках.
А последняя фотография в книге принадлежала не Мари.
Профессиональный фотопортрет, на котором Риша была тщательно загримирована под Мари. Уголки губ были «подрезаны» красным карандашом, на голове – белоснежный венок в темных пятнах. Мартина передернуло от отвращения, следом за которым пришло разочарование – ему хотелось увидеть, какой она стала, прочитать историю по ее лицу. Он с трудом различал ее черты под гримом и чужим выражением. И только глаза были такими, как нарисовала Ника – огромными, тоскливыми, лишенными безумного блеска Мари.
«Ирина В. в роли Мари», – гласила лаконичная подпись.
– Дай портрет, – попросил он и положил лист рядом с фотографией, закрыв текст.
Ника совершила настоящее чудо – она смыла с лица Риши не только грим, но и почти всю игру в Мари, оставив только мимику, как теперь Мартин видел – фальшивую. На портрете было именно то лицо, которое он не смог разглядеть на фотографии.
– Удивительно, – прошептал он. – Ты же никогда ее не видела…
– Я художник, – мрачно ответила Ника, с отвращением глядя на рисунок. – Я умею смотреть мимо… наносного. Знаешь, что я рисовала, когда Виктор за мной наблюдал? – внезапно оживилась она.
– Пруд в парке вечером, – ответил Мартин, закрывая книгу вместе с портретом.
– А вот и нет. Я рисовала пруд днем.
– Но я видел, что Виктор приходил в парк по вечерам, – он неожиданно растерялся. Ника ставила под сомнение то, что казалось непреложной реальностью – а какие еще воспоминания Виктора могут оказаться лживыми?
– Это была игра. Я рисовала один и тот же пруд в четырех временах года утром и вечером – всего восемь картин. Очень простое, даже глупое упражнение со статичным объектом, – она мечтательно улыбнулась и прикрыла глаза. – Осенью по вечерам я рисовала зимний день. Потому что важен пруд, понимаешь? Остальное меняется, пруд – остается. Суть. Лицо без грима.
Мартин улыбнулся и не удержавшись провел ладонью по ее волосам – тонким, жестким и спутанным. Она замерла, а потом потянулась за прикосновением, прижалась щекой к его запястью.
– А хочешь, я еще кое-что тебе покажу? – прошептала она, и слова касались кожи, словно крылья мотыльков – мимолетно и легко, тая в сухом гулком воздухе.
– Конечно.
– Только тебе надо посидеть немного, – Ника отстранилась, и Мартин заметил сардоническую усмешку, перекосившую ее лицо. Спустя мгновение к ней вернулась обычная отстраненность.
Она достала из сумки эскизник и карандаш. А потом вырвала один из листов, бросила на него быстрый взгляд и положила рядом.
– Смотри вон туда, – она кончиком карандаша указала куда-то в потолок прежде, чем Мартин успел разглядеть что за рисунок она вырвала. Впрочем, он догадывался. – Где Виктор?
– Не знаю, – признался он. – Спит. Или… он не смотрит.
– Тогда поиграй со мной. Коль скоро ты собрался умирать, – карандаш зло проскреб по бумаге, – сыграй напоследок по моим правилам.
– Во что ты хочешь сыграть?
Он сложил руки на коленях и не отрывал взгляда от выбранной потолочной балки.
– Игра называется «правда или ложь». Очень простые правила – мы по очереди что-то утверждаем, а другой угадывает, соврал второй или нет.
– И какой штраф?
– Никакого. Это игра на доверие.
– Я знаю эту игру, – усмехнулся Мартин. – Тот, кто не отгадал, пьет.
– Ну тогда мы не дойдем до самолета. Ты желаешь Виктору смерти – правда или ложь?
– Правда.
– Врешь, – устало ответила она. – Слышу, что врешь.
– Я знаю, что он должен умереть, и сделаю, что должен сделать…
– Потому что он поставил условие убить его?
– Ложь, – с облегчением ответил Мартин. – Не поэтому. Ты не любишь родителей, – он выбрал вопрос, ответ на который и так прекрасно знал.
– Правда. Всегда хотела, чтобы они меня любили, а теперь думаю, что сама виновата. Это я их никогда не любила.
– Неправда, – Мартин отвел взгляд от балки и посмотрел на Нику. Она рисовала и словно ничего вокруг не видела. На миг ему показалось, что рисунок словно подсвечивает ее лицо.
– Правда. Я сама во всем виновата, – тускло ответила она. – И он всегда так говорил. Когда не успевал запереться. Один раз раздел и запер на балконе зимой. Сказал, если буду скулить – обольет водой. В другой потушил об меня сигарету. А иногда трахал, прижав лицом к подушке – ну, чтобы не видеть, что это я – и знаешь, что я чувствовала? Ничего. Только ладонь он всегда мне на спину клал, и вот она была горячей. Каждый раз думала, что ожог останется. А больше ничего. И всегда говорил, что это я во всем виновата. Не объяснял в чем, но я ему верила. Ну, ты все это знаешь.
Она подняла взгляд, полный ледяного серого злорадства, а потом вернулась к рисунку и прежней отстраненности.
– Тебе было приятно это говорить. Правда или ложь? – спросил Мартин, удивившись, как ровно звучит его голос – казалось, он сорвался и падает в свою черноту, и она смыкается над головой, словно ледяная вода.
– Правда.
– Больные! – внезапно с ненавистью процедила сидящая рядом с Никой женщина. Она не вставала, не то боясь разбудить ребенка, не то потому что рядом не видно было свободных мест. – Вам обоим лечиться надо, ясно?!
Мартин хотел сказать что-нибудь миролюбивое и даже приготовил неубедительную ложь про пьесу или задание психолога, но Ника его опередила.
– Лучше бы ты, – она бесцеремонно ткнула женщине в плечо карандашом, – следила, чтобы он, – на ребенка она просто указала, – не вырос похожим на одного из нас. Тебе на это понадобятся все силы, некогда будет греть уши и лезть, куда не просят.
Женщина вскочила. Ребенок у нее на руках заплакал, но она, казалось не заметила. Нависнув над Никой, и словно позабыв о Мартине и всех людях вокруг, она шипела ей в лицо что-то о манерах, уважении к старшим и угрожала вызвать охрану. Ника слушала ее, прижав к груди рисунки. Смотрела снизу вверх, и Мартин заметил, как дрожат ее губы. Он встал перед ней и собирался отвести женщину в сторону, когда услышал смех – словно ветер со снегом хлестнул по спине.
Женщина замолчала. Несколько человек обернулись к ним, остальные словно не заметили происходящего, а Ника смеялась – высоко, звонко, одной рукой вытирая выступившие слезы, а другой продолжая прижимать к себе рисунки.
И вдруг Мартин услышал другой смех – знакомый инфернальный хохот Мари. Ему казалось, женщины смеются в унисон, сплетая чистую звенящую горечь и торжествующую темную глубину.
– Вон там есть место, уважаемая, – опомнившись, показал он на другой конец зала. Женщина растерянно посмотрела на него, словно до этого не замечала и, подхватив сумку, пошла в другую сторону.
Когда Мартин обернулся, Ника рисовала, нацепив привычную маску.
– Твоя очередь, – мрачно сказал он, возвращаясь на место.
– Вон туда, – она указала кончиком карандаша на балку.
Несколько минут они молчали. Мартин слушал ледяные объявления рейсов и чужие голоса, то сливавшиеся в белый шум, то накатывающие волнами обрывков фраз и отзвуком интонаций.
Наконец Ника тронула его за плечо.
– Недавно ты выглядел так. Правда или ложь?
Она показывала его портрет – лицо, которое он раньше видел в зеркалах. Этот человек был молод, утомлен, и в глазах читалась тоска, и все же лицо словно было подсвечено изнутри. Надеждой, любовью? Мартин уже не помнил этого чувства, но ясно видел свои черты.
– Да.
Ника, ухмыльнувшись, вытащила рисунок, на который смотрела – потрет, который рисовала дома. Взрослый мужчина, с совсем другим взглядом. А потом вырвала и новый портрет и пролистнула несколько страниц.
Теперь она показывала три портрета – третьим был Милорд, которого она рисовала со слов Виктора. Он был похож на Мартина так, что он и сам не отличил с первого взгляда, но теперь было ясно видно, что на портретах – совершенно разные люди.
Мартин с трудом заставил себя оторвать взгляд от портретов и посмотреть на Нику. Она улыбалась.
Нужно было врать. То, что лица вышли разными ничего не доказывало. Наверное, стоило рассмеяться, обратить все в шутку – постороннему отличия могли быть просто незаметны. Но одно различалось совершенно точно – суть.
Молчание затягивалось. Казалось, оно разливается в воздухе, заставляя аэропорт постепенно затихать – Мартину казалось, что люди постепенно замолкают, объявления становятся тише и даже гул со взлетной полосы звучал все глуше.
Впервые за долгое время он совершенно не знал, что делать – Ника, еще полчаса назад жавшаяся к его ладони, стала далекой, словно фреска под крышей храма, обличающая и белоснежная.
А потом в кармане его пиджака зазвонил телефон, разбив тишину въедливой трелью, и мир опрокинулся, вернув его в проем.
– Да?! – голос Виктора был сиплым, словно он только что проснулся или сильно простыл.
– Диму убили, – безмятежно сообщила Лера. – Кто-то зарезал его в собственной квартире. Два дня назад.
– Не может быть. Он два дня назад к тебе приходил…
– Да! А потом его, сука, зарезали! – спокойный голос Леры сорвался в визгливую, паническую дрожь. – Знаешь как?! У него тридцать ранений в живот! Тридцать, твою мать, ранений, а сказать, что у него на башке?!
– Постой, погоди…
– Менты приходили! Сказали, я последняя, с кем он разговаривал! Я им все сказала, и что Оксана пропала, все! Не переживай, твой набор юного химика я в пыль расколотила и по всему городу осколки раскидала, – наконец Виктор расслышал знакомые ехидные нотки.
– Молодец, – ровно ответил он. – Если это не он, то конечно нужно… Ты ее перекрасила?
– Не успела! Что за херня, ты можешь мне сказать?! Дима не был похож на девочку-блондинку! Какого ты хрена устроил?!
– Я?! Я последние дни просидел в ванной за тысячи километров от тебя!
– Тогда какого черта?! – сначала голос стал жалобным и тихим, а потом в трубке послышались частые, приглушенные всхлипы. – Где моя сестра?! Я ее не для того с детства на себе тащила и воспитывала, чтобы сейчас кто-то ее прирезал! Из-за тебя! Это все, сука, из-за тебя, будь ты проклят со своими венками!
Трубка захлебнулась частыми гудками. Виктор стоял, прижимая к уху телефон и зачем-то слушал, и каждый гудок казался беспощадной точкой, отдающийся головной болью.
Если бы он не знал, что Мартин надежно заперт в его сознании – решил бы, что это он методично превращает его жизнь в кошмар.
И впервые в жизни в сознании шевельнулось нечто вроде тревоги за вторую сестру – она была с человеком, который ненавидел его, не умел убивать или не хотел делать это чисто.