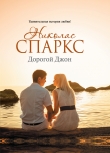Текст книги "Милорд (СИ)"
Автор книги: София Баюн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Но теперь все было наоборот. Все, что Мартин тогда посчитал жестокостью, родилось снова. В новую любовь, так непохожую на прежнюю. Теперь Ника не покинет его никогда, как бы жесток Виктор ни был.
И Мартин точно знал, что стоит Нике отдать ключ – случится новый припадок, накатит новая волна безумной черноты. Сможет он спасти ее?
Он закрыл глаза. Там, в глубине сознания щерились красноглазые воспоминания о потаенных желаниях Виктора. Каждое отпечаталось будто на негативе, и Мартин видел ясно их все.
Самые мутные, блеклые, будто вымытые акварели, были связанны с Милордом. Контролируемая, спланированная жестокость, выплетенная манипуляция. Те, что были темнее и ярче дышали ненавистью и к Мартину. Виктор думал, стоит ли прикидываться, если можно подставить настоящего человека. Эти мысли были притушены горечью стыда.
Но самые яркие были незамутненным звериным безумием. Эта жестокость была безыскусна и вульгарна, в ней не было ни следа изысканного садизма, который предпочитал Виктор. Мартин читал эти образы и его тошнило – там не было ничего, кроме пыток, насилия и медленной, мучительной смерти.
Но страшнее всего были не картины, которые видел Мартин, а чувство, которое испытывал Виктор, когда они прорывались в его сознание. Это был горький, обреченный ужас и животная тоска, от которой ломило зубы и сводило горло подступающим воем.
– Что же ты будешь делать? – шепнула Мари. Проницательная Мари, появляющаяся ниоткуда в самый неподходящий момент.
– Не знаю, – признался Мартин. – Я… не знаю.
– Все ты знаешь, – грустно сказала она. – Пока он ее не убьет – не успокоится. И когда убьет… успокоится не сразу. Он ни за что не простит такого унижения, а девочка ни за что не станет думать головой. А еще ты знаешь, что ему нужно вернуться домой, потому что Лера ни в чем не виновата, и ему действительно надо решать свои проблемы.
– Я не хочу, – тоскливо признался он. – Почему я, можешь сказать? Мне… мне небезразлична эта девушка. Она больная, несчастная, но…
– Искренняя, котеночек, – подсказала Мари. – Мы все лжем друг другу, а единственная настоящая сумасшедшая говорит правду. Между прочим, она тебя тоже убивать не хочет, но ты ведь ее заставишь.
– Виктор тоже сумасшедший, – невесело усмехнулся он, пропустив болезненную шпильку.
– Меньше, чем мы с тобой, – серьезно ответила она. – Нам придется это сделать.
– Вот на этот раз спрятать труп будет невозможно, – Мартин встал с кресла и заходил по комнате. – А если… если… прятать, – он сделал неопределенное движение рукой, будто очертив человеческую фигуру, – надорвусь. И меня не хватит, даже если наклонюсь над проемом и горло себе вскрою.
Мари забралась с ногами на кресло и положила подбородок на спинку. Она молчала и хмурилась, поглаживая обивку.
– Если не можешь врать хорошо – ври плохо, – наконец сказала она.
– Он почувствует.
– Пускай, – улыбнулась она.
Мартин остановился. Мысли взметнулись, словно встревоженные мотыльки. Все образы, что он видел сегодня, убийство на парковке, Мари, единственный раз шагнувшая в проем, чтобы спасти Нику. А потом – Дара – мертвая девушка в грязной городской реке, настоящая Мари, улыбающаяся ночному небу подрезанными уголками губ, Ника, медленно сползающая в темно-бордовую воду, над которой поднимается железный пар.
А потом – темный коридор и прохладные пальцы, скользящие по его лицу, словно Ника в полутьме пытается узнать его. И неожиданная, щемящая мысль о том, что только она видит его настоящим. Не только знает его по имени, но и видит его черты.
– Я не хочу, – шепотом повторил он. – Не хочу этого делать. Я никому не хочу делать больно, почему так?!
– Потому что ты добрый, – безжалостно ответила Мари. – Добрым быть всегда больно, котеночек.
…
Виктор проснулся и не стал открывать глаза. Ему было страшно – впустив в сознание белые квадраты кафеля, позволив миру обрести очертания, он обязательно примет решение, которое настойчиво пульсировало в животе, висках и переносице всю ночь.
Ему снилась серая река и мост с черными ажурными перилами. Только теперь он рвался к мосту через густую ледяную воду, туда, где по волнам расстилался алый след, красящий лепестки белых цветов. Он захлебывался отчаянием и затхлой водой, в которой с каждым движением все отчетливее слышался пряный кровавый привкус. И когда он наконец-то доплывал чувствовал, как мокрое белое платье облепляет руки и видел, как в остекленевших глазах Леры брызгами отражаются звезды, Виктор больше всего хотел проснуться. Но кошмар не был милосерден, и заканчивался только когда он прижимал ее к себе, и они вместе касались скользкого, неожиданно твердого дна.
А потом сон начинался с начала.
Собственное сознание пытало его всю ночь, душило болью и бессильной злобой, а утром, перед самым пробуждением обрушило, как глоток воздуха, единственное решение. То самое, которое Виктор не хотел принимать.
– Мартин… – просипел он в темноту.
«Да».
– Как перестать ее ненавидеть?
«Нет никакой ненависти», – спокойно ответил Мартин, и Виктор почувствовал в воздухе слабый, нарастающий запах другой воды – нагретой солнцем теплой и чистой воды лесного озера, о волны которого разбивается яркое, живое весеннее небо. Почувствовал, как теплые ласковые пальцы сжимают его запястье.
– Это неправда, – он брезгливо попытался отряхнуться от липкого назойливого видения. – Я прошу о помощи, Мартин, а не впихнуть мне очередной сиропчик про…
Он замолчал, отчетливо понимая, что все следующие слова будут бесполезны. Морок Мартина растаял – слабая и хрупкая преграда, которая давно не могла остановить лавину подступающей тьмы.
– Ничтожество, – прошептал он, открывая глаза. – Какое же ты ничтожество, а я всю жизнь тебя слушал и потакал… – Ненависть сжалась где-то под ребрами. – Хотел умереть, думал ты заслуживаешь жизни… чтобы ты позволял каждой мокрощелке, скорчившей печальную мордашку, вытирать об тебя ноги?
Мартин молчал, и Виктор чувствовал его отчаяние, сильное, ровное и какое-то унизительно покорное. Он даже не постарался помочь, бросил его, Леру, отвернулся, брезгливо морщась – как же, такие, как они не достойны его сочувствия! И теперь он не пытается сделать хоть что-то, только молча смотрит и боится того, с чем Виктору приходилось жить все эти годы.
«Прошу тебя, – прошептал Мартин, – не надо…»
Виктор открыл глаза. Ненависть вдруг перестала душить, она разлилась в воздухе колючими электрическими нитями. Проникла в легкие, разлилась в крови, наполнила глаза красными сполохами.
Цепь поддалась со второго рывка.
Отчаяние и животный ужас Мартина отозвались тягучим предвкушением.
Виктор рывком распахнул дверь. Чашка с чаем жалобно зазвенела о стену, оставив неопрятное пятно, но эта грязь казалась почти произведением искусства.
Он собирался развести очень много грязи.
…
– Ах ты паскудная дрянь… – с нежностью шептал Виктор, вытирая руки о подол разорванного платья.
Он и представить не мог, что убийство, которое совершил другой человек, может принести гораздо больше удовольствия.
Но «удовольствие» было маленьким словом. Удовольствие можно получать от еды, искусства, секса или наркотиков. Убийство отзывалось исступленным экстазом такой силы, что не мог дать ни один порошок, ни одна таблетка и ни одна женщина. И сейчас, глядя на растекающуюся по белоснежному кафелю кровь, он думал, что отец все-таки был умнее, чем ему казалось. Заставив Мартина вскрыть Нике горло, он переломил чувства, как поток света через сотню призм чужой боли, обреченного отчаяния и протеста, а еще – тоски, сбивчивого шепота «сделай это, мне так больно…» и звериного ужаса.
– Что же ты, Мартин, у тебя больше не такие чистые руки?
«Я все еще в тебя верю», – неожиданно ответил он.
И вдруг легкие наполнила шершавая боль, заставившая сознание конвульсивно сжаться в тугой, перекрученный ужасом комок. А потом он сделал неожиданный рывок – от залитой кровью ванной, от обезображенной мертвой девушки на полу, от собственных поступков куда-то к свету, к звенящему, чистому воздуху, облившим холодом виски.
… В ванной было темно и пахло хлоркой. Вода стекала с волос на лицо, ледяная рубашка липла к коже, а наручник все еще сжимал запястье.
– Мартин, помоги мне, я больше не могу… – в отчаянии прошептал Виктор. И на этот раз почувствовал настоящее отчаяние – тяжелое и липкое, без следа наигранной покорности.
«Я делаю все, что могу. Клянусь тебе, но ты должен сам захотеть».
– Что ты делаешь, Мартин? – догадка вспыхнула, словно молния. – Что ты… делаешь?
Вспыхнула – и погасла. Какая разница, если там, за тысячи километров отсюда его сестра совершенно беззащитна перед наступающей бедой, если все, что он ей оставил – железная дверь с хорошим замком, деньги и напутствие быть осторожнее?
И если здесь темно, а цепь по-прежнему на месте – значит, Ника жива. Не мигая смотрит на закрытую дверь и представляет, как справедливость торжествует – он тонет в том самом кошмаре, в который превратил ее жизнь.
Что она знает о кошмарах.
Цепь так и не поддалась – наручник внезапно разжался с оглушительным щелчком, словно карабин на ошейнике бешеного пса. Виктор не задумывался, какая там разжалась пружина от его рывков – он распахивал дверь и слушал, как бьется о стену чашка.
…
Мартин не мог открыть глаза. Не мог пошевелиться, не мог даже понять где он. Помнил, как падал лицом вниз на шершавые доски беседки, не попытавшись даже выставить перед собой руки. Сейчас голова лежала на чем-то мягком, вокруг было тихо и мир был в общем-то прекрасен.
Мешал только навязчивый приторный запах духов.
Он хотел спросить что происходит, но не смог – губы как будто сшили частыми стежками.
– Тише, котенок. Поспи еще, – раздался тихий голос, и на лоб легла шершавая теплая ладонь.
И в этот момент он вспомнил все – кровавое безумие последних часов, ледяную воду, неподатливую цепь, сломанную трубу и раскрытые наручники.
– Там… – прохрипел он, пытаясь перевернуться.
– Ты ушел когда закончил. Останься, не ходи, – попросила она.
– Нет… не могу… надо…
Он сумел встать на колени, по-прежнему не открывая глаза. Постоял так несколько секунд, низко опустив голову, а потом, тяжело опершись рукой о пол, попытался выпрямиться. Мари молча подняла его и, взяв за обшлаг, заставила положить руку на перила.
– Вот так, давай. А теперь открой глаза.
Он послушно попытался, но ничего не вышло. Мартин кончиками пальцев дотронулся до век. Замер, а потом бессильно уронил руку.
– А я предупреждала, – горько отозвалась Мари.
Он все же открыл глаза. Беседка виделась ему словно в легкой туманной дымке. Очертания слегка смазывались, заставляя щуриться, чтобы сделать мир более четким.
– Еще пару раз так сделай – вообще ослепнешь.
Мартин машинально зачесал назад падающие на лицо волосы, а потом непонимающе уставился на ладонь. Между пальцами остались несколько прядей совершенно седых, неожиданно тонких волос.
– Она действительно… Ника действительно меня не убьет, – прошептал он и улыбнулся, проводя ладонью по лицу. Морщины у крыльев носа превратились в тяжелую носогубную складку, а морщина между бровей почти касалась переносицы.
– Он еще улыбается! – всплеснула руками Мари. – Герой, чтоб тебя! Что б ты знал – скоро станешь совсем старикашкой и перестанешь мне нравиться!
– Отлично, – с чувством ответил он.
Вышел в комнату и выглянул в проем – Виктор не то спал, не то лежал в обмороке.
– Куда собрался?! – Мари неожиданно схватила его за воротник когда он хотел шагнуть в проем.
– Переложить… и хоть полотенце дать, – с легким удивлением ответил он.
– Мартин, ты дурак? – в ее глазах вспыхнуло неподдельное сочувствие. – Головой тронулся пока над проемом висел? Может ты ему бульона сваришь, по головке погладишь и сказочку расскажешь, ну чтобы он поскорее в себя пришел и опять за нож схватился?
– Он же… сопротивлялся. Он все это время… сопротивлялся.
– Поэтому тут все еще трупами не завалено. Иди поспи, у тебя завтра тяжелый день – придется расхлебывать вчерашнее торжество справедливости.
Мартин хотел было послушаться, но из темноты проема раздалось тихое, сдавленное ругательство.
– Да пошел ты, – печально сказала Мари ему в спину за секунду до того, как он сделал шаг в проем.
Первое, что он почувствовал – неожиданное сухое тепло. Он ожидал проснуться в ледяной ванне в мокрой одежде, но кожи мягко касалась микрофибра подклада спальника. Кто-то обнимал его за плечи и подкладывал под голову свернутое одеяло.
– С ума сошла?! – с яростью прошептал он, отталкивая руку. – Какого ты делаешь?!
– Надо было оставить? – Ника не изменяла привычным интонациям, а глаз ее Мартин не видел в темноте.
– Отойди в коридор, – вместо ответа потребовал он, переворачиваясь.
Виктора ждало отвратительное пробуждение. Мигрень разливалась по голове и стекала по шее, отдаваясь где-то под лопаткой, в каждый сантиметр поясницы словно забили по гвоздю и еще по одному в глаза и переносицу, а горло стянула шершавая пульсация. Но волосы его были сухими, как и спальный мешок, в котором он лежал, а мокрая одежда обнаружилась на полу.
– Он очень опасен, – извиняясь, сказал он в коридор.
– Я знаю, – отозвалась темнота голосом Ники.
– Нет, сейчас… особенно опасен.
– Я знаю, – повторила она. – Подожди.
Мартин уперся лбом в согнутые колени. Никакой неловкости он не испытывал, но произошедшее казалось совершенно абсурдным и вызывало глухое раздражение, за которое было по-настоящему стыдно. Он чуть не умер, чтобы спасти ее, и умер бы, если бы понадобилось. А она подставлялась, чтобы поправить одеяло своему будущему убийце. Это было бы похоже на обычную семейную драму с женщиной, терпящей побои от непредсказуемого алкоголика-мужа, только вот Виктор был гораздо опаснее алкоголика, а Ника прекрасно понимала, что делает, и не искала ему оправданий. И главное – искренне и чисто ненавидела его. Если в ее любви Мартин мог сомневаться, считая плодом порочной связи лжи и воображения, то ненависть не оставляла сомнений в своей искренности.
Дверь приоткрылась и раздался торопливый звон керамической чашки о металлический поднос. Мартин почувствовал, как в глаза плеснуло красной воспаленной мутью, а потом горло рывком сжало удушье. Мир на несколько секунд перестал существовать.
Он пришел в себя, лежа на дне ванны, судорожно сжимая борта.
– Чтоб ее, проклятая чашка, – прошептал он, пытаясь выпрямиться.
– А с чашкой он что делал? – равнодушно спросила Ника из темноты.
– Разбивал. Открывал дверь и… ты что, слышала?
– Весь спектакль. Каждую «паскудную дрянь».
– И что ты…
– Ничего, Мартин. Наплевать. Я знаю, что моя жизнь может закончиться именно так. Знаю, что Виктор иногда… хочет моей смерти, и что он иногда делает больно. И не всегда успевает запереться в ванной.
Он слепо нашарил чашку, вздрогнул от отвращения, но все же взял ее. Чай оказался горячим, крепким и неожиданно сладким. От него боль в сорванном горле постепенно становилась слабее.
– Спасибо, – сказал он, удивившись ясности своего голоса. – Не закончится. Я обещал. Но тебе не стоит к нему подходить, если он в таком…
– Не надо, – перебила Ника. – Не читай мне нотаций. Думаешь, я не понимаю? Мне не страшно. Я живу с ним только потому что давно разучилась бояться.
Мартин открыл было рот, чтобы сказать, что страшно как раз ему, но слова стали комком в воспаленном горле, безжалостно заскребли усиками и лапками. И он смыл их глотком остывающего чая.
– Мартин? – неожиданно беспомощно сказала Ника. – Я знаю, что он после таких… что ему очень плохо и он шевелиться почти не может. Но это же ты говорил, что мир становится правильным, когда мы живем так, как будто он уже правильный.
– В правильном мире не режут девушек на куски, – устало ответил он.
Он чувствовал себя изможденным и больным. Все-таки для Виктора не прошла даром ни ледяная вода, ни изматывающие видения.
– В правильном мире человек, который не режет девушек на куски не страдает из-за того, кто режет. Расскажи мне, что было днем, – вдруг попросила она.
– Убийства, – пожал плечами он.
– Это не рассказ. Ты разучился рассказывать?
– Ты хочешь послушать, как он тебя убивал? – огрызнулся Мартин, не в силах сдерживать раздражение.
– Нет. Ты хочешь рассказать. Вот тут, – он не видел, но почему-то ясно представил, как она касается горла кончиками пальцев, – заперто. Я чувствую.
Он хотел возразить, отмахнуться. Потому что самым мудрым поступком было бы отпустить сейчас сознание, лечь спать и подготовиться к завтрашнему разговору. Ему придется очень много лгать, а еще он никак не мог отделаться от ноющего чувства в груди – у него не выходило ненавидеть Виктора. С каждым подобным срывом почему-то он все больше казался ему не маньяком и социопатом, а отравившимся бредящим ребенком, который безуспешно пытается избавиться от яда.
«Говори!» – мысль вдруг ударила по ушам колокольным звоном, разрывающим перепонки, но все равно льющимся в сознание.
Он не видел Нику, но чувствовал ее неотступное присутствие. Где-то там, за дверным проемом, в темноте был человек, который, наверное, все же любил его. И эта мысль неожиданно словно бритвой полоснула по горлу – заваренный чай, давящая тишина, обнимающая деревенский дом и кто-то, готовый протянуть руку – Мартин не знал такой любви. Не знал такой любви для себя.
«Говори!» – рвалось изнутри, болезненно и звонко.
И вслед за звоном, за призраком бритвы, коснувшейся горла, словно на миг ослабла вечно натянутая в душе струна.
Все еще готовая зазвенеть, если тронуть, но устало и глухо.
И Мартин начал говорить, глухо и устало, неохотно и тяжело. Каждое слово было словно приступ режущего сухого кашля – обжигало легкие, раздирало горло и не приносило облегчения. Но постепенно слова обретали силу, о которой он успел забыть. Они выплетались в мягкую сеть, укутывающую мечущееся сознание. Мартин мимолетно подумал, что мог бы произнести все эти слова и раньше, но теперь, когда кто-то по-настоящему мог их услышать – все стало совсем по-другому.
Если бы только он мог совсем не лгать ей.
«Говори!» – Чей это голос? Мари? А может, девочки с растрепанным именем Риша?
Он рассказал о женщине на станции, которой дал бумажного журавля, о письме, которое написал Нике, о том, как собирался умереть под колесами машины. Рассказал, как молча смотрел на убийство на парковке и ничего не мог сделать. Рассказал, как позволил Виктору следовать своим желаниям сегодня днем, пропуская их через себя, усиливая и извращая еще больше, а потом возвращая обратно.
– Я дал ему что он хотел. А потом еще раз. И еще, пока сознание не начало отторгать… понимаешь? Я не мог ему запретить. И не был уверен, что у этого… вообще есть дно. Что у его жестокости… есть предел. Но мы его нашли – я почти уверен, что он тебя не тронет. Даже если отдать ключ.
– Девушка из театра… – неуверенно начала Ника.
– Я не успел, – горько ответил Мартин. – Не смог, он тогда уже себя не контролировал, к тому же был на свободе, а не пристегнут…
– Мне так жаль…
– А как мне жаль, – тихо сказал он, не мигая глядя в черноту проема. – Как мне жаль…
Комок в горле немного ослаб, но остался тяжелым, липким и тугим. Вся ложь осталась с ним, и Мартин с тоской подумал, что правду говорить действительно легко и приятно. Если бы он только мог не говорить ничего, кроме нее. Вернуть то время, когда… когда лгать не приходилось?
«Ничего не будет», – первые слова, которые он сказал маленькому Вику. Он видел ребенка, напуганного темнотой коридора и легко пообещал, что там не таится никаких монстров. «Ничего не будет».
Если бы он тогда мог проскользить по темноте, заглянуть ей в глаза.
Темнота коридора и шаткой лестницы упиралась в дешевую дверь отцовской комнаты – монстр был совсем рядом.
Если позволить темноте нести себя дальше – над полем и путаными тропинками, прямо к дому с зелеными дверями, где живут родители девочки Риши – можно увидеть несчастного человека, который кажется монстром и монстра, который хочет казаться несчастным человеком.
А если не остановиться, пролететь над крышами, над спящими окнами, пролиться по остывающим рельсам прямо к городу, а там, прилипая к глубоким теням на стенах, добраться прямо до стоящей в глубине зеленых дворов пятиэтажки. Там, на третьем этаже, за простой железной дверью прячется маленькая, пропахшая табачным дымом, духами и чистящими средствами однокомнатная темная квартирка с неуютной кухней, на которой только курят и пьют кофе, и захламленной спальней, в центре которой стоит огромная кровать. Кровать покрыта ровным слоем распечаток, книг, коробок с конфетами, а вокруг нее стоит целый сторожевой бастион пустых чашек. И на этой кровати, на самом краю, спит, свернувшись клубочком, еще совсем юная студентка театрального училища. Может, у нее еще даже нет шрамов на руках.
«Ничего не будет», – какая циничная и грязная ложь, его первые слова.
– Мартин? – голос Ники ворвался в сознание внезапно, как ветер в раскрытое окно. – Эй, ты кажется только что сказал правду.
Он с запоздалым ужасом понял, что все это время не переставал говорить. А еще что в голосе Ники звучала только улыбка.
Она все это время знала, что он ей лжет.
Слово «спасибо» трепыхнулось, ударилось о небо и растаяло, словно пристыженное своей неуместностью. Но Мартин был уверен, что Ника услышала и его.
…
Сон словно набросил на голову непроницаемый бархатный мешок. При попытках освободиться он лишь сильнее прилипал к глазам и затягивал завязки на горле. Виктору не хотелось его сбрасывать. Он слишком устал. Реальность была слишком больной и жестокой – там он снова станет убийцей, монстром, раз за разом срывающимся в кровавое безумие и растирающим кровь по кафелю.
Воспоминания вырвались из груди хриплым стоном. Ужас многоножкой с тысячей цепких лапок взобрался по пищеводу и обвил голову венком.
Он убил ее?
Он действительно убил ее?
Все эти чувства и мысли протянулись в несколько бесконечно долгих, беспощадных секунд. А потом Виктор понял, что его разбудило, и сон слетел, как отдернутая занавеска, а многоножка вонзила глубоко в череп сразу все лапки и не забыла хлестнуть по лицу ядовитым хвостом.
На стиральной машине надрывался телефон. Виктор схватил его, успев увидеть, что часы показывают четыре утра.
– … пропала! Возьми, сука, трубку, Оксана пропала! – надрывался динамик голосом Леры. – Вик, она пропала, возвращайся, пожалуйста, скорее возвращайся…
Цепь была на месте. Ника была жива. А где-то там, в сером холодном городе исчезла его сестра.