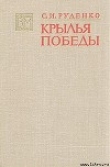Текст книги "Закаленные крылья"
Автор книги: Симеон Симеонов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
День выдался знойный. От земли поднимался раскаленный воздух, как из жарко натопленной печи. Из-за вершины горы появилась черная туча. За минуту-другую она превратилась в грозовое облако. Орел знать не знал о том, что может произойти через мгновение, и не думал покидать свое царство. Он решил принять бой – бой не на жизнь, а на смерть. Облака спускались вниз, извергали огненные молнии, а раскаты грома предупреждали людей, что им надо искать убежище. И люди поспешно прятались под деревьями, телегами или забирались в машины. Лишь орел не собирался прятаться. Да и кто осмелился бы заставить его отказаться от прогулки? Из темных туч в любой момент могли низвергнуться на землю мутные потоки воды и затопить всю равнину. И, как всегда перед бурей, воцарилось безмолвие. Все живое на земле как будто было парализовано, не слышалось ни звука. Только орел мощными взмахами крыльев пытался бороться с бурей. Посыпался град – тяжелые кусочки льда покрыли равнину словно белой скатертью. А куда же исчез орел: пал в битве или улетел, чтобы спастись?
Целый час бушевала буря, а когда затихла и усталые облака отступили в горы, в прозрачном холодном небе орел появился снова. Перья его потеряли прежний блеск, но взмахи крыльев остались такими же мощными. [226] Он явно устал, но не покидал неба. Как будто отбушевавшая буря была для него чем-то обычным…
Обо всем этом поведал кто-то из летчиков. Но большинство из слушавших его рассказ усомнились в правдивости рассказанного. Скорее всего, это было похоже на сон или позаимствовано из какой-нибудь книги. Однако все сошлись на том, что рассказ очень поучителен для летчиков. Автора этой притчи вскоре забыли, а вот его рассказ в компании авиаторов вспоминали довольно часто.
О нем вспомнили однажды и в доме бригадира животноводов в Брестнице, куда часто наведывались летчики. Стоило хозяину дома Бончо подружиться с одним из пилотов, как все товарищи летчика стали его друзьями.
– А я вам вот что скажу, – разговорился в тот раз симпатичный летчик Антов, – нет среди нас такого человека, который при полете в условиях сплошной облачности так ни разу и не ощутил бы, как у него засосало под ложечкой. Покажите мне такого! И если он будет твердить обратное, я скажу ему, что он лжет.
– Не знаем таких! – одновременно воскликнули несколько человек.
– Так, значит, нет таких? – торжествовал Антов. – Полеты в облаках – а мы это испытали на собственной шкуре – отражаются вот здесь. – И он показал на голову.
– Но разве на твоей голове отражаются только полеты в облаках? – спросил один из присутствующих. – А когда зажигается аварийная лампочка, чтобы предупредить о том, что кончается горючее? Тогда ты как себя чувствуешь? Как будто у тебя на шее затягивается петля…
– Ну, раз нервы выдерживают, значит, не о чем и говорить! – вмешался в разговор Васильев. – Все упирается в выносливость нервной системы. Антов прав. Каждый полет в облаках отражается на работе мозга. Я сам это пережил. Чувствуешь, что кто-то надувает твою голову, как футбольный мяч, и если не выдержишь, то мяч лопнет! Так вот скажите мне, что такое, нервы? Я спрашиваю о нервах не с точки зрения анатомии. Мы только условно можем говорить о нервах, – продолжал он. – По-моему, все упирается не в устройство организма, [227] а в дух летчика. Дух надо воспитывать, его никто не получает в готовом виде. Дух человека проходит тот же путь развития, что и сама личность. Это различные вещи, но вместе с тем это и одно целое. Когда мы говорим «крепкие нервы», то под этим понимаем, что у человека закаленный дух.
– Закаленные крылья! – вмешался Антов, который, облокотившись на подушки, разложенные вдоль стены, внимательно слушал сидящих за столом. – Надо закалять крылья! Кто рассказывал нам об орле? Мне очень понравилось, что орел и после бури, изможденный, все так же мощно взмахивая крыльями, продолжает свой полет.
– А я вам расскажу о случае с Тарпомановым, и вы убедитесь, что нельзя все мерить одним аршином, – сказал смуглый старший лейтенант.
– Да знаем мы об этом случае! – вмешался другой. – Лучше я расскажу вам о Стиляне Пееве…
– Но случай с Петринским еще интереснее…
– Здесь вместе с нами наши жены и дети. Давайте рассказывать по очереди. И пусть слушают, чтобы они лучше поняли душу летчика. Пусть жены гордятся нами, а дети знают: то, о чем они читают в приключенческих романах, нам приходится переживать ежедневно. Ну, кто начнет первым? Вылков?
Тарпоманов был одним из тех летчиков, которым вечно не везло. Он, чрезмерно чувствительный человек, болезненно переживал свои неудачи. Можно было лишь удивляться ему. Умный, упорный, нисколько не трус, но, как только поведет самолет на посадку, непременно что-нибудь напутает. Сначала командир делал летчику замечания, а потом махнул рукой и предоставил ему возможность производить посадку как получится. Тарпоманову порой плакать хотелось. Самым близким друзьям он признавался, что если за месяц-два не научится правильно сажать самолет, то уйдет из авиации. Друзья старались успокоить его, уверяя, что это не такая уж большая беда и незачем такие пустяки считать позором. Тарпоманов не хотел ничего слышать. Он твердо решил: как только истечет определенный им самим срок, он распрощается с авиацией. Но раньше чем наступил этот срок, прибыли сверхзвуковые самолеты, и он еще больше приуныл. [228]
– Я, друзья, – говорил он с грустью, – безвозвратно пропал. Теперь мне наверняка придется уйти.
Коллеги сочувствовали своему приятелю, которого полюбили за честный и прямой характер, и в день его первого полета на новом самолете сильно переживали за него. В тот день впервые летали и другие летчики, поэтому на аэродроме собралось много народа. Вот тогда-то и случилось непредвиденное. Добрая половина из тех, кто летал, планируя при посадке, допускали ошибки. Командир злился и кричал:
– Вы все похожи на Тарпоманова! Раньше у нас был один Тарпоманов, а теперь таких, как он, появилось много!
Последним к аэродрому на посадку заходил Тарпоманов. После неудачи значительно более опытных летчиков никто не сомневался в том, что и Тарпоманов наверняка… Взгляды всех приковала к себе огромная темно-серая туча, закрывшая, подобно театральному занавесу, все небо. Из нее-то и вынырнул самолет Тарпоманова и начал плавно снижаться. Чем ближе он оказывался к бетонной полосе, тем сильнее волновались все собравшиеся. И Тарпоманову удалось сразить всех. Вы, должно быть, видели, как грациозно и изящно аист распрямляет поджатые во время полета ноги и, пританцовывая, опускается на луг? Так же легко и почти бесшумно шасси самолета Тарпоманова коснулись земли, и машина плавно промчалась по взлетной полосе в другой конец аэродрома. Можете себе представить, какой восторг вызвало это зрелище!
Многие считали, что эта удача – результат счастливой случайности. Но на следующий день повторилась та же история. С этого дня к летчику вернулась уверенность. Он часто рассказывал потом, что в ночь перед вылетом дал клятву: или он посадит самолет по всем правилам, или тотчас же навсегда распростится со своей профессией. Дав подобную клятву, он сразу же почувствовал удивительное спокойствие и прилив мужества.
Что все это не просто слова, Тарпоманов доказал позже, когда у него зажглась аварийная лампочка в ста километрах от аэродрома. А что за этим может последовать, испытали на себе немногие из летчиков…
Тарпоманов весь напрягся и пристально следил за зловещим огоньком аварийной лампочки. Но ей не удалось [229] парализовать летчика, как это случалось с другими. Оставалась только одна возможность спастись – не думать о существовании лампочки и вести самолет к аэродрому так, словно все идет нормально. Но кто может сохранять самообладание, когда световой сигнал с неумолимостью прокурора читает твой приговор?
Пилот сообщил на командный пункт о том, что у него кончается горючее. Но люди, которым ничто не угрожало, могли только посочувствовать ему. Когда летчики попадают в подобную беду, им приходится выдерживать огромное напряжение. Увидев сигнал, они мобилизуют все свое мужество. И чем дольше горит этот зловещий свет, тем сильнее становится воля к борьбе, и человек напрягает последние силы.
Все это хорошо знал и Тарпоманов. Он чувствовал, как кровь приливает к голове, и это причиняло ему острую боль. Голова становилась все тяжелее, и происходящее воспринималось уже в каком-то тумане. Тарпоманов сознавал, что силы его на исходе. Но от этого его воля стала только тверже. Он понимал, что испытывает перенапряжение, но руки продолжали так же безупречно управлять машиной. И вдруг в его глазах вспыхнула искра надежды – аэродром оказался близко, настолько близко, что он невольно подумал: «Это земля раскрыла свои объятия, и просто невозможно через мгновение не припасть к ней».
Совсем иное произошло со Стиляном Пеевым. Однажды ночью в полете, когда он находился на высоте семь тысяч метров в сложных метеорологических условиях, отказал двигатель. А почему отказал в работе этот исключительно надежный реактивный двигатель? Оказалось, что фильтр для горючего сплошь покрылся кристалликами льда. Кто-то из техников не принял во внимание, что температура воздуха ниже нуля, и зарядил баки самолета неохлажденным горючим.
Снова подтвердилось правило, что в авиации за малейшую оплошность приходится расплачиваться жизнью.
В подобной ситуации летчик обязан катапультироваться. Полетами руководил майор Дельо Колев. Пеев сообщил ему, что не хочет катапультироваться и попытается спасти самолет. Трудно сказать, кто в тот момент взял на себя большую ответственность: летчик или руководитель полетов. У летчика совсем небольшой шанс [230] спасти самолет, если он все будет делать на свой страх и риск, и значительно больший шанс, если руководитель полетов возьмет на себя ответственность направлять его действия с земли. Майор Колев взял на себя всю ответственность, хотя и знал, что его ждет, если попытка спасти самолет закончится неудачей. А он мог легко отделаться от этой ответственности – просто приказать летчику катапультироваться.
В тот момент, когда они заключили свое безумное соглашение, началось то, что трудно описать словами. Самая незначительная ошибка руководителя полетов или летчика могла привести к тому, что их эксперимент закончится катастрофой. Один из них никогда больше не увидит земли, а другому придется до конца своих дней успокаивать собственную совесть. Люди, находившиеся тогда на командном пункте, рассказывали, что майор не проявлял никаких признаков волнения. Он даже нашел в себе силы время от времени шутить, чтобы приободрить пилота.
– Ну теперь левее! Легче, легче! Вообрази, что ты танцуешь танго и хочешь повернуть свою даму. Вот так, только без грубостей! Я помню, с какой красивой девушкой как-то встретил тебя!
Вдруг майор перестал шутить и перешел на приказной тон:
– Не так, не так! Еще левее, еще левее!
А как себя чувствовал Стилян Пеев, можно только догадываться. Но вел он себя отлично, хладнокровно и верил в безошибочность указаний своего руководителя. И это его спасло.
Испытание, выпавшее на долю Стиляна Пеева, продолжалось минут десять. А случившееся с Петринским заняло всего пять или десять секунд. Когда очевидцы рассказывали о нем, то искренне удивлялись его мужеству и проявленной сообразительности. На борту самолета Петринского находился груз бомб, их плохо смонтировали, и они могли при полете на большой скорости самовоспламениться и уничтожить самолет. Однако Петринский остался жив. Он вовремя почувствовал опасность, и его мастерство и самообладание спасли ему жизнь. Он катапультировался почти в тот самый момент, когда снаряды взорвались, и взрывная волна едва не погубила его. [231]
Все это только лишний раз доказывает, что если летчик не будет закалять свой дух, то легко может стать жертвой собственного несовершенства. Если нервы летчика не выдержат, очень невелика вероятность, что летчик справится с задачей в тяжелую и опасную минуту. А иногда чрезмерная самоуверенность губит и самых сильных.
Старший лейтенант Минев тоже пережил интересный эпизод. Ночью он взлетел с аэродрома по боевой тревоге и сразу же над хребтом Стара-Планины попал в густые облака, перенасыщенные электрическими зарядами. Они опутали его так, как осьминог опутывает жертву своими щупальцами. У летчика появилось обманчивое ощущение, что небо и земля поменялись местами. А это самое страшное из того, что может пережить одинокий человек в воздушном океане. Старший лейтенант Минев не понимал, что с ним происходит, и не знал, где он находится. Вместо его командира по радио отзывался совсем чужой голос. Перелетев хребет Стара-Планины, Минев потерял связь со своим аэродромом.
На командном пункте в ту ночь находился и заместитель командира по политической части Узунов. Руководитель полетов сразу понял, что имеет дело с летчиком с другого аэродрома и что задача перед ним очень трудная: спасти того, кто оказался в бедственном положении. Узунов чувствовал, что летчик ему не доверяет.
– С таким человеком не договоришься, – махнул рукой руководитель полетов. – Он даже не верит, что разговаривает с людьми, а не бог знает с кем – с призраками, что ли…
И майор Узунов на дежурной машине сразу же помчался к жилым корпусам. Он перепугал командира подразделения Благоева: стал барабанить кулаками в дверь его квартиры и одновременно нажимать на кнопку звонка. Сонный Благоев вскочил с постели и открыл дверь, даже не спросив, кто стучит. Заместитель командира по политической части быстро доложил командиру о случившемся и спросил:
– Вы знакомы со старшим лейтенантом Миневым?
– Ну как мне его не знать, он же служил у нас!
– У него появились галлюцинации. Меня он не слушает. [232] Пойдемте, поговорите с ним, может быть, он успокоится, услышав вас.
– Черт побери, Узунов, ты ничего другого не мог придумать? – ворчал Благоев, надевая китель. – А где гарантия, что я сумею его спасти? Я же не врач. Неужели ты воображаешь, что на таком расстоянии я смогу ему помочь?
– Поможете! Поможете! Вы же были когда-то его командиром! Одного вашего слова будет достаточно.
Так они оба появились на командном пункте.
А руководитель полетов уже совсем отчаялся. Увидев майора Благоева, он вздохнул с облегчением.
Майор взял в руки микрофон. Узунов и дежурный офицер замерли у него за спиной.
– Ну, голубок, ты чего там приуныл? Не узнаешь меня? С тобой говорит майор Благоев!-кричал он в микрофон. – Меня подняли с постели. Теперь слушай меня. У тебя появились галлюцинации… Что? Ты ничего не знаешь? А ну-ка вспомни, что нам говорили, когда учили ориентации в пространстве! Небо внизу, а земля… Слушай меня, я тебе помогу: следи за авиагоризонтом и делай то, что я тебе скажу!
Майор Узунов прошептал дежурному:
– Я так и знал, что все будет в порядке.
Майор Благоев прервал на мгновение разговор с летчиком и устало покачал головой:
– Минев продолжает стоять на своем: авиагоризонт поврежден, зачем вы меня еще больше запутываете.
На лбу Благоева выступили мелкие капельки пота.
– С этим человеком стряслась скверная история. Он оцепенел от страха и не решается посадить самолет.
– Значит, надежда на его спасение невелика? – обеспокоенно спросил заместитель командира по политчасти.
– Мне не хочется в это верить. Он хороший летчик, и я надеюсь уговорить его.
Майор Узунов и дежурный офицер вышли из командного пункта. Над аэродромом кружил самолет, тот самый самолет, которому, возможно, суждено было разбиться. Если летчик вздумает «набрать высоту», то через несколько секунд наступит катастрофа. Самолет снизился, [233] пронесся над самым аэродромом и снова взмыл вверх.
– Что происходит? Почему он не посадил самолет?-Узунов раздавил ногой недокуренную сигарету и сразу же вернулся на командный пункт.
Он не решился спросить об этом Благоева. В тот момент майор был похож на человека, который, напрягая последние силы, пытается вытащить утопающего из воды. Он выглядел совсем измученным, а голос его звучал хрипло и глуховато.
– Минев, ты меня слышишь? Ты же сумасшедший! – В голосе зазвучали и нотки раздражения. – Ты пролетел над аэродромом на высоте пятидесяти метров. Послушай, голубок, верь тому, что я тебе говорю, а не тому, что тебе только кажется! Сделай снова заход и…
Отчаявшийся Благоев стал искать взглядом Узунова и дежурного офицера. Они ему нужны были, чтобы хоть как-то отвлечься от своих мыслей.
– Вы видите, я делаю все возможное…
– Значит, он, летая над самой землей, продолжает верить в то, что небо находится внизу?
Вдруг Благоев, услышав голос летчика, резко повернулся.
– Этому человеку на роду написано пережить все ужасы! Зажглась аварийная лампочка! – сообщил он Узунову и дежурному офицеру. – Ну да ничего, может быть, для него это и к лучшему! Хочет не хочет, а приземляться придется.
Через пять минут майор Узунов ввел в столовую молодого, безбородого паренька, почти лишившегося дара речи, с потрескавшимися губами, на которых запеклась кровь. Майор, нежный и заботливый, как родной отец, всячески обхаживал его: суетился, бегал на кухню за горячим чаем и, как сам признавался впоследствии, провел с летчиком краткую, но, может быть, самую вдохновенную из своих бесед.
– Ты не унывай, такое случалось и с самыми лучшими летчиками. Что ты сказал? Тебе стыдно будет доложить о том, что произошло? Как раз наоборот, надо всем об этом рассказывать. Ты рассказывай с гордостью и достоинством! Через два-три года у тебя будут более крепкие крылья – они получат закалку! Стать лучше не могут, сынок, лишь те, кто мертв, а живые… [234]
Они для того и остались в живых, чтобы забыть свои неудачи и с новыми силами устремиться к будущему. Вот увидишь, завтра ты будешь себя чувствовать отлично.
Молодой летчик, слушая майора, притих. Слова командира звучали так убедительно, что не было ни малейшего смысла возражать. Летчик поверил ему.
– Осталось еще вспомнить случай с Каракушевым, – подсказал Антов и посмотрел на часы.
Переваливало за полночь, но аудитория, жаждущая слушать рассказы об авиационных приключениях, была готова бодрствовать до самого утра.
– Расскажу вам и об этом. Правда, у нас осталось мало времени. Случившееся с Каракушевым представляет интерес скорее как курьез, редкий курьез в истории авиации.
– И поучительный к тому же, – добавил Антов.
– Разумеется… Когда летчик садится в кабину, все в ней должно быть в безупречном состоянии. А в самолете Каракушева нарушилась связь с командным пунктом. Он наклонился, чтобы поправить повреждение, и у него начались галлюцинации. Через какое-то время он дал о себе знать. Но, как правильно сказал Антов, полет в облаках, галлюцинации и вспышка аварийной лампочки давят на психику, как опухоль на мозг. Каракушев не выдержал. Катапультировался. Через два часа позвонил из какого-то села по телефону и сообщил, что жив и здоров. Но курьез заключается в другом. На следующий день мы облазили гору и всю долину, разыскивая обломки разбитого самолета, однако ничего не нашли. Искали по всей равнине – тоже безрезультатно. Только через два Дня посторонние люди случайно наткнулись на самолет где-то на поляне в Среднегорье. Он оказался в целости и сохранности. Техники обнаружили в нем лишь какие-то незначительные повреждения. После того как летчик катапультировался, самолет продолжал полет, пока не кончился запас горючего, и благополучно приземлился на поляне.
После этого случая летчики часто шутили между собой: «Главное – не мешать самолету, не запутывать его: ведь он и сам может благополучно закончить полет».
Ничего не скажешь – авиационный курьез! [235]
Часть пятая. Крутизна
1
На мою долю, как на долю летчика и авиационного командира, выпало столько переживаний, что порой казалось, на большее уже просто не хватит сил…
Я довольно быстро получил ответственные посты в авиации, рано стал помощником прославленного Героя Советского Союза генерала Захариева. И может быть, именно потому, что я был очень молод и легко переносил перегрузки на сверхзвуковых самолетах, на меня легло еще и тяжелое бремя – вместе со старшим по званию и возрасту товарищем «собирать богатый урожай», как мы в шутку наедине с ним говорили о своей работе. А время с неумолимой быстротой нанизывало одно историческое событие на другое. Они наслаивались с неумолимой последовательностью. Близкие люди и друзья расходились во мнениях при оценке тех или иных событий. Каждый со страстной категоричностью защищал свою позицию.
Помню, как однажды я, крайне взволнованный, вошел в кабинет генерала Захариева. Генерал, поглощенный своими мыслями, склонился над каким-то документом. Никто из нас не решался заговорить первым. В сущности, говорить было не о чем. Черным по белому было написано предельно ясно, а беспрецедентность самого решения лишала нас дара речи.
– Но это страшное заблуждение! Я даже не могу поверить в это… – начал я, надеясь, что командующий поддержит меня. [236]
– Не знаю, ничего не знаю. Решение принято, и мы не имеем права его оспаривать.
Я не поверил своим ушам. Неужели сам командующий введен в заблуждение и настолько ошеломлен? Как авиационный командир, он ни в коем случае не имел права терять самообладания. Но по его нервным жестам я понял то, о чем умалчивали уста, и спросил:
– Неужели сейчас, когда у нас есть настоящая боевая авиация, укомплектованная надежными кадрами и первоклассными самолетами, нам придется ее свертывать и сокращать?
– Ты только подумай, о чем здесь говорится!… Поскольку теперь ракеты выходят на передний план, все остальное становится ненужным и бессмысленным. Могу себе представить, как возмущались рыцари, когда наступил момент сменить копья и мечи на ружья.
– Авиацию нельзя заменить ракетами. И вы, товарищ генерал, знаете это лучше меня.
– Ну допустим, что ты прав, – смягчившимся тоном перебил меня командующий. – А что мы можем сделать? Ничего! Нам остается надеяться, что указанное здесь окажется догмой.
– Но мы можем сохранить многое, если сами не превратимся в доктринеров! – воскликнул я.
– Разумеется. Пока я занимаю должность командующего, буду защищать авиацию.
Генерал Захариев, охваченный искренним желанием удержать меня от крайностей в суждениях и поступках, в тот момент проявил не только осторожность, но и мудрость. Он заговорил со мной не так, как обычно, уверенно и твердо, а озабоченно и по-отечески. И я слушал его так же, как когда-то давно, во время нашей первой встречи. Трудности только начинались, и придется ли нам вместе или каждому самостоятельно бороться с ними, пока оставалось неясным. Авиация, разумеется, останется, но наступила пора больших изменений в строительстве военно-воздушных сил.
Я молчаливо и с восхищением слушал своего командира, всегда проявлявшего ко мне настоящую отеческую любовь. Слушал и думал о том, что, может быть, начиная с этого момента нам придется пройти через самые тяжелые испытания. Я почувствовал прилив энергии и решил, что с этого дня буду работать как и прежде, [237] словно ничто не угрожает авиации. Прежде всего предстояло решить давно наболевший вопрос о перевооружении авиационного училища. Курсанты военно-воздушного училища на последнем курсе летали на снятых с вооружения в боевых авиационных частях реактивных самолетах Як-23. Закончив училище, молодые офицеры начинали осваивать «миги», то есть, по существу, обучение продолжалось на новом месте службы в боевых подразделениях.
Все это создавало огромные трудности, замедляло процесс боевого совершенствования летчиков, превращало все боевые части в учебные и значительно снижало боевую готовность ВВС.
Сама жизнь подсказывала необходимость немедленного переоснащения училища такими самолетами, которыми вооружены части. В этом духе и было сформулировано внесенное мной предложение.
На следующий день мне позвонили по телефону. Я не ожидал, что мое предложение рассмотрят так быстро. Ответственный товарищ, говоривший со мной, и не пытался скрывать свои мысли. Он одобрил мою озабоченность и мое знание мельчайших подробностей, относящихся к состоянию дел в военно-воздушных силах. Такое вступление вызвало во мне чувство неловкости и насторожило меня. Я не любил, когда меня старались укротить, а кое-кто именно это ставил себе целью: похвалить меня, укрепить свои позиции и затем перейти в наступление. Вот почему я все время оставался начеку. Я мало знал человека, с которым разговаривал. Наверное, и он тоже мало знал меня. Но на основании чего он сделал подобное заключение?
И вот в мембране зазвучали угрожающие интонации:
– Если вы, товарищ Симеонов, вопреки нашей точке зрения проведете в жизнь свою авантюру, вы за это ответите! Отдав училищу эти самолеты, вы снизите нашу боевую готовность.
– Но ваши позиции глубоко ошибочны. Вы советуете мне отказаться от задуманного и оставить все без перемен.
Так закончился наш разговор.
Но я верил, что найду поддержку у генерала Кириллова. Так и получилось. [238]
Я решил действовать на свою ответственность. Мы перевооружили училище, передав «яки» в боевые части, а на их место перебросив «миги».
Голос товарища, позвонившего мне после этого, звучал уже грубо и резко:
– Вы отдаете себе отчет в том, что сделали?
Вскоре должно было состояться совещание, и я был уверен, что на нем наш спор разрешится. Если там я проявлю хотя бы малейшее колебание, то меня в самом деле могут обвинить в авантюризме. В последнее время становилось все сложнее решать проблемы, связанные с авиацией. А вот теперь я сам подлил масла в огонь. Но может быть, это и к лучшему: давно пора все уточнить, выяснить точки зрения и успокоить летчиков. Последние полтора-два месяца мне было стыдно показываться им на глаза…
Одним из первых на совещание прибыл советский генерал Шинкаренко – представитель Объединенного командования. Его присутствие было необходимо: он сам летчик, и с его мнением будут обязаны считаться обе спорящие стороны. Во мне жила смутная надежда, что в лице генерала Шинкаренко я найду единомышленника. Но вместе с тем все-таки я опасался, что в этот решительный момент мы можем оказаться противниками. С генералом Шинкаренко я познакомился на одном из последних воздушных парадов в Тушино, когда мы оба с восхищением следили за полетами самолетов новых моделей и обнаружили общность взглядов на то, что авиации теперь предстоит быстро развиваться. Но с тех пор многое переменилось, и, наверное, многие энтузиасты изменили свои взгляды. В тот момент я думал о том, что ровным счетом ничего не знаю о генерале Шинкаренко.
Генералы и специалисты уважали Шинкаренко, а он так и сыпал шутками, как будто и знать не хотел о серьезности положения. Приглашенные на совещание товарищи начали занимать свои места. По выражению их лиц можно было сделать вывод, что они пришли на совещание, как на суд, чтобы защитить одобренную уже в самой высшей инстанции точку зрения. Они пришли вынести приговор авиационному училищу, готовые рассмотреть осуществленное нами перевооружение училища [239] как частный случай, предложив привлечь кое-кого к ответственности за самоуправство.
Работа совещания должна была проходить в рамках обсуждения практических задач, но почти все бравшие слово не могли удержаться от искушения затронуть и теоретические вопросы. В какой-то момент установилась напряженная тишина.
– И все же, – мягко начал один из оппонентов, – в новой обстановке распоряжения Симеонова следует рассматривать как болезненную реакцию авиационного командира. Сейчас летчикам тяжело, и мы, должны прощать им это и считаться с их оскорбленным самолюбием.
А еще кто-то добавил:
– С точки зрения нужд обороны страны эти распоряжения не выдерживают критики, они неразумны.
Генерал Шинкаренко уже не мог сидеть спокойно и пустил острую шпильку:
– А как вы думаете обороняться: с помощью дубин, что ли?
– Но вы это несерьезно говорите, товарищ Шинкаренко? – возразил генералу кто-то из участников совещания.
– Это почему же несерьезно? Вы говорите о разумности, следовательно, противоречите сами себе. Говорите об обороне, а фактически вы против обороны. Летчика первого класса надо готовить шесть-семь лет, а второго класса – пять-шесть лет. Тогда где же логика? Вы готовите летчиков на «яках» за более короткий срок, а когда они закончат училище, посылаете их летать на «мигах». Это все равно что заставлять пулеметчика стрелять из дальнобойного орудия. Я сомневаюсь, что при такой подготовке вы достигнете цели. По-моему, вопрос надо ставить по-другому. Следует решить, должна ли авиация быть только средством обороны, или она должна выполнять и наступательные задачи.
– И вообще должна ли она существовать! – вмешался второй оппонент.
– Разрешение этой проблемы не в моей компетенции, хотя я и на сей счет имею собственное мнение, – закончил Шинкаренко.
– Товарищи, излишне дальше обсуждать, прав или не прав Симеонов. – И заместитель министра постучал [240] по письменному столу. – Он поставил нас перед свершившимся фактом, но совершенно очевидно, что все его усилия пропали даром. Вопрос о военном училище стоит совсем в другой плоскости: должно оно существовать или нет? Право же, нет смысла спорить об этом. Мы должны решить некоторые практические вопросы. Предлагаю обсудить два вопроса: увольнение в запас выпусков военного училища и объединение ВВС с ПВО. Жду ваших предложений.
– Все же это панихида по авиации, не так ли? – не выдержал генерал Кириллов, заслуженный, известный летчик, который участвовал во многих боях в Испании и во время Отечественной войны. – Не слишком ли рано мы ее хороним? Как бы не пришлось потом раскаиваться!
– Прошу вас, без сентиментальностей!
– Ну хорошо, – грустно покачал головой Захариев. – Какое же мы можем принять решение? Если так необходимо сокращение, то по крайней мере сокращайте как можно меньше!
– Из всего выпуска решено оставить лишь пятнадцать курсантов…
– Думаю, что буквально года через два-три нам понадобится значительно большее число курсантов, чем вы предлагаете уволить сейчас, – еще более мрачно добавил генерал Кириллов. И просторный кабинет сразу же стал похож на операционную, но у присутствующих пропала всякая охота заниматься ампутацией, поэтому они поторопились перейти к обсуждению других вопросов.
Мы уходили с совещания в полном недоумении и в подавленном настроении. Правда, теперь мы знали официальную точку зрения о роли авиации, но ведь все это пока оставалось лишь на бумаге. Зачем же надо так торопиться? К тому же стало ясно, что и те, кто проводил это сокращение, испытывают замешательство, но не находят в себе сил остановиться.