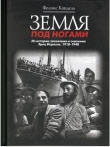Текст книги "Кто и как изобрел Страну Израиля"
Автор книги: Шломо Занд
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Лояльность родине как преданность коллективу граждан, осуществляющему представительное самоуправление, характеризует значительную часть литературных произведений, созданных в республиканском Риме. В канун гибели республики и ее превращения в гигантскую империю многочисленные интеллектуалы расточали республиканской родине словесные дифирамбы, ставшие важнейшей частью европейской культуры на все времена – вплоть до наших дней. Знаменитый афоризм Горация в его «Одах» – о сладости смерти за родину – уже упоминался выше. Впрочем, великий поэт намеревался не столько освятить национальную территорию, сколько выразить беспредельную преданность республиканскому отечеству, то есть «res publica», «общественному делу» или даже «общественному порядку» Римской республики, причем уже после того, как Юлий Цезарь и Октавиан Август навсегда его похоронили.
Историк Гай Саллюстий Крисп, открытый сторонник Цезаря, в своем сочинении «Заговор Каталины» [113]113
В оригинале: Bellum Catilinae («Война с Каталиной»). – Прим. пер.
[Закрыть]отождествил [114]114
Правда, словами, вложенными в уста заговорщика Каталины. – Прим. пер.
[Закрыть]родину со свободой, противопоставляя последнюю «власти немногих» [115]115
Гай Саллюстий Крисп. «Заговор Каталины», 58. (В русском переводе: «Мы боремся за отечество, за свободу, за жизнь, для них же нет никакой надобности сражаться за власть немногих людей». – Прим. пер.)
[Закрыть]. Об этом же говорил и сенатор Марк Туллий Цицерон, получивший за подавление антиреспубликанского заговора Каталины почетное именование «отец отечества». В своей знаменитой речи, направленной против заговорщика, считающейся одной из вершин риторического искусства, он бросил в лицо противнику следующие слова:
«Если бы твои родители боялись и ненавидели тебя и если бы тебе никак не удавалось смягчить их, ты, мне думается, скрылся бы куда-нибудь с их глаз. Но теперь отчизна, наша общая мать, тебя ненавидит, боится и уверена, что ты уже давно не помышляешь ни о чем другом, кроме отцеубийства. И ты не склонишься перед ее решением, не подчинишься ее приговору, не испугаешься ее могущества?» [116]116
Цицерон.Первая речь «Против Каталины», 17.
[Закрыть]
Позднее этот прославленный оратор и политический деятель погиб в ходе событий, положивших конец республиканскому строю [117]117
Цицерон был убит 7 декабря 43 года до н. э. по настоянию Марка Антония, входившего вместе с Октавианом Августом и Марком Эмилием Лепидом во «Второй триумвират», управлявший Римом в 43–41 годах до н. э. Сразу после образования триумвирата (в октябре 43 г. до н. э.) триумвиры составили проскрипционный список «врагов народа», в который попал и Цицерон. Октавиан, которого Цицерон, остававшийся убежденным республиканцем, поддерживал против Антония, не счел нужным защитить «союзника». – Прим. пер.
[Закрыть], который был ему так дорог. Незадолго до смерти он последовательно сформулировал свое отношение к концепции «родины» в диалоге, написанном в стиле Платона и пользовавшемся бурной популярностью в Западной Европе на пороге Нового времени. Этот диалог цитировался в последние два столетия во множестве современных сочинений.
Итак, в прославленном диалоге «О законах» Цицерон логично развивает общепринятую в то время концепцию, связывающую родину с республикой, на сей раз – в увлекательной дуалистической форме:
АТТИК. – И я, со своей стороны, очень рад, что увидел ее. Но что хотел ты сказать, заявив недавно, что эта местность, то есть Арпин (насколько я понял тебя), – ваша настоящая родина? Да разве у вас две родины? Или же одна – общая для всех родина? Если только для мудрого Катона родиной был не Рим, а Тускул.
МАРК. – Да, клянусь Геркулесом, и у него, и у всех уроженцев провинциальных городов [municipiae], по моему мнению, две родины: одна по рождению [naturae], другая по гражданству [civitatis] – подобно тому, как знаменитый Катон, хотя и родился в Тускуле, был принят в городскую общину римского народа и, тускуланин по происхождению, по своей гражданской принадлежности был римлянином, и у него была одна родина по местности, другая по праву; подобно тому, как ваши жители Аттики – до того, как Тесей повелел им всем переселиться с полей и отправиться в так называемый град, – были и гражданами своего дема и аттическими, так и мы называем родиной и ту местность, где мы родились, и ту, которая нас приняла. Но по чувству привязанности, какое она в нас вызывает, должна стоять на первом месте та родина, благодаря которой название «государство» [res publica] охватывает всю нашу гражданскую общину. За нее мы должны быть готовы умереть, ей полностью себя отдать, в нее вложить и ей как бы посвятить все свое достояние. Но родина, которая нас произвела на свет, нам не менее дорога, чем та, которая нас приняла [118]118
Цицерон.О законах. Книга 2, 4–5.
[Закрыть].
Преданность Римской республике, так же как и лояльность греческому полису, полагалась высшей ценностью, выдающимся качеством, более возвышенным, чем даже ностальгия по месту рождения человека и «ландшафтам детства». Именно государственная единица, в которой человек является полновластным гражданином, равноправным участником правящего коллектива, должна считаться самой важной и дорогой для него. Именно она способна мобилизовать армию, состоящую из гражданских добровольцев – в отличие от наемной армии; именно она может потребовать от гражданина отдать за нее жизнь. Такая гражданская жертва обществу оправдана, ибо полисное общество представляет собой полное выражение суверенной сущности гражданина. Эта обязывающая концепция политической родины является нетривиальным изобретением досовременного мира. Она, вне всякого сомнения, отчасти напоминает концепцию родины, сформировавшуюся в современную национальную эпоху.
Действительно, в XVIII веке можно насчитать немало просвещенных интеллектуалов, которых очаровали патриотические декларации, дошедшие до Нового времени из древнего Средиземноморья. Их пленили риторические формулы и иные свидетельства, указывающие на возможность власти, основывающейся на идиллической свободе, на то, что Древний мир обходился без тиранов и монархов. К счастью, в компанию этих блестящих мыслителей затесался Джамбаттиста Вико, потрудившийся напомнить читателям, что пресловутые римские патриции, несомненно, «ради спасения отечества… без колебания подчинялись и подчиняли свои семьи священным требованиям законов – тех самых законов, которые оберегали и спасали, вместе с общей родиной, их частные семейные „государства“, в которых они были единоличными властителями». Этот выдающийся, необычайно проницательный неаполитанский философ нисколько не жалел своих «латинских праотцев» и счел необходимым присовокупить, что «по сути, слово „patria“ имеет одно-единственное значение – личную выгоду немногих» [119]119
Вико Дж.Основания новой науки об общей природе наций, 38 и 677. – Иерусалим: Шалем, 2005. – С. 26 и 292 (на иврите).
[Закрыть].
Республиканская родина Цицерона, в самом деле, была олигархией довольно узкого гражданского коллектива. И избиратели, и избираемые ими лица всегда принадлежали к тонкой элитарной прослойке. Для понимания республиканской концепции родины особенно важно следующее дополнительное обстоятельство: только тот, кто физически находился в Риме, мог участвовать в выборах. Граждане вне пределов города лишались как активного, так и пассивного избирательного права. Поскольку во времена Цицерона большинство граждан давно уже проживали не в самом Риме, все должностные лица любимой «родины» избирались меньшинством ее граждан – из этого самого меньшинства.
Впоследствии укрепление и расширение имперского Рима превратили традиционную связь с «гражданской родиной» в абсолютную бессмыслицу. Огромная империя стала в определенном плане лигой многочисленных городов-государств, лишенных фактической независимости. Превращение [120]120
Императором Септимием Бассианом Каракаллой в 212 году н. э. – Прим. пер.
[Закрыть]в начале III века н. э. всех свободных жителей империи в «римских граждан», лишенных, по существу, права участвовать в управлении государством, нанесло еще один удар по эмоциональному и политическому фундаменту, на котором основывалась концепция республиканской родины. Взамен эта мера подготовила почву для распространения и упрочения универсального монотеизма, связь которого с конкретной территорией будет совсем другой. Тяга к святым местам получит иную ментальную основу и породит интеллектуальное притяжение совершенно нового характера.
Христианские отцы церкви, разумеется, попытались перенести лояльность республиканской родине на «небесное царство». Поскольку все люди равны перед богом, старинная преданность греческому полису или рабовладельческой республике может быть, на первый взгляд, легко заменена преданностью идее вечной жизни, открывающейся за пределами жизни нынешней. Уже у Августина можно встретить тезис, гласящий, что гражданство в его чистом и истинном значении может относиться лишь к «граду божьему». Если уж умирать ради родины, пусть это будет жертва, принесенная ради веры в небесное божье царство [121]121
См. соответствующие рассуждения Августина в «О граде Божьем», V, 16, 17, например: http://www.newadvent.org/fathers/120105.htm. См. также у Вассермана в «Народ, нация, родина».
[Закрыть]. Такой взгляд на любовь к «patria aeterna» [122]122
«Вечному отечеству» (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть]встретил бурную поддержку в широких церковных кругах и стал одним из основных тезисов христианской веры.
Римские республиканские армии, состоявшие из граждан, прекратили свое существование с расширением империи. Наемные войска понесли римские символические боевые значки не только к отдаленным берегам Средиземного моря, но и вглубь покоренной Европы. Исторический контакт с Римом положил начало переменам на сонном, покрытом лесами континенте. Однако решающее значение эти перемены приобрели лишь в ходе ослабления и последующего распада империи, когда европейские племена и поселения освободились от продолжительного римского господства. Только тогда начался долгий и неторопливый процесс, сформировавший в итоге новую цивилизацию с существенно иной структурой общественных отношений. Складывавшийся европейский феодализм не знал концепции гражданства, ему была чужда героическая смерть за отечество; разумеется, не порождал он и преданность территориально-политической родине. Впрочем, концептуальный репертуар присредиземноморских цивилизаций проникал самыми различными способами в европейскую культуру и в европейские языки, прежде всего при посредстве постоянно укреплявшейся христианской церкви.
Как верно отметил Эрнст Канторович [123]123
Эрнст Канторович (Ernst Hartwig Kantorowicz, 1895–1963) – известный германский, позднее – американский историк еврейского происхождения. Канторович, придерживавшийся консервативных взглядов, в молодости участвовал в правых военных авантюрах, в том числе в подавлении Спартаковского восстания в Германии; он был сторонником прогерманских романтических и эстетических националистических теорий. Выжитый нацистами из Германии, Канторович перебрался в Англию, а затем в США, где и написал свою самую известную книгу – «Два тела короля» ( E. H. Kantorowicz.The King’s Two Bodies. – Princeton: P. U. P, 1981), анализирующую, по его собственному определению, «средневековую политическую теологию». Книга, несомненно, блестящая, вызвала серьезную критику. Известнейший оппонент Канторовича, канадский медиевист Норман Кантор, утверждал, что, невзирая на еврейское происхождение, Канторовича следует причислить к числу сторонников нацистских культуры и эстетики, по крайней мере в том, что касается его «интеллектуальных и культурных ценностей». См., например: Norman F. Cantor.The Nazi Twins: Percy Ernst Schramm and Ernst Hartwig Kantorowicz // Inventing the Middle Ages. – New York, 1991. – P. 79–117. – Прим. пер.
[Закрыть]в своей книге «Два тела короля», в обществах, где личные лояльность и зависимость были тотальными, афинская и римско-республиканская концепция родины полностью «растворилась» [124]124
E. H. Kantorowicz.The King’s Two Bodies. – Princeton: P. U. P, 1981. – P. 233–234. См. также его блестящую статью «Смерть за родину в средневековой политической мысли» (Pro Patria Mori in medieval political thought // American Historical Review. – 1951. – № 56. – P. 472–492).
[Закрыть]. Несомненно, термин «patria» продолжал оставаться употребительным, однако его почти всегда связывали с местом рождения или с местом проживанием человека, нередко – с его деревней. Слово «родина» стало фактическим синонимом выражения «малая страна» – «Pays» на французских диалектах, «Heimat» на различных диалектах немецкого языка. Иными словами, речь идет о месте, где находится дом человека, где он вырос и где проживает его семейный клан.
Параллельно с этим древним и широко распространенным географическим значением слова «родина» возникло еще одно – ибо этот термин оказался полезным принцам и монархам. Всевозможные европейские элиты адаптировали его и прикрепили к различным политическим «телам»; королевства, герцогства, графства, даже районы, автономные в плане судопроизводства и налогообложения, – все они стали «родинами». Даже папство время от времени обращалось к древнему престижному термину и призывало «спасти родину», имея в виду защиту единства христианского мира и, разумеется, безопасности верующих.
Средневековые рыцари были готовы отдать жизнь либо за своего феодального сеньора и церковь, либо, позднее, за короля и королевство. Начиная с XIII–XIV веков становилась все более популярной формула «Pro rege et patria» – «За короля и отечество»; она сохранилась в политическом словаре вплоть до революций Нового времени. Впрочем, даже в наиболее «организованных» монархиях сохранялось постоянное напряжение между лояльностью по отношению к «небесной родине» и лояльностью тем или иным земным факторам, непременно вписывавшимся в иерархические, отнюдь не эгалитарные конструкции. Кроме того, в военный этос европейских досовременных обществ удачно вплелся дополнительный сорт лояльности родине, лояльности, ориентирующейся на такие существенные факторы, как честь, слава и, не в последнюю очередь, материальное вознаграждение за готовность к псевдопатриотической жертве. Одним из последствий постепенной деградации феодальной социальной системы и драматического ослабления церкви, общественная роль которой с веками серьезно изменилась, стал пересмотр смысла навязшего в зубах термина «patria». Медленное возвышение средневековых городов, превратившихся из торговых и финансовых центров в активных участников регионального разделения труда, побудило многих исследователей трактовать их как первую настоящую западноевропейскую «родину». Если верить Фернану Броделю, в этих городах сформировался своего рода примитивный протопатриотизм, предтеча более позднего национального сознания [125]125
Бродель Ф.Капитализм и материальная жизнь в 1400–1800 гг. ( F. Braudel.Capitalism and Material Life 1400–1800. – Glasgow: Collins, 1973. – P. 399).
[Закрыть].
В то же время влюбленный интерес представителей Ренессанса к классическому средиземноморскому наследию породил широко распространенное, хотя и не вполне оригинальное значение древнего слова «patria». Различные гуманисты попытались приспособить его к новым городам-государствам, сформировавшимся как олигархические республики [126]126
На эту тему см.: M. Viroli.For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism. Oxford: Clarendon Press, 1995. – P. – 24–40.
[Закрыть]. Макиавелли пошел дальше и в некий удивительный пророческий момент поддался соблазну распространить понятие «patria» на весь итальянский полуостров [127]127
Последней, XXVI главе «Государя» Макиавелли предпослал красноречивый подзаголовок «Призыв овладеть Италией и освободить ее из рук варваров». Несмотря на этот «призыв» и дополнительные замечания, высказанные великим флорентинцем в других произведениях, было бы преувеличением объявить его итальянским патриотом-идеалистом, как сделал Уильям Ландон в своей книге ( W. J. London.Politics, Patriotism and Language. – New York: Peter Lang, 2005).
[Закрыть]. Однако этот термин нигде не обрел ментальной окраски, присущей ему в древних Афинах или в республиканском Риме, тем более – территориального контекста, как в более поздних национальных государствах.
Даже образование абсолютных монархий не породило такого интеллектуального [литературного] выражения лояльности, как готовность умереть за родину, выражения, хорошо знакомого нам по более поздним – и более ранним – временам. Рассмотрим, к примеру, соответствующие взгляды Монтескье и Вольтера. Эти великие либералы XVIII века прекрасно понимали и даже разъясняли читателям, почему королевство не может считаться родиной. Монтескье, обладавший широчайшей исторической эрудицией, писал в трактате «О духе законов», вышедшем в 1748 году, следующее:
«В монархиях политика совершает великие дела при минимальном участии добродетелей, подобно тому как самые лучшие машины совершают свою работу при помощи минимума колес и движений. Такое государство существует независимо от любви к отечеству, от стремления к истинной славе, от самоотвержения, от способности жертвовать самым дорогим и от всех героических добродетелей, которые мы находим у древних и о которых знаем только по рассказам» [128]128
Шарль Луи де Монтескье «О духе законов». Книга III, глава 5. Интересно, что и в «Энциклопедии» Дени Дидро и Жана д’Аламбера, отредактированной через несколько лет после выхода в свет книги Монтескье, подчеркивается, что родина не может существовать под тираническим игом, а также что не следует смешивать монархию и родину. См.: статью «Родина» (Patrie) в Diderot et D’Alembert(dir.). L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751–1772, или, например, в http://artfix.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.11:264.encyclopedie0211.
[Закрыть].
Вольтер, исторические познания которого не уступали познаниям его предшественника Монтескье, писал в 1764 году в остроумнейшей статье «Родина», предназначенной для «Философского словаря»:
«Родина – это объединение нескольких семей; так же как человек обыкновенно экономически поддерживает свою семью из любви к себе, до тех пор, пока у него не появляется противоположный интерес, так человек поддерживает, из любви к себе, свой город или свою деревню, которые и называются родиной. По мере того как эта родина разрастается, убывает любовь к ней, ибо любовь, которую делят между многими, ослабевает. Невозможно страстно любить слишком большую семью, которую едва знаешь» [129]129
Вольтер.Английские письма. Философский словарь (избранное). – Тель-Авив: Рамот, 2000. – С. 192 (на иврите).
[Закрыть].
Хотя оба вышеупомянутых философа, несомненно, безупречно логичны, они, вместе с тем, полностью погружены в собственное историческое время, доживавшее последние дни. Они прекрасно представляют себе практический характер понятия «родина» как связи между человеком и местом его рождения, районом, где он вырос. Однако они не в состоянии представить, что этот комплекс ментальных связей вскоре пройдет драматическую трансформацию и распространится на громадные геополитические конструкции. Монархии, существовавшие в канун Нового времени, несомненно, взрыхлили почву, на которой взошли ростки эпохи национализма, поскольку именно они инициировали центрифугальную [130]130
Направленную от центра к периферии, центробежную. – Прим. пер.
[Закрыть]трансформацию административных языков, ставших вскоре национальными языками. Для нас еще важнее другое: они начали аккуратно вычерчивать то, что в некоторых случаях станет будущими границами родины. Тем не менее они были еще очень далеки от «территориальной чувствительности», которую национальная демократия принесет на своих огромных крыльях.
Монтескье и Вольтер являлись незаурядными либералами, последовательными и мужественными борцами за различные свободы. В то же время они придерживались четких антидемократических взглядов. Безграмотные народные массы не представлялись им достойным субъектом политики, поэтому они не могли представить себе массовое – включающее массы – коллективное воплощение, тем более, самоидентификацию – ни с государством, ни, по той же причине, – с политической родиной.
Не случайно первый теоретик-«патриот» европейского Просвещения был одновременно и его первым демократом (во всяком случае, в определенном широком круге аспектов), и открытым антилибералом. Жан-Жак Руссо не только оставил нам систематическое определение понятия «родина», но и не счел необходимым разъяснить, что, собственно, имел в виду, постоянно употребляя это слово. Однако в самых различных его произведениях можно без труда найти многочисленные открытые призывы развивать и сохранять патриотические ценности. Риторика Руссо нередко больше напоминает нам выступления современных государственных деятелей, чем рассуждения философов XVIII века.
Уже в [раннем] посвящении, адресованном Женевской республике, написанном в 1754 году и предваряющем «Рассуждение о начале и основаниях неравенства между людьми», Руссо разъясняет, какую родину он хотел бы иметь, если бы у него была возможность выбора:
«Если бы мне было дано избрать место моего рождения, я избрал бы… государство, где все частные лица знали бы друг друга, где от взоров и суда народа не могли бы укрыться ни темные козни порока, ни скромность добродетели… Я постарался бы найти себе отечество в счастливой и спокойной Республике, древность которой терялась бы, так сказать, во мраке времен… Я бы желал избрать себе отечество, чуждое, благодаря счастливой неспособности к ним, кровожадной страсти к завоеваниям… Я попытался бы найти страну, где право законодательства принадлежало бы всем гражданам, ибо кто может знать лучше самих граждан, при каких условиях подобает им жить совместно в одном и том же обществе? А если бы Провидение присоединило к этому еще и прелестное местоположение, умеренный климат, плодородную почву и вид самый восхитительный из существующих под небесами, то для полноты моего счастья я желал бы лишь пользоваться всеми этими благами на лоне этого счастливого отечества, мирно живя в приятном общении с моими согражданами…» [131]131
Руссо Ж.-Ж.Посвящение к «Рассуждению о начале и основаниях неравенства между людьми».
[Закрыть]
Уроженец республиканской Женевы, Руссо всю свою жизнь мечтал об эгалитарных самоуправляемых человеческих обществах, функционирующих на строго определенных территориях, являющихся для них «естественными родинами». Тем не менее этот постоянно противоречивший себе мыслитель без всяких колебаний задает в «Общественном договоре», своем центральном сочинении, следующий взрывоопасный вопрос:
«Как может человек или народ завладеть огромною территорией, лишив человеческий род этой территории, иначе как в результате наказуемого захвата, поскольку этот акт лишает других людей мест обитания и источников существования, которые природа дает им всем в общее пользование?» [132]132
Руссо Ж.-Ж.Общественный договор. Книга I, гл. 9.
[Закрыть]
Невзирая на такого рода этические и «анархистские» декларации, Руссо, бесспорно, был политическим философом до мозга костей. Эгалитарная социальная концепция, из-за спины которой с совершенной неизбежностью выглядывал последовательный универсализм, вынуждала Руссо искать столь дорогую его сердцу свободу исключительно в политических рамках, иными словами, посредством создания государственного общинного коллектива.
Увы, даже у создателя концепции современной демократии вожделенная свобода способна реализовываться лишь в крошечных политических системах, вернее сказать, в «прямых» демократиях. Поэтому идеальная родина в фундаментальной теории Руссо должна оставаться маленькой и полностью «ощутимой» [133]133
Впрочем, как и почти во всех других случаях, у Руссо можно отыскать и прямо противоположную точку зрения. Он рекомендует, например, Шльской конфедерации, которая уж точно маленькой не была, адаптировать агрессивную форму патриотизма, включающую индоктринацию масс. См.: «Замечания об управлении Польшей» (Considérations sur le gouvernement de Pologne (1771). – Paris: Flammarion, 1990. – P. 172–174).
[Закрыть]. Таким образом, Руссо, несмотря на бесспорный пророческий дар, также остался лишь на пороге эры национализма. Он, щуря глаза, всматривался в новую эру с высокой, удаленной горы, однако так и не смог туда войти.
3. Территориализация «национального тела»
Патриотические призывы «к оружию» были обычным делом в ходе восстания «Низинных земель» (Нидерландов) против испанского владычества в конце XVI века – и, тем более, в начале XVII века. Во время английской революции, в середине того же века, радикальное крыло революционеров, «левеллеры» [134]134
Википедия определяет «левеллеров» следующим образом: Левеллеры (англ. Levellers– уравнители) – радикальное политическое течение в Английской буржуазной революции, обособившееся от индепендентов в 1647 году. Левеллеры были решительными противниками монархии и аристократии (в лице палаты лордов). Они выступали за создание республики, отстаивали идею народного суверенитета, ратовали за предоставление населению широких политических прав и свобод, в том числе проведение ежегодных выборов в палату общин и предоставление избирательных прав всем свободным мужчинам, защищали неприкосновенность частной собственности. Левеллеры выражали интересы мелкой буржуазии, ремесленников, части зажиточных крестьян, а опирались в основном на армию. См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B. – Прим. пер.
[Закрыть], отождествляли родину со «свободной общиной», полностью мобилизованной для войны с монархической тиранией. Аналогично, если в начале американской революции повстанцы считали Англию своей родиной, а не только метрополией, к моменту ее – революции – завершения их взгляды изменились: среди них стала чрезвычайно популярной совершенно новая концепция патриотизма. «Страна свободных людей и родина храбрецов» [135]135
Буквально – «пристанище» или «дом» храбрецов. Эта цитата – заключительные слова американского гимна «The star-spangled banner» («Усыпанное звездами знамя») – позаимствована из следующего контекста: «И усыпанное звездами знамя будет триумфально развеваться/ Над страной свободных и пристанищем храбрых». Гимн является частью поэмы «Оборона Форта Макгенри», написанной в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Вот как выглядит концовка гимна в оригинале:
Then conquer we must, when our cause it is just,And this be our motto: „In God is our trust.“And the star-spangled banner in triumph shall waveO’er the land of the free and the home of the brave. – Прим. пер.
[Закрыть]начала свое становление. Как известно, она многого добилась за последующие два с лишним столетия.
Так или иначе, одним из существеннейших этапов многообещающей карьеры концепции «родины» в Новое время стала, разумеется, Французская революция, в особенности ее республиканский период. Если до сих пор «родина» интересовала лишь политические и интеллектуальные элиты – администраторов, послов, литераторов, поэтов и философов, – на этом этапе она сделала свои первые уверенные шаги по проулкам народной истории. К примеру, «Марсельеза», написанная военным инженером-эльзасцем [136]136
Автор «Марсельезы» (слов и музыки) – Клод Жозеф Руже де Лиль (Claude Joseph Rouget de Lisle). – Прим. пер.
[Закрыть]как «Военный марш Рейнской армии», была принесена в Париж из Марселя в 1792 году добровольческим революционным батальоном, прибывшим на защиту столицы, и вскоре удостоилась политического триумфа и невероятной популярности. «Вперед, сыны Отчизны, день славы настает! Против нас тирания поднимает свой кровавый флаг», – пели солдаты-добровольцы, с волнением шедшие в битву под Вальми в сентябре 1792 года и наголову разбившие там наемные армии «старого мира». Те из них, кого не тронули пушечные ядра, смогли допеть последний [137]137
Имеется в виду шестая строфа «Марсельезы», последняя из написанных (хотя бы в основном) самим де Лилем. Знакомая нам «Марсельеза» состоит из семи строф, однако последняя, седьмая (так называемая детская) строфа добавлена к тексту песни уже после битвы при Вальми и приписывается сразу нескольким авторам. – Прим. пер.
[Закрыть]куплет: «Святая любовь к отчизне, веди нас, направляй наши мстящие руки. Свобода, любимая свобода, сражайся на стороне своих защитников». Совсем не случайно песня о «священной любви к отчизне» стала со временем национальным гимном Франции [138]138
О пробуждении патриотизма во время революции см. статью «Умереть за родину»: P. Conamine.Mourir pour la Patrie. Xe-XXe // Pierre Nora (ed.)/ Les Lieux de mémoire. II, La Nation. – Paris: Gallimard, 1986. – P. 35–37.
[Закрыть].
Впрочем, пока суть да дело, наполеоновские завоевания сумели пробудить волну нового патриотизма и вне границ Франции, прежде всего на территории будущих Германии и Италии. Одно за другим укладывались в землю семена, которые в скором будущем превратили старую Европу в фантастическую многоцветную мозаику, состоящую из постоянно растущего числа наций и, соответственно, из растущего числа «родин».
Начиная с бурных времен Французской революции 90-х годов XVIII века и вплоть до народных волнений в арабских странах во втором десятилетии XXI века почти все бунтовщики и революционеры клялись в пламенной любви к свободе и одновременно с этим декларировали столь же пламенную преданность родине. «Марсельеза» вернулась, причем весьма впечатляющим образом, в 1848 году, в ходе «весны народов»; она еще раз объединила участников Парижской Коммуны в 1871 году. Хотя большевистская революция всегда гордилась своим интернационализмом, в ходе своего величайшего испытания, войны не на жизнь, а на смерть, которую вел Советский Союз против нацистского нашествия, большевики сделали патриотизм своим главным и наиболее эффективным идеологическим оружием; именно оно помогло им мобилизовать миллионные массы. По существу, обе мировые войны XX века были жесточайшими кровавыми столкновениями, происшедшими во имя четко ориентированной метаидеологии, трактовавшей государство как инструмент, защищающий родину или, самое меньшее, пытающийся отстаивать интересы родины посредством расширения ее границ. Как уже отмечалось выше, в ходе почти всех деколонизационных конфликтов, захлестнувших мир между 40-ми и 70-ми годами прошлого века, обретение и закрепление территории находились в самом центре национальной борьбы. И социалисты, и коммунисты стран третьего мира были прежде всего патриотами и лишь во вторую очередь расходились [с другими патриотами и между собой] в социально-политических пристрастиях.
Однако мы все еще не ответили на важнейший вопрос: каким образом глубокое чувство, издавна испытываемое людьми по отношению к небольшой, физически ощутимой и хорошо знакомой территории, превратилось в ментальную схему, обращенную к огромным пространствам и реализуемую на них, схему, легко распространяющуюся на колоссальные территории, которые отдельный человек не в состоянии непосредственно, собственными силами освоить. Ответ на него, быть может, найдется в ходе анализа долгого и критически важного процесса «территориализации» политики в эпоху национализма.
Патриоты времен английской и американской революций, добровольцы, шедшие в бой за республику с пением «Марсельезы», повстанцы, сражавшиеся с Наполеоном, и – даже – революционеры 1848 года, поставившие с ног на голову европейские столицы, при всей своей исторической значимости все еще представляли собой специфические меньшинства, иногда заметные, но во всех случаях бывшие лишь малой частью широких масс, среди которых жили и действовали. Хотя в кипящих столичных городах «родина» уже стала ключевым политическим термином в устах борцов за демократизацию и всевозможные свободы, подавляющее большинство сельского населения почти не интересовалось концепциями политических элит, охваченных современными культурными и языковыми веяниями.
Чем же новые национальные «родины» сумели в конечном счете привлечь крестьянские массы? Вернее сказать, что стало причиной постепенной кристаллизации национального самосознания в их мироощущении? Несомненно, виной тому прежде всего новые законы, постепенно распространявшиеся из политических центров на территориальную периферию и реализовывавшиеся там. Эти законы избавили крестьян от многочисленных обычаев, налогов и повинностей феодального толка, а в ряде случаев даже сделали их собственниками обрабатываемых ими участков земли. Новые земельные законы и аграрные реформы стали первопричиной «перевоплощения» наследственных монархий и крупных княжеств в постепенно складывающиеся национальные государства и в то же самое время способствовали консолидации новых больших территориальных «родин».
Мощный процесс урбанизации, стоявший за всеми социальными переменами XIX и XX веков, и порожденный ею отрыв широких масс от своих «малых родин» в значительной мере подготовили основную часть населения европейских стран к концептуальному восприятию огромной, практически незнакомой «национальной территории». Мобильность, присущая любому процессу модернизации, породила потребность в социальной причастности нового, неизвестного ранее типа; национальная самоидентификация удовлетворила эту потребность, породив нетривиальный, но весьма соблазнительный шанс обрести опору в новом, большом мире и укорениться в нем.
Впрочем, политические процессы, юридические, социальные или иные были лишь приветственными звонками или, лучше сказать, пригласительными билетами в новую эпоху. Приглашенным предстояло пройти долгий и трудный путь, прежде чем найти убежище в громадной новоизобретенной родине.
Не следует забывать: не родина породила национализм, а национализм создал родину. Родина – одно из самых потрясающих произведений современной эпохи (и, вероятно, самое разрушительное). Возникновение национальных государств придало новый смысл как пространствам, оказавшимся под их контролем, так и границам, обрамлявшим эти пространства. Культурно-политический процесс, создавший британцев, французов, немцев, итальянцев, а позднее алжирцев, таиландцев и вьетнамцев из гремучей смеси людей, приверженных локальным языкам и культурам, породивший по ходу дела глубокое чувство принадлежности к национальному коллективу, в то же время формировал и мощное эмоциональное восприятие четко очерченного физического пространства. Ландшафт стал важнейшим элементом коллективной идентичности; не будет большим преувеличением сказать, что он как быпостроил стены здания, в котором формирующейся нации предстояло поселиться. Таиландский историк Тонгчай Виничакул блестяще проанализировал это обстоятельство, описав формирование сиамского национального государства. Существование национального geo-body, географического тела, было необходимым условием образования этого государства, однако возникновение этого территориального тела стало возможным прежде всего лишь благодаря современной картографии [139]139
Winichakul Т.Сиам на карте («Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation»). – Honolulu: University of Hawaii Press, 1997.
[Закрыть]. Принято утверждать, что историки были первыми «лицензированными агентами» нации; справедливости ради следовало бы присвоить это почетное звание и картографам. Историография, несомненно, помогла национальному государству придать осмысленные черты своему доисторическому прошлому, однако именно картография позволила ему реализовать свое историческое воображение и размять мускулы на новообретенном территориальном просторе.
Материальной и технологической базой, позволившей развернуться территориальному воображению масс, стало, конечно, появившиеся в это время и постепенно усиливавшиеся средства массовой информации. Культурно-политический аппарат завершил национальное строительство, создав эффективные государственные идеологические механизмы. Типографическая революция XV века продолжала набирать обороты, породив в конце концов широкую, всепроникающую мультиканальную систему информационных коммуникаций, распространявшуюся заодно со всеобщим школьным образованием. Начиная с конца XIX века и далее, в ходе XX века, драматически изменился характер взаимосвязей между элитарной и массовой культурами, равно как и между культурами городских центров и сельской периферии.
Если бы не типографии, такие важнейшие идеологические инструменты, как карты государств и прочие географические и геофизические материалы, обогащавшиеся и умножавшиеся в Новое время, по-прежнему были бы доступны лишь немногим. Если бы все население страны не начало получать базисное образование, лишь считаные единицы оказались бы в состоянии идентифицировать границы собственного государства. Школьное образование и географическая карта совместно сформировали ясно очерченное и знакомое пространство. Не случайно на стенах едва ли не всех школьных классов в большинстве национальных государств по сей день висят карты – как гвозди, навсегда вбивающие в головы учеников форму и расположение границ родины. Нередко рядом с этими картами можно увидеть фотографии или картины с фрагментами типичных ландшафтов страны. Эти репродукции обычно изображают символические долины, горы и деревни, но ни в коем случае не городской пейзаж [140]140
Gilbert P.The Philosophy of Nationalism. – Boulder: Westview Press, 1998. – P. 97. (He знаю, что делать с фотографиями Московского Кремля, заодно с васнецовскими «Тремя богатырями» украшавшими школьные классы времен моего детства. – Прим. пер.)
[Закрыть]. Пластическое изображение родины почти всегда сопровождается вербальными выражениями тоски по древним народным территориальным корням.
В рамках интенсивной национализации масс формирование любви к родине непременно обусловливалось знакомством с ее географией. Если физическая карта давала человеку возможность освоить земной шар и его богатства, политическая карта помогала государству колонизировать сердца всех своих граждан. Как уже было отмечено выше, наряду с изучением истории, придумавшей прошлое (временное измерение) «исторического национального тела», освоение географии порождало и вытесывало «географическое тело» – пространственные параметры нового коллектива. Так была выдумана и сформирована нация, одновременно во времени и в пространстве.