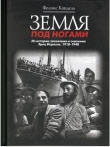Текст книги "Кто и как изобрел Страну Израиля"
Автор книги: Шломо Занд
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
1. Родина – естественное жизненное пространство?
В 1966 году популярный этолог [91]91
Этология – наука о поведении животных, преимущественно – в естественных условиях. Ее основоположником обычно считают немецкого ученого Конрада Лоренца. – Прим. пер.
[Закрыть]Роберт Одри (Ardrey) произвел социобиологическую сенсацию, удостоившуюся, что довольно удивительно, внимания широкой читающей публики. В своей книге «Территориальный императив. Персональное исследование животных корней собственности и нации» [92]92
Ardrey R.The Territorial Imperative. A Personal Inquiry into the Animal Origins of Property and Nations. – New York, Atheneum, 1970. Два замечания. Во-первых, я не вполне удовлетворен своим переводом подзаголовка книги (A Personal Inquiry – и далее). Мои затруднения связаны в основном с нарочито состаренной, в духе XVII–XVIII веков, формулой подзаголовка, чуждой современной стилистике. Не случайно этот подзаголовок исчез в ряде переводов книги, в том числе на иврит (Тель-Авив: Змора, Модан, 1977). Обычно ее цитируют просто как «Территориальный императив». Во-вторых, хочу отметить, что Роберт Одри (1908–1980), автор «Императива», – не только популярный (в смысле – не профессиональный, зато хорошо известный) этолог и антрополог, но и перворазрядный американский драматург и сценарист, соавтор многих знаменитых фильмов, лауреат литературных, кинематографических (а заодно и научных) премий. Дабы продемонстрировать значимость антропологических трудов Одри, напомню, что его книга «Происхождение африканцев» («African Genesis: A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man») стояла на аристократической книжной полке знаменитого Ниро Вульфа, героя романов Рекса Стаута. В романе «Гамбит» Вульф читает «Происхождение африканцев» и обсуждает книгу со своим ассистентом. – Прим. пер.
[Закрыть]он оспорил наши обычные представления о территории, границах и жизненном пространстве. Ранее, как правило, представлялось, что защита своего дома, деревни или родины – естественная реализация осознанных рациональных интересов, продукт культурно-исторического развития. Одри попытался доказать иное: что концепция замкнутого пространства и представление о границах лежат гораздо глубже – в биологических и эволюционных процессах. В человеке от рождения заложена тяга к присвоению территории и защите ее любыми средствами. Эта тяга – наследственный инстинкт, предписывающий всем живым существам, как они должны действовать при определенных обстоятельствах.
После продолжительных наблюдений за различными животными Одри пришел к выводу, что, хотя не все биологические виды следует считать «территориальными», очень многие все же являются таковыми. Территориализм – врожденный инстинкт, свойственный многочисленным, не имеющим между собой ничего общего видам, возникающий в ходе естественного отбора при посредстве микроскопических мутаций. Тщательное эмпирическое исследование показывает, по мнению Эдри, что территориальные животные свирепо нападают на нарушителей границ своего жизненного пространства, в основном когда речь идет о представителях собственного вида. Сражения между самцами, проживающими на общей территории, ранее трактовавшиеся исследователями как борьба за самок, на самом деле являются частью жестокой битвы за контроль над «земельной собственностью». Что особенно удивительно, господство над территорией придает животным энергию, отсутствующую у «чужаков», намеревающихся на эту территорию вторгнуться. Среди большинства биологических видов имеет место нечто вроде «универсального признания территориальных прав», обусловливающего и направляющего системное «соотношение сил» между особями.
Одри задается резонным вопросом: для чего животным территория? Вот две важнейшие нужды, разумеется, среди прочих: 1) избранная территория обеспечивает материальные нужды животного, прежде всего поставляет ему пищу и воду; 2) эта территория предоставляет ему убежище от хищных врагов. Базисные «территориальные» нужды «усваиваются» в ходе долгого эволюционного развития и становятся частью генетического «территориального» кода. Это естественное наследие порождает развитую концепцию границ; оно же становится базисом, способствующим образованию коллективов – соответственно стай или стад. Необходимость защищать жизненное пространство порождает социализацию между животными, сосуществующими в коллективе, и эта сплоченная группа вступает в конфликты с другими группами животных, принадлежащих к тому же виду.
Если бы Одри ограничился одним лишь описанием поведения животных, его работа, быть может, стала бы предметом этологической дискуссии – не более того. Едва ли она привлекла бы общественное внимание, невзирая на бесспорные риторические таланты автора и его образный язык [93]93
См. об этом: Дж. Горер.Одри о человеческой природе: животные, нации, императивы // Человек и агрессия / Под ред. Э. Монтегю ( G. Gorer.Ardrey on Human Nature: Animals, Nations, Imperatives // A. Montagu (ed.). Man and Aggression. – London: Oxford University Press, 1973. – P. 165–167).
[Закрыть]. Однако теоретические амбиции и выводы Одри куда значительнее. Помимо сделанных им эмпирических заключений зоологического характера, он стремился распознать «правила игры», описывающие человеческое поведение в его многотысячелетней динамике. Описание характера пространственного измерения в жизни животных позволило ему – по крайней мере он сам так считал – вскрыть природу человеческих наций и конфликтов между ними в ходе всей истории. В итоге он пришел к следующему однозначному выводу:
«Когда мы выступаем на защиту своего владения или суверенитета своей страны, мы делаем это по причинам, нисколько не более сложным, не менее врожденным и не менее неискоренимым, чем те, которыми руководствуются не столь развитые животные. Собака лает на нас из-за хозяйского забора, побуждаемая ровно тем же мотивом, который заставил хозяина этот забор построить» [94]94
Одри P.Территориальный императив (The Territorial Imperative). C. 5.
[Закрыть].
Территориальные амбиции людей – отражение древнейшего биологического императива, определяющего человеческое поведение на самом базисном уровне. Одри заходит еще дальше: «Связь человека с землей, по которой он ступает, сильнее, чем его связь с женщиной, делящей с ним ложе». Обоснование этого яркого тезиса Одри свел к простому вопросу: «Сколько людей, с которыми мы пересеклись в ходе нашей жизни, отдали жизнь за родину? И сколько отдали жизнь за женщину?» [95]95
Одри Р.Территориальный императив (The Territorial Imperative). C. 6–7.
[Закрыть]
Это высказывание Роберта Одри ясно характеризует поколение, к которому он принадлежал. Будучи американцем, родившимся в 1908 году, он познакомился в молодости с людьми, пострадавшими в ходе Первой мировой войны. Уже взрослым он постоянно сталкивался с людьми, принадлежавшими к поколению Второй мировой войны; позднее он успел испытать на себе травмы корейского и вьетнамского конфликтов. Его книга, написанная в начале долгой вьетнамской войны, в значительной мере впитала – и, соответственно, отразила – международный климат 1960-х годов. Процесс деколонизации, начавшийся после окончания Второй мировой войны, породил в течение двух десятилетий больше новых «национальных территорий», нежели существовало на земном шаре в течение всего предыдущего столетия. Разумеется, окончание Первой мировой войны также привело к образованию значительного числа новых наций, однако процесс «национального преумножения» достиг своего апогея с созданием многочисленных государств «третьего мира». К этому следует прибавить, что национально-освободительные войны – в Индокитае, в Алжире, в Кении и т. д. – создали новую политическую картину мира, в котором идет тотальная война всех против всех, причем единственной декларируемой целью этой войны является обретение национальной территории, ясно определенной и независимой. Распространение национализма за пределы западного мира раскрасило глобус – сразу после окончания боев – во множество новых цветов и вдобавок прицепило к нему почти две сотни колоритных национальных флагов.
В научном воображении социобиологов история чаще всего поставлена с ног на голову. В конечном счете, социобиолог, как и любой другой исследователь в области социальных наук, формирует свой научный словарь на концептуально-терминологической основе, возникшей как побочный продукт социальных и политических процессов, непосредственным свидетелем которых он является. Однако этот исследователь чаще всего не сознает, что в подавляющем большинстве случаев поздние исторические явления объясняют ранние, а не наоборот. «Одолжив» у социальной реальности большую часть гуманитарного словаря, этолог перерабатывает его на свой вкус и объясняет в заимствованных терминах исследуемую им картину животного мира. Если этот этолог еще и социобиолог, то на следующем этапе он возвращается назад и пытается объяснить явления, происходящие в человеческом обществе, на базе терминов и моделей из жизни животных, изначально введенных для анализа социальных и исторических процессов и развивавшихся на их фоне.
Так, например, и межнациональные территориальные войны 40-х годов, и кровавые конфликты за обретение национальной родины, вспыхивавшие в самых разных местах с конца 40-х по 60-е годы, стали у прыткого социобиолога эволюционными процессами, генетически заложенными едва ли не во всех живых существах.
Этот биологический детерминизм напоминает, невзирая на многочисленные несходства, знаменитый географический детерминизм, изобретенный немецкими учеными Фридрихом Ратцелем (Ratzel, 1844–1904) и, намного позднее, Карлом Хаусхофером (Haushofer, 1869–1946), а также некоторыми другими. Хотя Ратцель и не был тем, кто впервые ввел в научный обиход термин «геополитика», он справедливо считается одним из основателей этой теории, тем более что он – один из первых мыслителей, спаявших воедино, причем весьма хитроумным образом, элементы биологии и политической географии. Несмотря на отвращение, которое Ратцель питал к примитивным расовым теориям, он все же полагал, что неполноценные народы должны приобщиться к развитым нациям в цивилизационном плане; контакт с ними даст отсталым народам возможность обрести цивилизационную зрелость.
Бывший студент-зоолог, ставший ярым приверженцем дарвинизма, Ратцель был абсолютно убежден в том, что нация – органическое «тело», которому для развития необходимо постоянно изменять свои территориальные границы. Точно так же как любой живой организм растет, растягивая при этом свою кожу, так родина в ходе развития должна наращивать свою территорию (в противном случае она деградирует и даже перестает существовать). «Нация не остается в ходе жизни поколений неподвижной, живущей на одном и том же куске земли, – провозглашал Ратцель. – Она должна расширяться, чтобы усиливаться и расти» [96]96
Цит. по: D. Т. Murphy.The Heroic Earth. Geopolitical Thought in Weimar Germany, 1918–1933. – Ohio: Kent State University Press, 1997. – C. 9.
[Закрыть]. Хотя Ратцель и утверждал, что расширение нации обусловлено ее культурной активностью, а не применением насилия, именно он ввел в научный словарь термин Lebensraum– «жизненное пространство».
Карл Хаусхофер сделал еще один шаг к созданию целостной теории национального жизненного пространства. Не случайно его геополитика стала чрезвычайно популярной областью исследования в территориально ущемленной Германии в период между двумя мировыми войнами. Эта теоретическая дисциплина, имевшая приверженцев в Британии и в Соединенных Штатах, а еще раньше – в Скандинавии, пыталась объяснить соотношение международных сил постоянными закономерностями, базирующимися на природных процессах. Неутолимая жажда пространства постепенно заняла центральное место в теоретическом построении, пытавшемся найти общее объяснение напряженной нервозности, характеризовавшей отношения между национальными государствами в XX веке.
Геополитическая логика устанавливала, что любая нация, растущая и укрепляющаяся демографически, нуждается в жизненном пространстве, иными словами – в увеличении территории изначальной родины. Поскольку, к примеру, соотношение между численностью населения Германии и размером ее территории существенно выше, чем у граничащих с ней стран, у Германии есть право, естественное и историческое, расшириться за их счет. Это расширение должно осуществляться путем присоединения менее развитых в экономическом плане областей, в которых некогда проживали или до сих пор проживают «этнические» немцы [97]97
О Хаусхофере см. там же, с. 106–110.
[Закрыть].
Позднее присоединение Германии к гонке за овладение колониями, начавшейся для нее лишь в конце XIX века, стало дополнительным политическим элементом, способствовавшим расцвету популярных теорий «жизненного пространства». Германия, ощущавшая себя обделенной в ходе раздела империалистическими державами их огромной территориальной добычи и в еще большей степени – ущемленной в правах условиями мирного договора, навязанными ей после Первой мировой войны, была обязана, в рамках данной теории, территориально «укрепиться». Этого требовал естественный закон, испокон веку определявший соотношения между народами в истории. Негерманские географы на начальном этапе с большим энтузиазмом участвовали в разработке этого направления политической мысли.
Ясно, что, когда «закон природы» основывается исключительно на таких категориях, как происхождение и территория, соединение геополитики с этноцентризмом становится взрывчатым веществом, как мы знаем, взлетевшим на воздух буквально через несколько лет. Хаусхофер и другие теоретики не повлияли существенным образом на Гитлера и его режим, однако оказали последним существенные косвенные услуги. Они и их выкладки помогли фюреру стать «идеологически легитимным», отбелив прежде всего его ненасытную жажду завоеваний. Их теории были отправлены в долгий ящик, по крайней мере с «научной» точкц зрения, после военного разгрома нацистского режима [98]98
Геополитической теории потребовалось немало времени, чтобы оправиться от фиаско, связанного с ее «успехом» у нацистов. Тем не менее в 70-е годы она снова стала считаться легитимным направлением исследований. См.: Д. Ньюман.Геополитический Ренессанс ( D. Newman.Geopolitics Renaissant: Territory, Sovereignty and the World Political Map // D. Newman (ed.). Boundaries, Territory and Postmodernity. – London: F. Cass, 1999. – P. 1–5).
[Закрыть].
Популярные рассуждения Одри также были забыты довольно быстро. Хотя социобиологические теории время от времени снова входили в моду, их практические выводы, касающиеся образования «национальных родин», с годами постепенно потускнели. Несмотря на несомненную привлекательность рассуждений Одри, этология отказалась – со временем – от жесткого детерминизма, предписываемого его теорией и более или менее сходными взглядами на территориальное поведение человека, развитыми некоторыми из его коллег [99]99
Я имею в виду прежде всего знаменитую книгу Конрада Лоренца «Об агрессии» ( K. Lorenz.On Aggression. – London: Methuen, 1967).
[Закрыть].
Прежде всего, выяснилось, что именно развитые приматы, наиболее близкие человеку, например, шимпанзе, гориллы и даже некоторые виды бабуинов, вообще не являются «территориалистами». Поведение животных, как раз в том, что касается их отношений с ближайшим окружением, оказалось гораздо более сложным, нежели вырисовывалось из теории Одри. Даже у птиц, самого «территориального» класса живых существ, обнаружены поведенческие схемы, зависящие от меняющихся окружающих условий гораздо больше, чем от врожденных позывов. Эксперименты, изучавшие зависимость поведения животных от изменений условий их обитания, показали, что агрессивное поведение по отношению к «физическому соседу» нередко приобретает новые формы, когда в условиях обитания происходят существенные геобиологические перемены [100]100
См. главу «Философия недвижимости и верные биологические выборы» в книге Э. Монтегю «О человеческой агрессивности» (Тель-Авив: Ам овед, 1978. – С. 193–214). См. также объемную статью Джона Харрела Крука «Природа и функция территориальной агрессии» ( J. H. Crook.The Nature and Function of Territorial Aggression // A. Montagu (ed.). Man and Aggression. – P. 183–217).
[Закрыть].
Антрополог, обладающий достаточными историческими познаниями, вдобавок не вправе игнорировать то обстоятельство, что «гомо сапиенс», начавший свой путь, насколько нам сегодня известно, на африканском континенте, сумел преуспеть и добиться демографического процветания именно потому, что не цеплялся за знакомую и освоенную территорию, а кочевал и продолжал завоевывать мир своими легкими на подъем, проворными ногами. Земной шар заселялся все новыми кочевыми племенами собирателей и охотников, продолжавшими беспрестанно идти вперед в поисках пищи, отыскивающими себе все новые «жизненные пространства» или более щедрые берега для рыбной ловли. Лишь после того, как природа обеспечила основные потребности человека, он начал останавливаться в каких-то определенных местах и превращать их в более или менее постоянную среду обитания.
Несомненно, человека прикрепила к определенному и постоянному участку земли, причем в довольно поздние времена, не его биологическая «территориальная» склонность, а аграрная революция – постепенный переход к сельскохозяйственной обработке земли. Переход от кочевого существования к оседлому, случившийся поначалу – на сколько-то постоянной основе – на осадочных «островках», то есть на землях, плодородные слои которых наносились реками и ручьями (они были естественным образом удобрены и давали высокие урожаи даже во времена, когда человек не обладал необходимыми для продолжительной аграрной деятельности знаниями и навыками), породил образ жизни, ставший со временем привычным и распространенным. Именно обработка земли явилась базисом, на котором начали развиваться территориальные цивилизации, разросшиеся со временем в огромные империи.
Вместе с тем в этих древнейших государствах, появившихся, к примеру, в Месопотамии, в Египте или в Китае, не возникло коллективное территориальное самосознание, общее для всех подданных, обрабатывавших местные земли. Границы этих громадных империй не были восприняты (и усвоены) коллективным сознанием как линии, ограничивающие пространство обитания крестьян или рабов. Естественно предположить, что земледельцы, главные производители продовольствия во всех аграрных цивилизациях, придавали земле очень большое значение; весьма возможно, что их связь с ней была не только материальной, но и ментальной, однако маловероятно, что они у них сформировали какое-либо отношение к обширной территории государства как такового.
Важно помнить, что в традиционных древних обществах, как кочевых, так и оседлых, землю воспринимали как богиню-мать, порождающую все живое [101]101
В греческой мифологии богиней Земли была Гея, в индуистском пантеоне – Буми (Bhumi), в Ханаане аналогичные функции исполняла богиня Ашера.
[Закрыть]. Освящение куска земли, на котором жило племя или стояла деревня, было распространенным обычаем среди самых различных человеческих коллективов на всех континентах, однако оно не имело ничего общего с современным патриотизмом. Земля почти всегда воспринималась как собственность богов, а не как человеческое владение. В древности люди чаще всего считали себя наемными работниками, обрабатывающими землю, или временными издольщиками на ней, но не ее хозяевами. Боги при посредстве тех или иных религиозных посредников передавали землю в пользование своей пастве и могли по своему желанию в случае нарушения культовой дисциплины взять ее обратно; единственный бог (с появлением монотеизма) поступал точно так же.
2. Место рождения или гражданская община?
Как мы видели, Одри искал – и находил – первые проявления национального территориализма в поведении животных; историки, со своей стороны, издавна связывали зарождение знакомого нам сегодня понятия родины с его появлением в древних текстах. Поскольку многие из исследователей прошлого охотно рассуждали (а иногда и продолжают рассуждать) о нациях так, как будто они существовали с момента образования первых человеческих коллективов, по сей день можно столкнуться с «вечной и универсальной родиной» в немалом числе исторических книг, как научных, так и популярных.
Поскольку исходным материалом, так сказать, «сырьем» для историка, в отличие от антрополога, является письменный текст, построение модели прошлого всегда начинается с подбора литературных «первоисточников» и с неизбежностью основывается на них. Разумеется, историк должен знать, кто создал эти старинные тексты и при каких обстоятельствах они появились на свет; несомненно, хороший историк обязан быть прежде всего аккуратным и осторожным филологом. Однако не так уж часто можно встретить исследователей, полностью осознающих (и ни на мгновение не забывающих), что практически все дошедшее до нас из прошлого, за вычетом, разумеется, чисто материальных свидетельств, оставлено тончайшими прослойками образованных элит, составлявшими ничтожный процент населения досовременных обществ.
Эти документы, разумеется, чрезвычайно важны, ибо без них мы располагали бы лишь ничтожным количеством исторической информации. Вместе с тем невелика цена любым утверждениям, любым выводам, относящимся к прошлым мирам, если они не принимают во внимание чрезвычайную субъективность и узость интеллектуального подхода, присущего любому письменному свидетельству – литературному, юридическому или иному. Историк, полностью осознающий характер технологии, при помощи которой он восстанавливает нарративы прошлого, должен иметь в виду, что не сумеет при ее посредстве точно установить, что чувствовали и думали простые крестьяне, составлявшие молчаливое большинство всех обществ прошлого, большинство, не оставившее после себя письменных памятников. В самом деле, каждое племя, каждая деревня, каждая окруженная горами долина порождали собственный, отличный от других диалект. Члены кочевых племен, как и оседлые крестьяне, располагавшие лишь весьма ограниченными средствами коммуникаций, не имевшие даже базисных представлений о чтении и письме, не нуждались в сложном, развитом литературном лексиконе, чтобы пасти стада, обрабатывать землю, рожать детей и отправлять религиозные культы. Межличностные контакты в аграрном мире были в огромной степени совершенно непосредственными и базировались на жестах и интонациях, а не на абстрактных метапонятиях, разработанных немногочисленными интеллектуалами, создавшими письменные тексты, часть которых дошла до наших дней.
Придворные писцы, философы, жрецы и священники, функционировавшие в своеобразном культурном и социальном симбиозе с земельной аристократией, зажиточными городскими классами и военной верхушкой, оставили после себя массу информации. Проблема состоит в том, что историки слишком часто воспринимают эту информацию как открытый банк данных, не требующих аналитического разбора, кладезь знаний общего характера, адекватно описывающих концептуальные механизмы и основные обычаи, присущие древнему обществу в целом. Отсюда и берется постоянное, сбивающее с толку использование таких терминов, как «раса», «этнос», «народ», «нация», «переселение народов», «изгнание народов» и «национальное государство», неряшливо и без разбору практикуемое в отношении досовременных обществ.
Любой исторический нарратив является пленником пестрого лабиринта письменных памятников. При этом осторожный исследователь хорошо знает, что обязан передвигаться в текстуальном лабиринте с величайшей опасливостью, как если бы пытался продернуть нитку через тонкое игольное ушко. Научный успех не должен порождать иллюзий – исследователю следует сознавать, что его работа является почти исключительно освоением исторических «продуктов», созданных малочисленной элитой. Иными словами, он лишь едва касается огромного человеческого ледника, увы, давно растаявшего, жизнь и сознание которого никогда не будут полностью реконструированы. «Первоисточники» сходны со световыми конусами, излучаемыми включенными прожекторами; эти конусы освещают лишь незначительную часть окружающего пространства и, самое главное, оставляют в тени и темноте все, что отделено от прожектора даже самыми незначительными препятствиями.
Эта короткая глава коснется некоторых древних присредиземноморских текстов, а затем слегка углубится в важные и хорошо известные европейские сочинения. К сожалению, мои рассуждения будут на сей раз катастрофически европоцентристскими; признаюсь сразу: прискорбная узость подхода не является в данном случае следствием идеологии автора – она порождена исключительно ограниченностью его исследовательских возможностей.
Начну с того, что термин «родина» в древних присредиземноморских культурах встречается уже в чрезвычайно ранних произведениях. Когда великий Гомер упоминает в «Илиаде» страну, где родился тот или иной герой, он всякий раз употребляет термин «патрида» (πατρίδα). Этим же термином он обозначает место, о котором тоскуют воины, находящиеся в походах или сражающиеся в далеких краях. На любимой родине всегда находятся жена, дети, родители и вся остальная семья. Она, по существу, идиллический дом, куда возвращаются мифологические герои, невзирая на незаурядные мужество и терпение, все же подверженные усталости. Родина – это, кроме того, священное место, в котором непременно похоронены предки [102]102
См., например: Песнь V, стр. 212, а также Песнь IX, стр. 41 и 46 ( Гомер.Илиада. – Тель-Авив: Ярон Голан, 1995. – С. 117 и 190).
(Классический русский перевод «Илиады» (Н.И. Гнедича) порождает сходные, хотя и несколько отличные координаты приведенных автором цитат. См., например (V, 212–213):
«Если я вспять возвращусь и увижу моими очамиЗемлю родную, жену и отеческий дом наш высокий»; или (IX, 45–48):
«Но останутся здесь другие герои ахеян,Трои пока не разрушим во прах! но когда и другие…Пусть их бегут с кораблями к любезным отечества землям!» – Прим. пер.)
[Закрыть].
Приблизительно тремястами годами позже Эсхил в «Персах», первой трагедии, дошедшей до наших дней, пламенно описал знаменитую морскую битву при Саламине, в которой (в 480 году до н. э.) флот коалиции греческих городов сразился с персидским флотом. Эсхил вложил в уста своих героев следующий клич:
Остатки разбитой персидской армии вторжения также возвращаются в «патриду», к родным, чтобы оплакивать горькое поражение [104]104
Там же, строки 510–512. Геродот в своей «Истории» время от времени использует термин «родина», однако очень редко, в основном, чтобы указать, откуда человек происходит. См., например: часть III, параграф 140, или часть IV, параграф 76. (Академический русский перевод (см., например, издание Библиотека «Вехи», 2008) также избегает в обоих приведенных автором примерах обязывающего термина «родина». В III, 140 говорится просто: «Силосонт же отвечал на это: „Не дари мне, царь, ни золота, ни серебра, но освободи и пожалуй мне родной город Самос…» В IV, 76: «Анахарсис дал богине такой обет: если он возвратится домой здравым и невредимым…» – Прим. пер.)
[Закрыть]. Однако необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: ни Греция, ни Персия не являются родиной воинов. Родина – это дом, город, место, откуда они происходят. Родина – это небольшая «туземная» территория, физически, непосредственно знакомая всем своим сыновьям и ближайшим соседям.
И в более поздних драмах, таких как «Антигона» Софокла или «Медея» Еврипида, равно как и в других произведениях, созданных в V веке до н. э., термин «родина» появляется, чтобы охарактеризовать драгоценное для каждого человека место – столь драгоценное, что оно не может быть оставлено ни при каких обстоятельствах. Расставание с родиной всегда рассматривается как изгнание из теплого, надежного дома, как страшная катастрофа; нередко оно куда хуже смерти. Родина характеризуется как нечто ясно определенное, надежное и знакомое; все, что вне нее, – как непонятное, угрожающее и отчужденное [105]105
См., например: Софокл.Антигона (183 и 200). – Тель-Авив: Шокен, 2002. – С. 41–42; Эврипид.Медея (38 и 643–651). – Тель-Авив: Шокен, 1983. – С. 32 и 53.
[Закрыть].
Несколько позже, описывая сражение между сиракузянами и афинянами, выдающийся историк Фукидид замечает, что сиракузяне сражались, защищая родину, в то время как их враги афиняне – за захват чужой земли [106]106
Фукидид.История Пелопонесской войны. Книга VI, 69 («Сиракузянам предстояло сражаться за родину, каждому из них за собственное спасение в настоящем и за свободу в будущем. Из противников их афиняне шли на борьбу за приобретение чужой земли…» – Прим. пер.)
[Закрыть]. В «Истории Пелопонесской войны» слово «родина» появляется много раз, но, опять-таки, – увы, приходится повторяться – оно ни в одном случае не обозначает страну всех эллинов. Вопреки страстному желанию поборников греческого национализма Нового времени, «патрида» в древних книгах вовсе не синоним территории Эллады. Невозможно приписать этому слову такое значение даже с величайшей натяжкой! Термин «родина» у древних историков применяется исключительно для обозначения отдельного города-государства – избранного полиса. Поэтому в приводимой Фукидидом впечатляющей речи афинского политического руководителя Перикла не могли не появиться Афины в качестве объекта обожания и поклонения [107]107
Следует отметить, что философы-стоики иногда распространяли понятие «родина» на весь космос, то есть на всю Вселенную. Вместе с тем, хотя Греция никогда не рассматривалась как родина, среди некоторых эллинских интеллектуалов бытовала концепция общегреческой культурной общности, основой которой были представления об «общей крови» и языковой и культовой близости. См., например: у Геродота (История, VIII, 144), а также, разумеется, знаменитые слова Исократа (в 50-м параграфе «Панегирика»). См., например, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0144%3Aspeech%3D4%3Asecti0n%3D50.
(Вот классический пассаж из «Истории», VIII, 144: «Так афиняне отвечали Александру, а спартанским послам сказали вот что: „Опасения лакедемонян, как бы мы не примирились с персидским царем, совершенно естественны для людей [в их положении]. Нет на свете столько золота, нет земли, столь прекрасной и плодоносной, чтобы мы ради этих благ захотели перейти на сторону персов и предать Элладу в рабство. Много причин, и притом весьма важных, не позволяет нам так поступить, если бы мы даже пожелали этого. Во-первых, самое важное препятствие к примирению – это сожженные и разрушенные кумиры и святилища богов. За это нам нужно кровью отомстить, прежде чем примириться с человеком, содеявшим это. Затем – наше кровное и языковое родство с другими эллинами, общие святилища богов, жертвоприношения на празднествах и одинаковый образ жизни. Предать все это – позор для афинян“». А вот что говорится в 50-м параграфе речи Исократа «Панегирик»: «В уме и красноречии Афины своих соперников опередили настолько, что стали подлинной школой всего человечества, и благодаря именно нашему городу слово „эллин“ теперь означает не столько место рождения, сколько образ мысли и указывает скорее на воспитание и образованность, чем на общее с нами происхождение». См.: http://ancientrome.ru/antlitr/isocrates/panegyricus.htm. – Прим. пер.)
[Закрыть].
Порождением эллинского восприятия понятия «родина» стал необычный и весьма захватывающий вариант политизации определенной территории. Это понятие, со всеми его эмоциональными нагрузками, не только «парит» над территориальным объектом, но и оказывается реализованным, причем довольно часто, в рамках определенной политической структуры. Территория подвергается политизации в силу тех же причин, по которым эллинская политика всегда отчасти территориальна. Чтобы четко осознать это обстоятельство, имеет смысл обратиться к Платону. Его блестящая, неповторимая логика поможет нам гораздо яснее понять проблему.
Как и Фукидид, Платон стопроцентно отождествляет родину с отдельным полисом, а не с большой Грецией. Настоящая «патрида» – это независимый город-государство с его политическими институтами и системой законов. Философ многократно рассуждает о родине не как о месте рождения, не как о физической территории, «населенной» ландшафтами и порождающей ностальгию, а прежде всего как о политической сущности, охватывающей весь спектр форм гражданского существования. Например, в знаменитом диалоге «Критон» Платон вкладывает в уста Сократа следующий упрек, адресованный собеседнику: «Или ты при всей своей мудрости не замечаешь того, что Отечество дороже и матери, и отца, и всех остальных предков, оно более почтенно, более свято и имеет больше значения и у богов, и у людей – у тех, у кого есть ум, – и перед ним надо благоговеть, ему надо покоряться и, если оно разгневано, угождать ему больше, чем родному отцу. Надо либо его переубедить, либо исполнять то, что оно велит, а если оно приговорит к чему-нибудь, то нужно терпеть невозмутимо, – будут ли то побои или оковы, пошлет ли оно на войну, на раны и на смерть; все это нужно выполнять, ибо в этом справедливость. Нельзя отступать, уклоняться или бросать свое место в строю. И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велит Государство и Отечество, или же стараться вразумить их, в чем состоит справедливость. Учинять же насилие над матерью или над отцом, а тем паче над Отечеством – нечестиво» [108]108
Платон.Критон, 51.
[Закрыть].
Здесь, как и во многих других случаях, «родина» Платона – это город [109]109
В данном случае, безусловно, его – и Сократа – родные Афины. – Прим. пер.
[Закрыть], представляющийся ему высшей ценностью, подчиняющей себе все другие. Исключительность и моральная сила этого понятия кроются в том, что оно обозначает самоуправляющееся территориальное пространство обитания и функционирования полновластных граждан. Глубокая заинтересованность граждан, составляющих властное политическое тело, в его успехах обязывает их защищать «родину», которая, по существу, тождественна их общине. Отсюда и необходимость ее освящения, сочлененного с религиозными ритуалами, а также поклонения ей в праздники. Безграничная патриотическая требовательность Платона полностью вращается вокруг города-государства, возвышающегося над всем комплексом личных интересов, и безоговорочно подчиняет их интересам города и коллективным ценностям.
Афинский дискурс о родине во многих аспектах напоминает современный, развернувшийся в Новое время. Лояльность, преданность территории, готовность жертвовать собой ради нее трактуются Платоном и другими как высокие ценности, как священные качества, достоинства которых не подлежат сомнению – тем более, постыдно трактовать их саркастически. Может показаться, что мы находим у Платона зачатки национального сознания, которое достигло полного развития в человеческом обществе лишь в последние двести лет. Быть может, родина, какой она представлялась Фукидиду, Платону и другим афинским гражданам, – это та же родина, о которой думали Бенито Муссолини, Шарль де Голль, Уинстон Черчилль и миллионы анонимных героев XX века? Действительно ли, в конечном счете, нет ничего нового под солнцем?
Увы, сколь ни велико сходство – различие еще сильнее. Точно так же как древние эллинские общества не знали современной представительной демократии, а только демократию прямую, требующую непосредственного политического действия, так абстрактная национальная формула, функционирующая в современном мире, была совершенно им чужда. Древние культуры эллинского типа поневоле довольствовались патриотической лояльностью по отношению к маленьким и «доступным в ощущениях» городам-государствам. Все их граждане были хорошо знакомы с физическим и человеческим «ландшафтами» полиса, с его размерами и границами [110]110
А нередко и между собой. – Прим. пер.
[Закрыть]. Они ежедневно встречались друг с другом на агоре [111]111
Агора – рыночная площадь в древнегреческих полисах, где проходили гражданские собрания.
[Закрыть], принимали участие в народных собраниях, в общественных празднествах и театральных представлениях. Жизнь в полисе строилась на непосредственных контактах между гражданами; характер этих контактов обусловливал направленность и мощь патриотического чувства, являвшегося одним из центральных элементов полисного сознания.
Следует иметь в виду, что малая интенсивность коммуникаций между удаленными друг от друга людскими коллективами и неэффективные способы распространения элементов культуры делали невозможным возникновение широкомасштабного демократического отечества. Разумеется, как мудро установил Аристотель, «человек по природе своей существо политическое», однако в его время это существо было гражданином города-государства, не располагавшего типографиями, точными картами, газетами, радио, обязательным всеобщим образованием и многими другими вещами. Поэтому когда в конце концов эллинский мир объединился под блистательным руководством Александра Македонского, жизнь греческого полиса утратила привычный старинный патриотизм, точно так же как повседневная греческая культура – присущие ей демократические аспекты.
Кроме того, этические контуры древней полисной демократии имели мало общего с политическими правилами демократии современной. Полноправные граждане города-государства были незначительной частью жителей полиса, особенно если включить в число последних крестьян, обрабатывавших землю в его окрестностях – на принадлежащих полису территориях. Как известно, такими гражданами могли считаться лишь свободнорожденные мужчины, родители которых также были гражданами полиса, признанные таковыми сообществом исконных местных жителей, внесенные в список избирателей и причисленные к выборным городским институтам. Женщины, эмигранты, выходцы из смешанных семей и многочисленные рабы были лишены гражданских прав и не участвовали в полисном самоуправлении. Универсальные гуманистические представления, появившиеся в новейшее время, не были знакомы присредиземноморскому миру, располагавшему богатой, утонченной, но, увы, чисто элитарной культурой [112]112
О сложных взаимосвязях между принципом автохтонности и политической теорией в Афинах см. статьи в увлекательной книге N. Loraux.Né de la terre. Mythe et politique à Athènes. – Paris: Seuil, 1996. О нетривиальной спартанской концепции пространства и о необычных отношениях с «землей отцев» в Спарте см. в книге I. Malkin.Myth and Territory in the Spartan Mediterranean. – Cambridge: C. U. P., 1994.
[Закрыть].