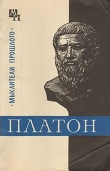Текст книги "Платон едет в Китай"
Автор книги: Шади Бартш
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
II. Культуры
Воображаемая аудитория этой книги – читатели как в Китае, так и в США. Она не адресована конкретно западным антиковедам, да и китайские интеллектуалы без меня знают, что они сами написали. Я надеюсь, что в горниле классической античности мы сможем увидеть, как зарождаются глубинные культурные и политические ценности и убеждения, претендующие на вечный авторитет, и что наблюдение за этим процессом заставит нас задуматься о том, как режимы оправдывают свое существование, даже если они сильно связаны с определенным временем и местом. Я не ставила целью представлять то или иное правительство, и если иногда мне не удавалось сохранять объективность, то лишь потому, что я сама воспитана на западных, а не на восточных точках зрения. Возможно, отсутствие устойчивой платформы, с которой можно было бы выносить суждения, говорит о том, что, как пожаловался один из моих читателей, этой книге не достает нравственных ориентиров. Но я надеюсь, что смогу убедительно доказать, что ее моральный компас опирается (так сказать) на отсутствие нравственных ориентиров, или, точнее, на веру в то, что исследования, подобные этому, хотя бы в малой степени поспособствуют национальному самоанализу и лучшему пониманию различных культур; что они смогут послужить нам (и другим) зеркалом наших нравственных допущений, а также привести к пересмотру тех предположений, которые Запад навязывает в своих интерпретациях Китая и его культурных традиций (и наоборот). Иными словами, теперь, когда мы понимаем, как это делается, можем ли мы на западе убедиться, что мы тоже так поступаем? Способны ли мы проявить чуткость к тому, как язык наших вопросов формирует и ограничивает возможности ответов – таких как «Рационально ли это?», «Являемся ли мы гражданами?» или «Что такое демократия?».
III. Мифы
Более богатый взгляд на основные ценности других культур также помогает нам отмахнуться от претензий некоторых крупномасштабных теорий – и поскольку в этой книге я выделяю китайский национализм, то, наверное, пора включить в нее несколько западных нарративов о месте демократии в глобальном мире, таких как «конец истории» Фрэнсиса Фукуямы, «столкновение цивилизаций» Сэмюэла Хантингтона или «ловушка Фукидида» Грэхама Аллисона. Последний из трех дал китайскому правительству повод утверждать, что США смотрят на все через призму агрессии. В своей книге 2017 года «Обречены воевать. Могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?»[24]24
Грэхам А. Обречены воевать. Могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида? М.: АСТ, 2019. – Прим. пер.
[Закрыть] Аллисон утверждает, что вероятность войны возникает каждый раз, когда развивающаяся держава подходит близко к тому, чтобы вытеснить другую державу с позиции глобального гегемона. Следовательно, восходящий Китай непременно столкнется с непоколебимой Америкой – такой сценарий был описан Фукидидом в начале «Истории»: «Рост могущества Афин и тревога, которую это внушало Спарте, сделали войну неизбежной»4. Эта политическая модель нынешней китайско-американской напряженности вокруг нравственного и экономического статуса в глобализованном мире привлекательна тем, что она опирается на уроки истории, а также содержит неявные суждения об участниках, не говоря уже о том, что она предлагает всем способ предсказать тревожное будущее глобального конфликта. Хотя Аллисон заявляет своей целью прогнозирование и, следовательно, предотвращение этого конфликта, сама аналогия подтверждает идею о том, что война весьма вероятна5.
Китайцам такой антагонистический способ концептуализации США и Китая кажется опасным, и они призывают американцев отказаться от этой аналогии ради их же блага6. В редакционной статье 2019 года под названием «В мире нет “ловушки Фукидида”: Комментарии об опасности стратегического заблуждения некоторых американцев» Го Цзипин 国纪平 (псевдоним, под которым в газете «Жэньминь жибао» публикуются редакционные статьи, посвященные позициям Китая по важным международным вопросам) написал следующее:
Концепция «ловушки Фукидида» соответствует политическим взглядам США на мир как игру с нулевой суммой и их девизу Keep America First («Сохранить Америку на первом месте») ‹…›. По мнению бывшего главного стратегического советника Белого дома, Китай представляет собой «самую серьезную экзистенциальную угрозу» для США, и главный спорный вопрос – это намерения Китая на мировой арене, а также то, что эти амбиции означают для процветания США. ‹…› Что касается будущего китайско-американских отношений, то мир не хочет жить под угрозой «ловушки Фукидида», а также рассчитывает, что великие державы посвятят себя первостепенной задаче совершенствования глобального управления и содействия всеобщему процветанию своими дальновидными решениями и действиями7.
По мнению Го, именно эта аналогия – о том, что США не могут более терпеть рост китайской мощи так же, как спартанцы не смогли терпеть Афины, – создает опасный контекст. США не должны переходить к агрессии, когда мирные и любящие жэнь китайцы протягивают им цветок лотоса. Вместо этого западу следует извлечь правильные уроки из своего античного прошлого. Го процитировал из Фукидида древнее предостережение о глупости тех, кто считает, что мы столкнулись с «ловушкой Фукидида»: «Люди нередко способны предвидеть грядущую опасность. Однако они позволяют идее увлечь их к необратимой катастрофе ‹…› из-за собственной глупости, а не из-за несчастья»8.
С другой точки зрения, с таким же успехом можно утверждать, что Китай – это Спарта, а США – Афины9. Как и Спарта, Китай до недавнего времени был сухопутной державой, ориентированной на внутренний мир, в то время как США уже долгое время имеют могучий военно-морской флот. Как заметил Джек Бауэрс из Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета, свободное объединение союзов под руководством Спарты можно сравнить с использованием Китаем «мягкой силы» в Тихоокеанском регионе и Африке10. Китайцы даже приобрели древний афинский порт Пирей в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Пожалуй, то рвение, с которым Китай скрывает внутренние проблемы, демонстрируя всему миру силу, напоминает легенду о спартанском мальчике, который позволил лисенку прогрызть себе живот, но не показал боли11. Однако лучшей позицией, вероятно, будет полностью отвергнуть аналогию с Древней Грецией. Как предположил Джеймс Палмер, западным стратегам, наверное, нужно немного подучить историю: недальновидно, что «даже выходя за пределы Афин, стратеги все равно пишут о Европе». В рассуждениях об американо-китайских отношениях практически не упоминается история китайских войн как таковых, а также обширная история азиатских конфликтов, войн и политических разногласий за последние 3000 лет»12.
Согласно теории «столкновения цивилизаций» Сэмюэла Хантингтона, главным источником конфликтов в период после холодной войны будет не национальная, а культурная и религиозная идентичность людей13. Эта идея немногим лучше справилась с задачей предсказания развития мировой политической сцены и критиковалась за эссенциализм, расизм и нежелание учитывать сложные реалии мира с проницаемыми границами. Однако, хотя некоторые западные специалисты ее отвергают, эта масштабная теория не так уж непопулярна среди китайских интеллектуалов, которые охотно сравнивают свою древнюю цивилизацию с западной и доказывают превосходство первой. Вэнь Ян (文扬) из Китайского исследовательского института Фуданьского университета, сторонник тезисов Хантингтона, недавно опубликовал книгу под названием «Логика цивилизаций» (Вэньмин дэ лоцзи, 文明的逻辑). В ней он утверждал (с удивительно большой долей того, что можно назвать упрощением), что «западная цивилизация возникла как новая цивилизация, основанная варварами, и она же является разрушительницей античных цивилизаций»14. В отличие от нее, китайская цивилизация развивалась на протяжении 5000 лет: «Только китайская цивилизация обладает такой “этернальностью”. По этой причине китайская цивилизация должна быть мерилом оценки других цивилизаций» – то есть китайцы делали и продолжают делать что-то правильно. Кроме того, они находятся на своей земле, в отличие от странствующих воинственных варваров. Сейчас именно Америка и запад находятся в упадке, поскольку международный политический и экономический ландшафт претерпевает тектонические сдвиги15.
Взгляды Фрэнсиса Фукуямы, напротив, подверглись резкому осуждению в Китае. Идея о том, что западная либеральная демократия доказала свое превосходство и привела к «концу истории», в результате чего демократическое правление станет вечной нормой, по мнению китайцев, очевидно опровергается реальностью. В статье 1989 года «Конец истории?» Фукуяма утверждает следующее:
Триумф Запада, западной идеи очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. ‹…› То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализация западной либеральной демократии как окончательной формы правления16.
Хотя эта статья находилась на рассмотрении рецензентов 4 июня 1989 года, почти никто из них не упомянул о площади Тяньаньмэнь17. Но подавление волнений китайскими властями, произошедшее незадолго до выхода статьи, должно быть, заставило некоторых усомниться в справедливости ее предсказаний. К удовлетворению КПК, история доказала обратное: Китай пережил экономический подъем, а Си Цзиньпин упрочил свою бессрочную власть. Китайские критики Фукуямы считают, что его взгляды отражают современное западное высокомерие и неспособность демократии видеть дальше двух коротких золотых периодов – античных Афин и современной Америки (по крайней мере, до Трампа). Фукуяма серьезно недооценил глубину и силу коммунистическо-конфуцианской идеологии.
Фукуяма объявил, что это его не обескуражило (поскольку он имел в виду долгосрочную перспективу), и развил свои идеи в книге 1992 года «Конец истории и последний человек», повторив и расширив их. Через пять лет после этого он написал еще одну работу в защиту своих взглядов, заявив, что они «нормативные», а не эмпирические, и продолжает считать, что в конце концов окажется прав18. И все же авторы десятков, даже сотен статей в крупных китайских газетах, научных журналах и блогосфере утверждают, что либо Фукуяма явно ошибается, либо отступает от своих утверждений о конце истории19. Второй вариант предполагает некоторую гармонизацию этого мыслителя. Согласно китайской Википедии, Фукуяма изменил свои взгляды в связи с пандемией COVID-19: «В апреле 2020 года газета Opinion News взяла у него интервью о его новых взглядах в связи с эпидемией коронавируса. Фукуяма, по сути, признал, что неолиберализм мертв. В будущем большинство людей в мире признают необходимость сильного правительства»20. Среди тех, кто просто считает, что он не прав, распространены и более резкие формулировки. В 2020 году Чэнь Гуань в своем посте на Zhihu (китайский сайт вопросов и ответов, созданный по образцу Quora) под названием The Embarrassment of Francis Fukuyama («Конфуз Фрэнсиса Фукуямы») написал следующее:
В 2020 году, после 30 лет страстей вокруг его персоны, Фрэнсис Фукуяма объявит о самом большом конфузе в своей карьере продавца теорий. Он упустил из виду один момент: история человечества – это 5000 лет эволюции, а не полвека причин и следствий ‹…›. В интервью Viewpoint о результатах эпидемии Фукуяма начал изобретательно менять тему. Столкнувшись с фактами, он был вынужден честно признать выдающиеся результаты Китая в борьбе с эпидемией, но при этом явно оставил пути отступления для своей институциональной доктрины.
Чэнь даже критикует последнюю книгу Фукуямы, посвященную признанию достоинства, упоминая Аристотеля: «Древнегреческий мудрец Аристотель сказал в “Никомаховой этике”, что “люди разной натуры толкуют счастье по-разному”[25]25
«Но в вопросе о том, что есть счастье, возникает расхождение». Аристотель. Никомахова этика, 2 (IV) / в пер. Н. Брагинской. – Прим. пер.
[Закрыть]. Китай, как страна с многовековой историей и традициями, не терпит небрежного толкования Фукуямы»21.
Цзэн Чжаомин (曾昭明) – если я не ошибаюсь, «председатель комитета уезда Дапу народного политического консультативного совета Китая» – в своей колонке в Up Media от 20 ноября 2016 года высказался еще более жестко. По его мнению, предсказание Фукуямы – это бестиализация человеческой расы (!):
Фукуяма никогда не менял своих базовых взглядов ‹…›. Он самодовольно утверждает, что либерально-демократическая система – это «конечная точка» человеческой истории, но не осознает, что либерально-демократическая система будет порождать лишь звероподобных «последних людей», поэтому лучше сказать, что либерально-демократическая система – это «конец мировой истории».
Мало того, что США более не являются символом демократии, так и сама демократия более не является символом человеческой цивилизации. Малоприятная победа Трампа, ставшая результатом потворства низменным инстинктам, иллюстрирует «превосходство» «пути с китайской спецификой»22. Мне трудно согласиться с этой точкой зрения отчасти потому, что я не желаю, чтобы моей неизбежной участью стала бестиализация, если я не перееду на другую сторону Тихого океана, но также и потому, что это еще один из тех глобализирующих мифов, которые я пытаюсь опровергнуть.
Независимо от того, кто их порождает, такие мифы игнорируют реальную сложность нравственных ценностей и их тесную связь с местной культурой и контекстом. Античная классика достаточно глубока, чтобы отразить эту сложность, но, к сожалению, ей вряд ли позволят это в тех случаях, когда дело касается правительств.
Античное зеркало китайской реальности
Работа Шади Бартш, пожалуй, одна из немногих, если не единственная книга последнего десятилетия, где предпринимается попытка осмыслить те сложные, многоуровневые ментальные трансформации, которые происходят в китайском обществе, причем в ее конкретном слое – интеллектуалов. Идея книги сформулирована очень четко: китайские исследования античной философии (в самом широком смысле), их рефлексия в современных академических кругах как реакция на те процессы, которые происходят в китайском обществе, в том числе и о том, как исследования античной и традиционной политической мысли Запада используется в академических кругах Китая для критики этого Запада.
Шади Бартш – оригинальная исследовательница классической философии из университета Чикаго, и многие ее работы посвящены пониманию того, как читают классику за пределами западного мира и что «другие» видят в ней. Более того, она посвятила много лет изучению китайского языка, чтобы иметь возможность читать современную критику на языке оригинала. Такой тщательный подход вызывает безмерное уважение, а готовность самостоятельно, не через переводчика посмотреть на тексты на китайском языке делает эту книгу еще более увлекательной.
Книга «Платон едет в Китай» – это изучение исследований китайских ученых и политиков, которые опираются на интерпретацию классических текстов. Шади Бартш размышляет над тем, какими способами китайские мыслители пытаются объединить идеи, заложенные в «Государстве» Платона и «Политике» Аристотеля с конфуцианскими идеями, например о гармонии и искренности. Набор этих «исследователей» весьма разнообразен: они варьируются от тонких мыслителей до откровенных политических идеологов, от сложных философских построений до конъюнктурных спекуляций, но их объединяет искренняя вера в то, что мир Греции – и в меньшей степени Рима – породил идеи, которые стоит использовать и за которые стоит бороться, особенно при интерпретации политики XXI века. Таковы выводы Бартш.
Другая ее идея заключается в том, что китайские интеллектуалы видят в греческой классике ключ к пониманию различий между Китаем и Западом. В увлекательной и нередко остроумной форме она показывает, что китайские мыслители в период, как ей представляется, более либеральных 1980-х годов заимствовали акцент Аристотеля на активном гражданине и ценности разума, чтобы объяснить, почему западные общества были успешными, намекая, что Китай должен реформироваться соответствующим образом. Напротив, в 1990-е и последующие годы консервативные исследователи опирались на мысли «Государства» Платона, чтобы показать, что власти поступают правильно, культивируя меритократию и социальную гармонию, и что Запад сбился с пути в эгоистичном индивидуализме.
Бартш делает важное замечание, указывая, что эта книга не об исследованиях китайских ученых (в этом смысле это не работа по историографии вопроса), которые в первую очередь являются исследователями античной классики, – их не так много, прежде всего это центры в Пекинском университете, в Чаньчунском университете на северо-востоке Китая. Существенного влияния на современную политическую мысль они не имеют. В центре внимания Бартш находится совсем другая группа исследователей – ученые и полемисты, которые опираются на особое прочтение греческой и римской классики, стремясь привести аргументы о политических системах в целом и о превосходстве китайской системы над либеральной демократией в частности.
Правда, Бартш, указывая на то, что китайские интеллектуалы считают необходимым заимствовать авторитет западных политико-философских идей, так и не отвечает на вопрос, как это сочетается с мыслью об историческом и интеллектуальном превосходстве Китая. Чтобы ответить на этот вопрос, надо углубиться в тонкости формирования разных философских и идейных компонентов в китайском сознании, а это явно выходит за возможности специалиста по античной философии. Парадокс ситуации заключается в том, что китайские исследователи философии сами загоняют себя в ловушку, используя западный понятийный и категориальный аппарат для осмысления как собственной, так и западной философии. Но есть и другая, еще более сложная проблема: для перевода на европейские языки китайских рассуждений мы вынуждены искать наиболее подходящие (но никогда не совпадающие!) по смыслу слова из известных языков. Так жэнь 仁 превращается в «гуманность» или «человеколюбие», будучи бесконечно далеким от этих христианских понятий, взятых из другой системы координат.
Нельзя не согласиться с тем, что если в 80-х годах ХХ века исследования греческой и римской античности в китайских научных кругах носили чисто академический характер и не экстраполировались на осмыслении природы нынешней власти (да и власти вообще), то после ряда социальных потрясений, начала политики «реформ и открытости» в Китае, дискуссий в китайском обществе множество интеллектуалов обратились к античным, а затем и современным западным теориям природы власти и политики. Интерес к Платону, Аристотелю приобрел прикладной характер и это, по мнению Бартш, заставило задуматься и над природой власти в Китае. Очевидным водоразделом к этому стали события 1989 года на площади Тяньаньмэнь, когда после нескольких месяцев протестов в Пекине с требованием политических реформ выступления были подавлены. Для автора водоразделом является Тяньаньмэньские события 1989-го – в целом очень удобный принцип проведения демаркационной линии. Но тогда мы должны допустить мысль, что действительно есть Китай «до-тяньаньмэньский» и «пост-тяньаньмэньский» (по крайней мере в интеллектуальном пространстве), а это не очевидно. Несмотря на существенное влияния событий 1989 года на политическую культуру Китая, надо учитывать, что вместе с модернизацией политики и экономики стремительно менялась и интеллектуальная и научная жизнь. Шел и до сих пор идет поиск модели осмысления развития Китая, его места в мировой истории, возникают новые, более глубокие и менее ригидные в идеологическом плане подходы. Тяньаньмэньские события – не причина для таких размышлений, а скорее часть очень сложного процесса поисков наиболее эффективных моделей развития. Китайские реформаторы начала ХХ века, учитывая политическое и военное превосходство Запада на тот момент, видели в его классических текстах потенциальный источник вдохновения для собственной модернизации Китая. Нынешние китайские политические мыслители, напротив, искали в греческих классиках аргументы, которые можно было бы использовать против западной демократии и в защиту китайской социалистической системы. Бартш называет репрессии на площади Тяньаньмэнь в 1989 году решающим поворотным моментом, после которого «в группе китайских интеллектуалов, общественных мыслителей и даже правительственных чиновников произошла концептуальная революция в отношении того, как они читают эти классические тексты». Бартш несколько ошибается, говоря, что после 1989 года началось целое десятилетие «замалчивания» западной философской классики, необходимое для переосмысления властями западных политических теорий. В 1990-х годах неоднократно на базе Нанькайского университета в Тяньцзине, в Пекинском университете и в Фуданьском университете в Шанхае проводились международные конференции по философии и истории древности. Таким образом, после 1989 года в Китае не было десятилетия молчания в отношении западной классики.
И, на мой взгляд, эта книга не только о китайском «прочтении» политических идей античности и Запада. Она еще и о вторичной рефлексии китайских идей в сознании яркого исследователя, который нашел время и терпение, чтобы выучить китайский язык, но так и не стал китаеведом, то есть специалистом, который способен изнутри посмотреть на саморефлексию китайского сознания. Из-за этой особенности многие рассуждения оказываются как бы «оторванными» от корней. Хотя книга вкратце освещает некоторые исторические аспекты конфуцианства и долгую историю вовлечения китайцев в изучение западной мысли, начиная с иезуитов, это все делается спорадически и без должного осмысления. Китай никогда не стремился в полной мере ни подражать Западу, ни стать Западом – он был увлечен копированием всего того, что можно использовать в свою пользу. В 1898 году чиновник династии Цин Чжан Чжидун (張之洞) в своем «Наставлении к учению» (Цюань сюэ пянь, 劝学篇) предложил китайцам перенимать иностранные идеи лишь в той мере, в какой они полезны, не ставя под угрозу культуру и самобытность Китая.
Природа власти напрямую связана с восприятием этой власти: что сам народ думает о ней? Народ практически всегда критикует власть, но сама эта власть и является результатом прохождения сознания оправдания власти и нередко всегда идет через мифотворчество, связанное с образами власти.
Нам всегда хочется обнаружить знакомое внутри чужой культуры – именно на этой почве и должно рождаться ее глубинное понимание. Но на этом же фундаменте и рождаются глубочайшие заблуждения и интеллектуальные тупики, когда мы насильно пытаемся обнаружить в незнакомом нечто родное и привычное.
Как пытается показать Бартш, читая «Государство» Платона, китайские ученые одобряют его видение иерархического сословного общества, причем платоновское описание предположительно идеального государства представляется ими как имеющее немалое сходство с нынешней идеологией КПК. И, как следствие, автор видит в политической риторике китайских лидеров какой-то подвох, вечное манипулирование своей историей и конфуцианскими ценностями. Например, конфуцианские идеи «гармонии» были возвращены в оборот именно после трагических событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, когда понадобилось объединить и умиротворить общество. И возвращение к конфуцианству в нынешнем китайском обществе представляется как тонкая перенастройка настроений социума, которая направляется исключительно политической элитой Китая.
Но есть один парадокс: если для широкой европейской публики Платон, Аристотель и Сенека не являются авторами для повседневного цитирования и тем более источником поговорок, то слова Конфуция, Мэн-цзы, Лао-цзы всегда жили и живут в повседневном мышлении китайцев. Более того, они проникли и в наше европейское мышление. «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», «Знающий не говорит, говорящий не знает», – все это слова Лао-цзы. «Учиться и повторять изученное – не в этом ли радость» – это уже Конфуций. А теперь попробуйте навскидку процитировать Платона. Может, Гегеля? Витгенштейна? Вы уверены, что китайцы за пределами академической среды знают о Платоне? И, кстати, попробуйте спросить любого западного жителя (и даже грека!), неспециалиста в философии, чем характеризуется учение Платона, о чем беседовал Сократ и почему так важен Локк. А вот практически любой китаец объяснит – пускай на примитивном, но вполне достойном уровне – суть учения Конфуция (долг, сыновья почтительность, ритуал, служение), Лао-цзы (путь Дао, естественность, долголетие и бессмертие). И не потому, что он «где-то это учил», а потому, что это имплицитная часть его культуры, его воспитания в течение тысячелетий. И китайцев не «приучали к Конфуцию» – конфуцианство является интегральной частью китайской культуры и повседневного сознания.
Сложно оценивать развитие китайской политической философии, не видя ее предысторию и делая только «срез» с дискуссий конца ХХ – начала ХХI века, что позволяет обнаружить новизну там, где есть лишь повторение стандартизированной формы завуалированного протеста и контрпротеста, которые существовали в китайских интеллектуальных кругах в течение столетий.
В политической культуре Китая сложился особый жанр завуалированной критики, когда под видом размышления над некими очень давними историческими прецедентами обсуждаются вопросы очень острые и актуальные, очень болезненные, которые ни в коем случае нельзя выносить на публику, но которые прекрасно понятны этой публике. Пожалуй, самым ярким подобным прецедентом стали различные публикации в середине 60-х годов ХХ века накануне «культурной революции» (1966–1976), когда многие интеллектуалы оказались в крайне сложном положении, с «запечатанными устами, но свободными мыслями». В период «культурной революции» издавалась серия очерков, которые через историческое повествование якобы периодов Тан или Мин – одних из самых ярких моментов китайской государственности – рассказывали о «честных и неподкупных чиновниках», которые не боялись критиковать правителей и даже перед лицом смерти не отказывались от своих убеждений.
Этот жанр не нов. Например, в китайской традиционной мысли прижилось понятие цзянху (江湖) – дословно «реки и озера». Само выражение связано с даосскими «праздными странствиями духа» и эстетикой «вечно ускользающего», как туман в горах. По сути, это вольница духа, пространство свободное от подавляющего китайского официоза, внеконвенциональная ментальная сфера. Именно туда ускользает сознание чиновника, служивого мужа, который день и ночь трудится на благо государства, находится под жестким контролем, регулярно проходит строгие экзамены, видит ущербность высшей власти и при этом чаще всего является тонким эстетом, каллиграфом, который общается с «высокой древностью». В поэзии, картинах, каллиграфии он ускользает от забот, лежащих тяжелым грузом на его сознании, и «выходит на реки и озера» (чу цзянху, 出江湖). Иногда он делает это лишь ментально, иногда действительно удаляется в сельскую местность, в деревню, ведет жизнь возвышенного отшельника, достигая праздной возвышенности и безмятежности – состояния сяояо (逍遙).
Образованная элита, особенно в период Мин (1368–1644) обладавшая особым статусом в силу своего образования, понимала, что ее роль в служении государству и притязания на высокий статус зависят от точного следования санкционированной империей версии неоконфуцианства. С ранней юности чиновников и интеллектуалов обучали трактовке конфуцианской традиции, воспитывали в доминирующей интерпретации классиков, заложенной школой неоконфуцианства, прежде всего Чжу Си (XII в.). Их учили манипулировать языком и идеями этой традиции и в личной, и в общественной жизни. Все чиновники участвовали в системе экзаменов на государственную службу, составляя багу вэнь (八股文), высокоструктурированное экзаменационное сочинение в восьми частях, основанное на классической экзегезе. В 1480-х годах сформировались четкие формальные требования для экзаменов на государственную службу, а сама система стала символизировать лестницу успеха и социальной динамики. Чиновник должен был не только обладать множеством формальных административных знаний, но и стать универсально образованным человеком, тонким эстетом и интеллектуалом. А это требовало и глубинных рассуждений над сутью самой системы, в которой они существовали, откуда и возникал разрыв между формальным и внеконвенциональным. Требования экзаменов на государственную службу определяли структуру образования, книгоиздание, использование языка, а также жизнь и мышление интеллектуалов. Экзаменационные сочинения должны были как бы «рассуждать за мудреца» (дайшэн лиянь, 代圣立言), и некоторые эссеисты вышли за рамки этого первоначального требования, разработав более личный способ выражения. Даже в рамках весьма костной системы багу вэнь (а в современном языке понятие «косность» так и обозначается этим термином), они нашли массу способов для изложения критических взглядов. Некоторые писатели и ученые в конце династии Мин даже доходили до того, что использовали заданную тему, чтобы дать «выход своим сдерживаемым чувствам» или использовали тему как предлог для изложения своих взглядов (цзети фахуэй, 借题发挥) при написании экзаменационных сочинений. Развитие печатного дела в XVI и начале XVII века способствовало распространению таких скрыто-протестных сочинений, которые одновременно и опирались на ортодоксию и спорили с ней. Коммерческое книгопечатание помогло создать интеллектуальную среду, которая поощряла открытую и плюралистическую интерпретацию конфуцианского канона на экзаменах, в значительной степени отклонявшуюся от школы Чэн-Чжу. Писатели, редакторы, издатели, коллекционеры книг и читатели были активно вовлечены в дискурс самовыражения и участвовали в нем. Вот, например, известный литератор, конфуцианец, буддист и даос одновременно (да, в Китае такое часто встречалось) Ли Чжи (XVI в.) откровенно издевается над поклонением древним канонам:
Пускай ученики и записывали [за мудрецами], что им удалось увидеть, но вот ученые последующих поколений, увы, не относятся к этим записям критически. Они просто объявляют, что слова эти вышли непосредственно из уст мудрецов и устанавливают их в качестве канонов. Да кто знает, принадлежит ли мудрецам хотя бы большая половина из этих речей?
В другом случае он насмехается:
И если бы не уважительное отношение [к древним канонам], то были бы они всего лишь речами, что нерадивые последователи или бестолковые ученики записывали за своими учителями. Иногда то, что они записывали, является лишь предисловием без заключения, в других же случаях – заключением без предисловия.
И вопрос об индивидуализме самовыражения, возможности, опираясь на конфуцианскую классику, ее же и критиковать, стал животрепещущим и, по сути, ключевым в интеллектуальной жизни Китая Нового времени, а сама традиция дошла и до сегодняшних дней.