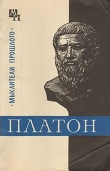Текст книги "Платон едет в Китай"
Автор книги: Шади Бартш
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
[В последнее время] у меня появилось больше свободного времени ‹…› для чтения, и я развлекал себя серьезным чтением «Государства» Платона. Впрочем, я напрасно назвал это развлечением, ибо это был самый тяжкий труд на моей памяти. Прежде я иногда принимался за другие его произведения, но у меня не хватало терпения одолеть весь диалог. Продираясь сквозь причуды, ребячества и невразумительный жаргон этого произведения, я часто откладывал его с мыслью, как могло случиться, что мир уже так долго дает высокую оценку подобной чепухе?48
В общем, эта благородная ложь вторит ценностям классической китайской культуры. Конфуцианство не только иерархично, но и не поощряет участие населения в политике, поскольку для большинства это невозможно, а для многих – неприемлемо. Когда один ученик спросил Конфуция, как ему лучше внести вклад в управление государством, в ответ он услышал: «Прояви сыновнюю почтительность»49. Другими словами, играй свою роль. Конфуций также считал, что массам можно приказать что-то делать, но их нельзя научить, а Лао-цзы принадлежит знаменитое высказывание о том, что, «когда народ много знает, им трудно управлять». Сюнь-цзы любил подчеркивать, что социальная и политическая гармония требуют ранжирования – это нормативный факт, исходящий непосредственно от самого Шан-ди (Высшего божества)[17]17
Сюнь-цзы говорил о том, что гармония исходит от Неба (Тянь). Во времена Сюнь-цзы представления о Шан-ди – некоем «высшем божестве» уже не играли существенной роли. Конфуций вообще не говорил о нем, упоминания о Шан-ди есть в древнейшей «Книге песнопений», но явно не как ключевого духа. Шан-ди часто становился синонимом понятия «правитель». – Прим. науч. ред.
[Закрыть].
[Если] разделение равное, то не будет достатка, [если] уравнять положения, не будет объединения; [если] массы будут уравнены, то не будет [способа] заставить [кого-то что-то делать]. Есть Небо и есть Земля, и [поэтому] у верхов и низов есть степени ‹…›. Ведь двое значительных не могут служить друг другу, двое малозначимых не могут заставить друг друга [что-то делать] – такова небесная «математика»50.
Базовая идея благородной лжи изначально присутствует в конфуцианской традиции51.
Еще одна причина поддержки китайцами некоторых идей «Государства» может быть связана с влиянием на них политического философа Лео Штрауса, о котором речь пойдет в пятой главе. Если кратко, то настойчивое подчеркивание Штраусом ценности греческой античности и его явно антидемократическая трактовка многих таких текстов в пользу традиционной этики добродетели сделало его работы приемлемыми для многих китайских интеллектуалов52. Как и Платон, Штраус поднимал вопрос о том, могут ли политики быть одновременно правдивыми и эффективными, подразумевая, что благородная ложь на самом деле играет некоторую роль в формировании политической сплоченности граждан. В книге «Город и человек» Штраус открыто утверждал, что миф, подобный тому, что лежит в основе Каллиполиса, необходим всем правительствам53. По словам Дэниела Домбровски, «Штраус не считает “благородную” ложь проблематичной, поскольку не находит обоснованным современное либеральное требование свободы»54.
Но это еще не конец истории. Если отвлечься от китайских интерпретаций благородной лжи, то можно задаться более циничным вопросом, не способствуют ли многие подобные статьи сомнениям вокруг, прежде всего, самого коммунистического государства. Если китайские мыслители подразумевают, что благородная ложь необходима для надлежащего управления государством, то не является ли такое открытое и терпимое мнение осуждением социализма с, так сказать, платоновской спецификой, а также всей машинерии КПК? Смысл благородной лжи в том, чтобы граждане «Государства» действительно поверили в нее, а не в том, чтобы они не поверили в нее, но затем осторожно сочли ее необходимой в своих сочинениях. Конечно, невозможно представить себе, чтобы идеалисты-коммунисты первых лет правления Мао считали собственную идеологию благородной ложью. Значит ли это, что одобрение такой лжи есть предположение о том, что идеология, пропагандируемая КПК, прозрачна и очевидна для граждан и, возможно, совсем не отвечает их интересам? Должны ли мы понимать это так, что в современном Китае действует благородная (или не очень благородная) ложь и что одобрение китайскими учеными благородной лжи как блага на самом деле является тайным способом показать, что император голый? Как мы оцениваем то, что Чэн Чжиминь, Линь Цифу, Дун Цуньшэн и другие видят ложь «насквозь» и тем самым показывают, что китайская благородная ложь (скажем, о том, что лучшее общество – это социалистическо-конфуцианское общество во главе с провидческой фигурой) потерпела неудачу? Или же они настолько важные персоны, что просто рекомендуют ее как опиум для народа? Эта спираль толкований приводит нас туда, где религия просто заменена другим «мифом», позволяющим держать народ в узде. Если это так, то Маркс точно переворачивается в могиле.
Неудивительно, что диссидентская позиция менее скользкая. Так, Ху Пин утверждает, что благородная ложь является именно тем, что насаждает китайское правительство55. В эссе 2017 года о Платоне и Аристотеле Ху соглашается с необходимостью разделения труда и одобряет классовую мобильность между тремя «кастами» идеального полиса. Однако затем он делает резкий поворот от этой, казалось бы, проиерархической линии. Как создать такой полис? Какие меры должны быть для этого приняты?
Платон предложил два метода. Первый – сфабриковать набор мифов и убедить обывателя, что верховный правитель сделан из особого высокопробного материала (золота), а рядовой работник – из заурядного, например железа. Второй – использовать все возможные меры принуждения, начиная от контроля за привитием культурно-нравственных норм, проверки книг и газет, монополизации инструментов общественного мнения и заканчивая доносительством – какими бы жестокими и хитрыми они ни были. ‹…› Крайнее и несправедливое неравенство в правах между правителем и теми, кем он правит, является для Платона идеальным воплощением справедливости. ‹…› Ложь, донос, убийство – все это становится чрезвычайно нравственным, если только творится руками царя-философа, поскольку воля и справедливость царя-философа изначально являются одним и тем же 56.
Разумеется, в платоновском городе нет «инструментов общественного мнения», таких как телевидение или интернет. Но в Китае они, конечно, существуют. Мы очень плавно перешли от государства, которое Платон называл справедливым, к его реальному воплощению в современном Китае, где оно очевидно несправедливо.
Отвержение Ху Пином идеи Каллиполиса – это одновременно отвержение политики Си Цзиньпина. Да, у разных людей разные способности, и в идеале они должны заниматься тем, что у них получается лучше всего. Но, по мнению Ху, метод поддержания такой ситуации и абсолютная власть царя-философа могут привести только к коррупции. Платон предлагает средства противодействия ей – преимущественно основанные на образовании; однако Ху, кажется, предполагает, что Китай ей противостоять не может. Людей нельзя принуждать к должностям, которые им якобы подходят, – они должны выбрать их сами. Даже монархи, руководствующиеся самыми благими намерениями, будут порой ошибаться. Возможно, в мыслях Ху витает призрак Мао, и поэтому Ху утверждает, что воцарение всемогущего монарха – это просто первый шаг на пути к коррупции, потере свободы слова и инверсии морали («справедливость – это несправедливость»). Но пока власть имущие контролируют определение справедливости, так и будет. В таких условиях «идеальная» страна не допускает перемены во имя совершенства, отменяет конкуренцию во имя гармонии, подавляет свободу во имя знания и отрицает индивидуальность во имя порядка57.
Китайский экспатриант Цян Чжа, пишущий для западного издания Inside Higher Ed, разделяет точку зрения Ху и сравнивает положение Си с положением рассказчика благородной лжи58. Но Цян Чжа также утверждает, что ложь присутствует не только в китайской политике, но и в китайской философии, где могут существовать различные виды благородной лжи. Самой большой, по его словам, является реапроприированный конфуцианский идеал «гармонии» (хэсе, 和谐; подробнее об этом идеале читайте в шестой главе). Ху сурово обличает китайскую правительственную пропаганду вокруг этой концепции, которая была принята самим Дэн Сяопином в качестве идеала, опоры правления КПК, и прославлялась Ху Цзиньтао. Ху Пин пишет:
Многие древние мыслители призывали к гармонии (в том числе и конфуцианство), а некоторые ученые считали, что это очень красивая концепция и хорошее средство против недугов современного общества. Они, похоже, не понимали, что, например, у Платона понятие гармонии является полной производной от понятия справедливости. Используя метафору Платона, можно сказать, что гармония общества подобна гармонии оркестра, суть которой в том, что все беспрекословно подчиняются одному дирижеру. Будь то Платон или Конфуций, гармония, которую они отстаивают, «неоспорима». Она требует, чтобы члены общества отказались от стремления быть независимыми и самостоятельными. При единственно верном правлении благожелательного и всеведущего верховного лидера каждый из вас и всякий элемент общества достигнут предопределенного совершенного состояния59.
Ценностью национальной гармонии при такой интерпретации является благородная ложь Китая60.
Кто в Китае ценит эти благосклонные к Каллиполису трактовки «Государства» Платона? Это сложный вопрос. С одной стороны, наше представление о том, что все китайские ученые должны быть продемократическими, обусловлено изучением отношения китайского правительства к интеллектуалам и деятелям искусства, таким как Ай Вэйвэй, лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо или Ван Юцай, один из лидеров студенческих протестов в 1989 году. Но международные опросы китайских граждан показывают, что многие китайцы более негативно относятся к демократии американского типа, чем к современной китайской системе, поскольку демократия выглядит фундаментально нестабильной. Ее недостатки – то, что она не оставляет места меритократическим соображениям, ошибочно ставит во главу угла интересы индивида, а не государства, уязвима для тирании той или иной группы (скажем, сверхбогатых) и считает себя лучшей формой правления для всех на земле, – якобы перевешивают ее достоинства. Кен Моак недавно написал в Asia Times: «Учитывая как минимум 80-процентную поддержку [китайского правительства] населением, согласно опросам Pew и Gallup, а также способность Китая выполнять большинство своих обещаний (например, улучшать уровень жизни людей), подавляющее большинство населения страны, похоже, удовлетворено пекинской структурой власти»61. Можно скептически относиться к этим цифрам, которые, безусловно, подвержены влиянию китайских СМИ и государственного аппарата, и все же они свидетельствуют о необходимости скорректировать наши предположения о том, что недавно появившийся китайский средний класс или многострадальная интеллигенция тайно и солидарно жаждут демократии.
Мы получили больше вопросов, чем ответов. Является ли одобрение Платона в Китае актом лояльной поддержки или актом сопротивления в стране, ценности которой вроде бы напоминают о Каллиполисе? Действительно ли китайская критика западного дискомфорта по поводу благородной лжи – это подлинная точка зрения тех 80 %, о которых говорит Кен Моак? Являются ли американцы или китайцы экзотерическими читателями, впитывающими публичное послание «Государства», или эзотерическими читателями, которые ищут истину между строк? (Подробнее об этих терминах Штрауса речь пойдет в пятой главе.) Погрязли ли США в плохой благородной лжи, а китайцы – в хорошей? Как говорит молодой националист Тан Цзе, «поскольку мы находимся в такой системе, мы всегда спрашиваем себя, не промыты ли наши мозги ‹…›. Мы всегда стремимся получать альтернативную информацию по другим каналам. Но когда вы находитесь в так называемой свободной системе, вы никогда не задумываетесь о том, не промывают ли вам мозги»62. И в этом кроется финальный парадокс этой главы: только угнетенные понимают, что им промывают мозги, – «свободные никогда этого не замечают».
4. Рациональность и неудовлетворенность ею
Как и любое действие, социальное действие может быть ориентировано: 1) целерационально, т. е. посредством расчета на определенное поведение предметов внешнего мира и других людей, которые тем самым используются действующим индивидом в качестве «условий» или «средств» реализации собственных рационально поставленных и взвешенных целей; 2) ценностно-рационально благодаря сознательной вере в безусловную этическую, эстетическую, религиозную или как угодно еще толкуемую самоценность определенного поведения чисто как такового независимо от его результата[18]18
Вебер. М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. Т. 1. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 84.
[Закрыть].Макс Вебер
Рациональность – важная тема в Китае, особенно в контексте принижения запада. Она утратила тот высокий нравственный статус, которым обладала в былые времена, когда реформаторы движения «Четвертое мая» ратовали за методы западной науки и связывали логическое мышление с древними греками. Теперь рациональность фигурирует в обвинениях западного общества, посвятившего себя науке и технологиям, в том, что оно потеряло свою душу. То и дело выходят статьи, в которых говорится о механистической и аморальный сущности запада, его пагубном и рационалистическом пути, идущем как минимум от Канта или даже от Платона. В рамках такого понимания центральная идея философской традиции представлена «рациональностью Просвещения», из-за которой развитие науки и техники отвязалось от общих этических проблем, а технический прогресс стал рассматриваться как благо ipso facto. Этот чрезмерный акцент на рациональности – причина той беды, в которой оказался Запад. Непредсказуемые инновации в области искусственного интеллекта, вмешательство в геном человека и другие революционные технологии разогнали перемены до бешеного темпа на фоне усугубляющегося глобального потепления, которое само по себе является примером выхода технологий из-под контроля.
Это отрезвляющий взгляд, но связь с Просвещением и западной античностью требует пристального анализа. Что такое «западная рациональность»? Существует ли, например, китайская рациональность, которую можно ей противопоставить? Или Китай находится на стороне иррационального? Разве Китай не стремится к технологическим достижениям? Неужели мы здесь более бездушны, чем китайцы у себя на родине? Более нелепой идеи трудно придумать. И все же эти обобщения весьма живучи. С точки зрения китайцев, западная рациональность ориентирована на экономику, эффективность и прибыль, в то время как восточная рациональность служит нравственности. Западная культура грубо инструменталистская и стремится извлечь выгоду из всего, а китайцы (как и Кант – образец просветленности) говорят, что никогда нельзя использовать другого человека в своих целях. Согласно этой интерпретации, китайская рациональность такова, поскольку ее этические традиции (конфуцианство, буддизм, даосизм) фокусировались не на концепции рациональности, а на социальных ценностях, таких как доброта к окружающим и уважение социальной иерархии; западная же рациональность, напротив, опирается на Платона, который был зациклен на математике и Формах, принципе непротиворечия и дедуктивном аргументе.
Китай не всегда отличался таким антиинструментализмом. Во время реформ 1898 года чиновник династии Цин Чжан Чжидун (張之洞) в своем «Наставлении к учению» (Цюань сюэ пянь, 劝学篇) предложил китайцам перенимать иностранные идеи лишь в той мере, в какой они полезны, не ставя под угрозу культуру и самобытность Китая. Это выразилось в его знаменитом лозунге «Китайские науки в качестве основы, а западные – для применения» (чжунсюэ вэй ти, сисюэ вэй юн, 中學為体,西學為用)1. Другими словами, используйте полезные идеи, но не перенимайте ценностей их создателей. А Цай Юаньпэй, ректор Национального пекинского университета, НПУ) в 1920-х годах, подчеркивал важность научной рациональности как ядра современного исследовательского университета, превратив НПУ «в центр исследований с такими девизами, как “не сохранение национальной сущности, а ее переоценка научными методами”, ‹…› абсолютной академической свободой и плюрализмом теорий и мнений на рациональной основе»2.
I. Бездуховный запад
Сегодня инструментальность снова рядом, однако на этот раз никто на нее не претендует. Дискуссия о рациональности в основе множества статей приняла в китайских научных кругах форму веберианского раскола (и без того непрочной) концепции рациональности, причем одна сторона обозначена как полезная, а другая – как неприятно капиталистическая3. Беглый поиск по огромной китайской базе данных CNKI выявляет тысячи научных статей за последние два десятилетия, в которых говорится о «ценностной рациональности» и «инструментальной рациональности»4. Темы этих статей варьируются от права, образования, бюрократии, этики, медиа, больших данных, бедности, налогов, медицины и человеческих ресурсов до самых разных других областей: в конце концов, рациональность может проявляться практически в любой сфере. Однако подход авторов почти всегда сводится к применению бинарной основы инструментальных и ценностно-ориентированных форм рациональности. А Китай и запад неизменно характеризуются использованием ценностно-ориентированных и инструментальных форм рациональности, соответственно – в каждом случае восходящих к каноническим текстам их культур5.
Концептуальное сопоставление «инструментальной рациональности» и «ценностной рациональности» происходит не из собственной этической традиции Китая6, а из работ немецкого социолога Макса Вебера, который в книге «Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии», провел, как мы видели в эпиграфе к этой главе, различие между двумя типами социального действия:
Как и любое действие, социальное действие может быть ориентировано: 1) целерационально, т. е. посредством расчета на определенное поведение предметов внешнего мира и других людей, которые тем самым используются действующим индивидом в качестве «условий» или «средств» реализации собственных рационально поставленных и взвешенных целей; 2) ценностно-рационально благодаря сознательной вере в безусловную этическую, эстетическую, религиозную или как угодно еще толкуемую самоценность определенного поведения чисто как такового независимо от его результата7.
Конечно, уже у Вебера это было упрощением. Как отмечает Барри Хиндес, «рассуждения Вебера о секулярном развитии “инструментальной рациональности” предполагают множество факторов вариативности ‹…› [которые] зависят от окружающих условий возможности определенных видов рациональных расчетов и действий»8. Однако нас здесь интересует именно веберовская озабоченность рациональностью и логической процедурой как средством. Вебер считал, что запад стал слишком близко подходить к целерациональному (инструментальному) действию. Это было следствием совокупного воздействия технологий, капитализма и бюрократизации, превративших жизнь в «железную клетку», экономическую машину, в которой человек – лишь винтик9. «Наше время, – писал Вебер, – характеризуется рационализацией и интеллектуализацией и, прежде всего, “расколдовыванием мира”»10. Вебер полагал, что мы (запад) движемся к реальности, в которой экономические теории постоянно приближаются к реальному существованию в человеческой практике, а не наоборот11. По мнению Вебера, этот процесс не оставляет места для этических или религиозных соображений – сам Бог (в итоге) будет рационализирован. По яркому выражению Вебера, запад будут населять «специалисты без духа, сенсуалисты без сердца – и это ничтожество воображает, что достигло небывалого доселе уровня цивилизации»12.
Вебер привлек внимание китайцев еще в конце 1980-х годов. До «поворота», о котором я пишу в этой книге, интерес в Китае вызывало не «Хозяйство и общество», а перевод его «Протестантской этики и духа капитализма», изданный в 1986 году. Как утверждает политолог Лю Дун, в конце 1980-х годов многие китайские интеллектуалы буквально искали замену Марксу. Они остановились на Вебере, найдя опору в его «Протестантской этике». Считая, что конфуцианству не хватает оживляющего напряжения протестантизма, они (как и Вебер) считали последний главным фактором возникновения западного «рационалистического капитализма». Вера в такой культурно-духовный детерминизм заставила их утверждать, что и Китай должен искать некую «этику» в противовес вялой конфуцианской экономике. Конечно, с их точки зрения, этот «рационалистический капитализм» был положителен, а не отрицателен, и в этом плане они не вполне восприняли весь масштаб работы Вебера. Как убедительно отмечает Лю Дун, «когда Вебер вписывал в “аномальный” случай протестантской этики исторический сдвиг, отмеченный угасанием “ценностной рациональности” (цзячжи лисин) и соответствующим подъемом “инструментальной рациональности” (гунцзюй лисин), он явно не хотел сказать, что протестантская этика принесла в мир благую весть»13. На самом деле, как видно из последующих работ Вебера, он считал «инструментальную рациональность» общества разрушительной силой.
Именно на этой более поздней работе сосредоточились националистически настроенные интеллектуалы после событий на площади Тяньаньмэнь. Придя на смену, так сказать, «веберианцам с протестантской этикой», эти новые веберианцы обратились к таким трудам, как «Хозяйство и общество», утверждая, что гротескная рациональность была уделом запада – судьбой, которой китайцы непременно должны стремиться избежать. Тот факт, что их взгляды на категории рациональности были заимствованы у Макса Вебера, означал, что вместе с новой терминологией в них попало и многое другое, а именно его осуждение расколдованного общества, нездоровье которого обусловлено капиталистической экономикой14. В свою очередь, книги, на которые повлиял Вебер, стали предметом интереса многих новых китайских веберианцев, и в этих работах они находили мнения еще более резкие, чем у Вебера. В некоторых из них зачатки проблемы рациональности прослеживались вплоть до эпохи Просвещения, а иногда даже до Древней Греции.
К примеру, один такой автор, Чарльз Уэбел из Нью-Йоркского университета в Праге, утверждает, что, хотя на западе влияние рационализма связано с Сократом и древнегреческой политической системой, лишь в эпоху Просвещения рационализм оторвался от этических соображений и вместо них принял экономические15. После этого разрыва Просвещения с рациональной этикой, пишет Уэбел, «либеральная идеология разума» выдвинула следующую идею:
Идеальная модель рациональности имеет экономическую структуру, факты и ценности абсолютно различимы, а рост и распространение научных знаний и технологий «аполитичны» и «неидеологичны». ‹…› «Сущностное» единство теоретических и практических принципов, предложенное Платоном и Аристотелем и отстаиваемое Кантом и Гегелем, вытеснено «инструментальным разумом» или «формальной рациональностью» якобы «свободных от оценочных суждений» социальных и физических наук, которые сегодня олицетворяют когнитивная нейронаука, эконометрика и аналитическая философия разума16.
Так же и британский философ Джонатан Гловер в своей «нравственной истории» человечества утверждал, что типичное для эпохи Просвещения отношение к человеческой психологии выглядит все более «поверхностным и механическим» и что «надежды Просвещения на общественный прогресс через распространение гуманизма и научного мировоззрения» теперь кажутся наивными17. Гловер приписывает многие злодеяния XX века технологическому прогрессу, а кроме того, влиянию Просвещения. Даже если сам Сталин мало интересовался Просвещением, он и его наследники волей-неволей находились «во власти Просвещения»18.
В «Диалектике Просвещения» философы Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно продемонстрировали веберианское влияние, охарактеризовав логику Просвещения как неумолимый инструмент господства, тесно связанный с научным методом и развитием технологий19. Современная технологически ориентированная рациональность, по мнению Хоркхаймера и Адорно, особенно заслуживает порицания, поскольку знаменует собой превращение разума в метафизическое благо, напоминающее те самые суеверия (то есть религию), из которых разум эпохи Просвещения якобы вызволил человечество. Сама философия стала инструментом технократии, а инструментальное представление об эффективности как конечной цели способствовало ужасам уничтожения нацистами еврейских общин Европы и других групп населения. Другой веберианец, социолог Зигмунт Бауман, также упоминал национал-социализм, говоря об инструментальных и ценностных формах рациональности20. В книге «Актуальность холокоста» (1989) Бауман утверждал, что современность создала «необходимые условия» для возникновения холокоста, поскольку типичные для современной эпохи принципы рациональности и эффективности помогли Гитлеру достичь такого масштаба холокоста21.
И кто же из мыслителей Просвещения «несет ответственность» за эту смертоносную форму просвещенного рационализма? Просвещение ведь породило множество идей о природе человека и его мира22. Декарт, Спиноза, Лейбниц и Кант считали Вселенную вполне рационально объяснимой (Лейбниц даже полагал, что все человеческие идеи можно выразить таким образом, который позволить обработать их математически!) Аргументы Гоббса концентрируются вокруг индивидуалистических прав и соглашений. Юм считал, что почти во всех нравственных решениях и выводах разум действует одновременно с чувствами23. «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера посвящена трем эмпирикам – Фрэнсису Бэкону, Исааку Ньютону и Джону Локку, последний из которых находил источник всех наших идей в органах чувств – как и аббат де Кондильяк в «Трактате об ощущениях»24. На самом деле многие современные ученые утверждают, что такие вопросы, как права человека и политические идеалы свободы, были важнее для Просвещения, чем дедуктивная рациональность25. И, конечно, многие китайские интеллектуалы не являются частью этого материкового тренда и признают, что единого «Просвещения» не существует. Тайваньский неоконфуцианец Ту Вэймин (профессор Пекинского университета) заметил, что «реалистичная оценка менталитета эпохи Просвещения выявляет многие стороны современного запада, несовместимые с образом “века Разума”»26. Между тем гонконгский компаративист Чжан Лунси так писал о неоконсервативной группе, которая придерживается такого направления мысли:
Ее отношение к западу абсурдно и противоречиво, поскольку, с одной стороны, она утверждает, что представляет интересы Китая как страны третьего мира, противостоящей гегемонии запада, а с другой – в значительной степени опирается на современные западные теории, в частности постмодернизм и постколониализм, и подражает новейшим тенденциям западного теоретического дискурса в концептуализации и методологии, даже в структуре предложений и формулировках или жаргоне 27.
Короче говоря, вместо того чтобы отстаивать положения постколониальной критики (китайцам следует протестовать против исторического вмешательства), эти ученые становятся соучастниками тех самых структур власти, которые они должны разоблачать и подрывать28.
Если говорить о менее нюансированных изводах Просвещения, то большинство, похоже, обвиняет Иммануила Канта как того, кто пустил поезд рациональности по рельсам, ведущим к катастрофе. В знаменитом эссе «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» Кант определил, что «Для этого просвещения требуется только свобода, а притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом». Таким образом, Кант буквально определял Просвещение как действие по велению автономного разума29. По словам Акселя Хоннета, «просветительская мысль заявляет об освобождении мыслителя от чар наследуемых традиций, подвергая рациональному, универсально реконструируемому исследованию то, что ранее признавалось лишь в силу действия общественных обязательств»30. Именно этот посыл восприняли китайские критики Просвещения. А блогер Лао Цзи (老几), проводя нравственное сравнение Конфуция и Канта утверждает: «Нравственность Канта опирается на чистый разум. Впервые в истории человечества строгая нравственная система была создана на основе логического метода. Она восполняет недостаток морального обоснования в теологических верованиях, господствовавших на западе в течение тысячелетий. ‹…› Это еще и важная причина непреходящего влияния философии Канта»31.
Но каким образом рационалистическая философия Канта могла якобы привести к холокосту? Одно объяснение состоит в том, что Кант допустил верховенство долга над состраданием, вытекавшее из его аргументации, согласно которой нравственный субъект совершает тот или иной поступок, путем рассуждений признав, что это нравственно правильное действие, которое, следовательно, необходимо совершить. Но при этом легко возникает риск злоупотребления такими рассуждениями о моральном долге. Если вы считаете, что все евреи – паразиты и что поэтому ваш моральный долг – истреблять их, тогда что дальше? Рудольф Хёсс, комендант Освенцима, описал ужасающую картину того, как ему пришлось проигнорировать свои «эмоции» и убить молодую еврейскую мать и двух ее детей; можно представить себе христианского крестоносца, произносящего те же слова и пронзающего копьем язычников и их потомство32. Нравственные системы могут подстраиваться в пользу того или иного вида долга, например путем навешивания ярлыка «паразиты» на евреев, цыган и гомосексуалистов. На Нюрнбергском процессе Эйхман, как известно, ссылался на Канта, чтобы объяснить свои действия: Эйхману приходилось выполнять свой долг, «подавая пример в рамках законодательства»33. В данном случае кантовский долг был порожден правительством, а не разумным «Я», однако примечательно, что среди итальянцев Кант в то время не был популярен.
С этим интересно контрастирует философия Платона. Он тоже утверждает, что разум – это все, что нам нужно для нравственной жизни, но процесс, с помощью которого два философа аргументируют свою позицию, различен. Платон «доказывает», что разум – высшее начало человека, опираясь на истории, метафоры и априорные предположения. Доказательство Канта аналогичным образом опирается на априорное утверждение (среди прочих), что «разум» – высшая ценность человечества34. Но у Канта акцент на разуме приводит к тому, что мы обязаны хорошо относиться к другим, поскольку они тоже обладают особой способностью к разуму (что, конечно, не очень хорошо согласуется с холокостом). У Платона результатом верховенства разума в душе является иерархическое общество Каллиполиса35. Кантовский принцип рациональности «или/или» (или она у тебя есть, или ее нет) кажется более опасным, чем платоновский взгляд на разум как на то, чего в душе человека меньше или больше, позволяющий смело относить людей с низким интеллектом к категориям бронзовых или железных, а не дегуманизировать их вовсе.