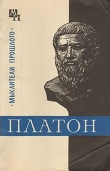Текст книги "Платон едет в Китай"
Автор книги: Шади Бартш
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Дальнейшая, пусть и менее резкая критика в адрес Канта связана с тем, что его акцент на рациональной необходимости имеет инструментальный характер. Хоннет пишет:
Рациональный подход неразрывно связан с точкой зрения, предполагающей господство вещей и людей. Рациональность или разум имеют инструментальный характер, поскольку служат способом познавать (erkennen) существующее положение вещей и решать практические задачи. Эта форма критики разума ‹…›, нашедшая впечатляющее выражение в «Диалектике Просвещения», начинается с утверждения, что под способностью к рациональному поведению мы обычно понимаем способность познавать объекты, чтобы затем манипулировать ими или контролировать их с точки зрения целей своего действия. Легко заметить, что, как только она начинает доминировать в отношениях с другими людьми или в собственных желаниях и потребностях индивида, такая способность к целерациональному знанию становится средством инструментального господства36.
Итак, теперь рациональность ведет к контролю и господством над другими.
Учитывая всю эту западную критику, которая только и ждет, чтобы ее взяли на вооружение интерпретаторы с антизападной позицией, неудивительно, что китайская наука ухватилась за возможность рассказать о тех ужасах, что ожидают инструментально-рациональное западное общество. В частности, профессор Гань Ян, известный ученый и бывший декан Колледжа гуманитарных наук (Колледж Боъя) при Университете Сунь Ятсена, в книге «Освобожденные от западных суеверий» (Цун сифан мисинь чжун цзефан чулай, 从西方迷信中解放出来) утверждает, что запад пережил три «просвещения»37. Первое – это древнегреческая победа философского разума над мифом. Второе – европейское Просвещение и победа над суевериями (христианством)38. Наконец, третье просвещение запада все еще не завершено. Оно состоит в том, что после Освенцима стало очевидно, что Просвещение и его ценности сами по себе были формами суеверия: акцент на рациональности, якобы стоящей выше всех прочих ценностей, породил инструментальную рациональность, которая способствовала эксплуатации других людей.
Далее Гань определяет рациональность как религию (фигурально выражаясь), которая стала новым суровым кредо просвещения. «Самое большое суеверие, которое еще предстоит побороть, – это само просвещение, то есть современное суеверие, вызванное западным просвещением, – суеверие технологии, рациональности, особенно “инструментальной рациональности”, права человека грабить и порабощать природу, а также теории о том, что запад является центром»39. Следуя за Вебером, Гань пишет: «В рыночно-ориентированных, коммерциализированных обществах, таких как западные, “расколдовывание”, утрата священного, целеустремленная светская погоня за материальными благами, а также различные формы отчуждения и духовной отстраненности человека являются неотъемлемой частью процесса модернизации»40. В первой онлайн-версии статьи Ганя, которая с тех пор исчезла, была фотография нацистского олимпийского парада в Берлине 1936 года, на которой факелоносец бежит по длинному проходу к трибуне, на которой ожидает Гитлер41. Подпись на китайском языке однозначно раскрывает смысл фотографии: «В этой впечатляющей сцене современные Олимпийские игры и нацизм представляют две стороны Просвещения».
По крайней мере, есть две стороны, с облегчением вздохнет критикуемый запад. Но мы уже сталкивались с подобным обвинением: рациональное целенаправленное мышление, бюрократическая машина и то, что эффективность ценилась выше человеческих жизней, позволили нацистам убить миллионы людей в лагерях. В результате прославления научного прогресса ради него самого, сетует Гань, мы утрачиваем «нравственные принципы, которые должны определять наш телос [греч. «завершение», «цель»] как человеческих существ»42. Конечно, удобно бить запад его же взглядами. Поразительно, но в статье «Наука как призвание и профессия» Вебер сам проследил путь инструментальной рациональности к платоновским Формам (!). Рассматривая рациональный аргумент как «удобное средство, с помощью которого можно логически прижать кого-то», и утверждая, что «спасение от рационализма и интеллектуализма науки является фундаментальной предпосылкой жизни в единении с божественным», Вебер осуждал платоновское знание (в его абстракции) как высшую форму научной компетенции43. В этом аргументе Платон не только стоит у основания рационального мышления; его философия также обеспечила обязательные, хотя и недостаточные, условия для западного капитализма44.
Всей этой веберизацией китайцы оказывают самим себе медвежью услугу. Заимствовать эти западные идеи для обсуждения статуса Китая по отношению к западной культуре – значит заимствовать иностранную терминологию, связанную с исторической и политической традицией, имеющей мало общего с богатой историей китайской мысли. Философия Вебера не может служить зеркалом для Китая; если уж на то пошло, множество социальных, исторических и экономических явлений (таких, как промышленная революция, научно-технический прогресс, капитализм, демократия и т. д.) лежат в основе дискуссии, но не помещены в надлежащий контекст45. Китайские ученые, придерживающиеся веберианского пути, кажется, полагают, что имеющие временную и культурную специфику фигуры, такие как Вебер, могут думать за весь мир, и попадают в ту самую ловушку культурного империализма, которую осуждают46. Выражая возмущение, Лю Дун из Пекинского университета писал: «Если мы примем эту “инструментальную рациональность” – основанную на прожитой исторической реальности запада – в качестве системы координат при исследовании китайских исторических источников, и, что еще хуже, если мы сделаем ее стандартом, по которому будем судить о “прогрессе” конфуцианского общества, тогда те критерии оценки исторического прогресса, которые возникли из китайской цивилизации и являются ее неотъемлемой частью, будут признаны устаревшими и, таким образом, исчезнут из поля зрения»47. Что правда, то правда.
II. Жэнь занимает себе место
У китайцев есть свой (тоже древний, но совершенно не сократовский) ответ на первостепенное значение рациональности в западной традиции. Это настолько очевидная ценность, что даже удивительно, почему в западной философии она также не стала одной из важнейших48. Это человеколюбие – жэнь (仁). Являясь альтернативой абстрактной жизни рационального созерцания, воспетой Платоном и Аристотелем, жэнь отражает необходимость великодушного и доброжелательного отношения к другим. По словам одного ученого, жэнь подразумевает «непреходящее стремление любого человеческого существа стать самым настоящим, искренним и гуманным человеком, каким он или она только могут быть»49. В этом значении играют роль как звуковая аналогия, так и визуальная форма, поскольку жэнь 仁 омофонично слову жэнь 人, которое означает «человек» или «личность», и «можно утверждать, что между этими двумя терминами [仁 и 人] существует качественное различие, как две различимые степени того, что значит быть человеком»50. Идеографическая связь между ними усиливает эту ассоциацию: жэнь как «человеколюбие» (仁) состоит из двух элементов – жэнь как «человек» (人) и числа два (二). Другими словами, человек – это не политическое, а социальное животное51. Еще один важный омофон связывает слова «правительство» с «праведностью». Конфуций считал, что для того, чтобы осуществлять чжэн 政 (править), нужно быть чжэн 正 – то есть «правильным», «прямым», «честным», а также «исправлять». Эти два слова не просто омофоны, они имеют внутреннее родство. Конфуций пишет: «Если совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если же не можешь усовершенствовать себя, то как же сможешь усовершенствовать других людей?»52
Даже для того чтобы объяснить термин жэнь, нужно исходить, скорее, из контекста, нежели абстрактных принципов53. По этой причине, объясняет Ни Пэйминь, «отвечая на вопрос о жэнь, Конфуций давал ученикам разные ответы в зависимости от того, что им требовалось для личного развития. Этот факт говорит о том, что жэнь – это скорее искусство, которым нужно овладеть, воплощать в жизнь и демонстрировать в жестах и манерах, а не формула, которую нужно понять или принять умом»54. Поразительно, но в конфуцианской мысли определение или теория человеколюбия не предшествует практике55. Сократовский парадокс «добродетель – это знание» здесь полностью отсутствует, даже если в обеих традициях воспитанием занимается харизматичный учитель. Нет очевидной связи морали с рациональным рассуждением (вроде универсальных законов Канта, проверяемых чистым разумом, или дедуктивных выводов Декарта – cogito ergo sum, «я мыслю, значит, я существую»). Исходя из жэнь, как вообще можно думать о жизни в инструментальных терминах? Как говорил Конфуций, “благородный муж – не инструмент” ни для себя, ни для других»56.
III. Прощание с бинарностью
В зависимости от того, кого мы слушаем в Китае, платоновский и конфуцианский каноны могут казаться или не казаться очень похожими. Конечно, с точки зрения аргумента инструментальной рациональности, их выводы и методы разительно отличаются. От Платона мы получили около тридцати пяти диалогов, которые опираются на диалектику и принцип непротиворечия, с отдельными вкраплениями мифов («Законы», конечно, не являются диалогом)57. Эти произведения должны утверждать универсальные истины, но на практике они скорее наводят на размышления, чем дают окончательные ответы. Конфуцианский канон состоит из книги древних стихов и панегириков, книги о предсказании будущего, книги о придворных ритуалах, сборника документов, написанных древними правителями и чиновниками эпохи Чжоу, книги о золотой середине, а также сборников бесед Конфуция с учениками и Мэн-цзы с царями. «Беседы и суждения», «Учение о середине» и «Великое учение», пожалуй, ближе всего по стилю к древнегреческой философии, но все равно их метод заключается в использовании бесед, аналогий и уклончивых наблюдений о надлежащем поведении мудрецов и правителей, а не диалектики, дедукции или формального силлогизма58. Сам Конфуций не отдавал предпочтения приемам сократовской аргументации, говоря, что «красивые речи вредят морали»59. Даос Чжуан-цзы отвергал использование разума и аргументов как методов постижения «Пути»: «Вот так рассуждают о Пути, но это не есть сам Путь ‹…› Чем спорить, лучше молчать. Никто не знает про Путь»60.
В этих этических традициях не считалось ценным выдвигать на передний план «рациональность» как метод и как цель достижения блага61. Их западные аналоги выглядят и звучат иначе. Они «пронизаны идеалами дискурсивной рациональности и аргументации»62. Многие философы-компаративисты считают это важным моментом и поэтому признают за западной философией то, в чем они, возможно, отказали бы западу в целом. Результаты этого все равно поразительно бинарны по своей форме. Дэвид Л. Холл и Роджер Т. Эймс утверждают, что доминирующие способы мышления в классической китайской и западной культурах можно описать как аналогический и рациональный соответственно. Западная философия не была запятнана антропоцентрическим мышлением, поэтому в ней «подавлялось появление концепций, сформированных по аналогии с человеческой сферой»63. Артур Уэйли, переводчик «Бесед и суждений», утверждает в своем предисловии, что в них почти нет последовательных логических рассуждений или рациональной аргументации, а Ричард Нисбетт предлагает этому объяснение: в конфуцианской традиции все вещи взаимосвязаны, взаимозависимы и изменчивы, а значит, их всегда нужно рассматривать в контексте, тогда как на западе люди приняли логический подход Платона и Аристотеля, которые были склонны деконтекстуализировать утверждения, чтобы они оставались верными при любых условиях (а значит, являлись «истинными»)64. Ангус Грэм утверждает примерно то же самое: «Хорошо известно, что почти все китайские философские “системы” являются практическими, нравственными или мистическими философиями жизни, равнодушными к абстрактным размышлениям. Поэтому неудивительно, что китайские конфуцианцы мало заботились о формах рассуждений»65. Как говорил Цзэн-цзы, «Каждый день я трижды проверяю себя, чтобы удостовериться: Предан ли тому, кому служишь? Честен ли со своими друзьями? Применяешь ли полученные знания?»66
Некоторые философы полагают, что несоответствие между двумя этическими традициями можно проследить к отсутствию или наличию понятия противоположного как, собственно, противоположного. Мы на западе можем сказать: «Черное – это противоположность белого». Но, с другой точки зрения, и черное, и белое относятся к единому концептуальному полю – цвету, – которое они делят с другими не-противоположностями. В целом китайская философия, как пишет Тони Фан,
…отрицает реальность истинного противоречия, признает единство противоположностей и считает сосуществование противоположностей постоянным. Убежденность в истинности противоречия считается своего рода ошибкой. Западная марксистская диалектика рассматривает противоречие как реальное, но определяет его иначе, чем западная аристотелевская традиция, в терминах не законов формальной логики, а трех законов диалектической логики67.
Подобно самому Сократу, который расспрашивает собеседников и указывает на их внутренние противоречия, иногда заставляя их совсем раскиснуть, запад слишком увлечен рассуждениями типа «или/или», вместо того чтобы принять подход «и то, и другое», ассоциируемый с пониманием мира в рамках концепции инь–ян68. Западные люди стремятся разрешить парадокс, который видят, а не оставить его в покое. В результате они применяют критерий ценности, который может оказаться неуместным.
Если продолжить обсуждать рациональность в конфуцианской традиции, люди, называющие себя ее поборниками, указывают на то, что многое в ней основано на рационалистическом (если не инструменталистском) мышлении (можно предположить, что они все-таки мыслят в терминах этих бинарностей, чего во вселенной инь–ян быть не должно). Очевидно, что конфуцианские максимы и метафоры часто основаны на скрытом ядре рациональной дедукции, которое уже оборачивается в истории и метафоры69. Неоконфуцианство Чжу Си (1126–1271) и других авторов представляло собой более рационалистическую и светскую форму конфуцианской мысли и отвергало суеверные и мистические элементы, проникшие в конфуцианскую мысль из даосизма и буддизма70. Существовала даже (неконфуцианская) моистская традиция, в которой дедукция, строящаяся на элементах синтаксиса, представляла собой софистический подход к дискуссии.
Очень заметно – возможно, даже красноречиво? – что, несмотря на все более жесткий контроль Си Цзиньпина, дискуссия о «рациональности» проходит без какого-либо упоминания о собственной китайской легистской традиции, одной из форм инструментальной рациональности в политике. «Очевидно, что великодушие, праведность, красноречие и мудрость – не те средства, с помощью которых поддерживается государство», – писал выдающийся легист Ханьфэй-цзы в одноименном трактате середины III века до н. э. Однако, Питер Р. Муди отмечает:
В «Ханьфэй-цзы» также ясно сказано ‹…›, что действие инструментально– (но не нравственно-) рационального характера нельзя понять абстрактно, а только в контексте того, что в трактате называется «ши» (что приблизительно означает «обстоятельства»). Наиболее полезные формы политического анализа не ограничиваются реконструкцией рационального, а раскрывают характеристики ши – политического, исторического, культурного и психологического контекста, который обуславливает действия и определяет, по крайней мере отчасти, что составляет рациональность ‹…›. При этом используются те же индивидуалистические и инструменталистские предположения о человеческом поведении и политическом действии, что и в современной теории рационального выбора: политическое действие может быть понято как поведение индивидов, движимых собственными интересами и стремящихся достичь личных целей71.
Конфуций пришел бы от этого в ужас: достойный муж делает то, что правильно; лишь мелкие людишки делают то, что выгодно. Однако можно вспомнить знаменитое высказывание Дэн Сяопина «Какая разница, черного цвета кошка или белого?» как пример крайне инструменталистского – и не очень конфуцианского – подхода к китайской экономике.
Между тем в текстах Платона и Аристотеля (и даже Декарта) немало иррационального, если под этим понимать все притчи, не основанные на априорной рациональности. Как пишет Чэд Хансен:
Если применение аналогии, метафоры или притчи для иллюстрации идей делает поиск последовательных и стройных интерпретаций ошибкой, то лишь очень немногие из светил западной традиции могут быть истолкованы рационально. Платоновский миф о пещере и метафора Декарта о демоне на самом деле являются действенными образами, способными мотивировать создателей философских систем72.
Но в конце концов, что на самом деле стоит на кону? Если конфуцианская традиция не отдавала предпочтения «рациональности» как отличному инструменту упорядочивания общества, описания природы души, утверждения существования самого Бога или даже убеждения читателей и будущих философов, то почему она должна быть критерием для какого-либо рода суждений?73 Нет причин считать абстрактные теории истины лучше эмпирических, и в этом описании нет победителя, поскольку бинарные значения аргумента изначально ошибочны74.
Также нет серьезных оснований принимать другую особенность нынешней «дискуссии о рациональности», а именно мнение, что традицию Просвещения с ее пагубными последствиями можно проследить непосредственно от Канта, а иногда и от платоновского акцента на рациональности как высшем принципе человеческой души. Не важно, что (как уже говорилось) по мнению Канта ни один человек не должен использоваться другим как цель – неудобная точка зрения для тех, кто хочет выставить его нечистым на руку «торговцем» рациональностью, – или что целью платоновской рациональности было благополучие и стабильность государства75. Возможно, Каллиполис опирался на своего рода евгенику, но, несмотря на этот неприятный факт, мы не можем без больших усилий обвинить Платона в холокосте76. И конечно, возвышение Платоном рациональности основывалось на априорных предположениях, которые были совершенно иррациональными (и, на мой взгляд, далекими от здравого смысла жэнь), и даже Сократ временами отказывался от дедуктивной диалектики в пользу историй и мифов, которые нередко звучат убедительнее 77.
Неудивительно, что в схеме противопоставления человеколюбия и рациональности, формирующей этот дискурс, возникают и другие проблемы, прежде всего, игнорирование огромного влияния христианства на западе. Тем не менее, и особенно в контексте нового национализма Си Цзиньпина, конфуцианские тексты ныне рассматриваются как источники предпочтительной альтернативы западной философии, независимо от того, является ли она лишь серией примечаний к Платону. Вот древние ценности, которые формировали, способны формировать и должны формировать современное китайское общество. Нет больше осуждения конфуцианской мысли и нет стремления к западной логике, характерных для движения «Четвертое мая». Теперь речь идет о том, что «западное Просвещение принесло рациональность как инструмент управления и порабощения людей», в то время как в Китае «ценностная рациональность не исключает необходимости удовлетворения потребностей современных людей, но уделяет больше внимания развитию наших будущих поколений, с заботой о ближайших и долгосрочных интересах»78.
Я бы сказала, из уважения к взглядам ученых по обеим сторонам Тихого океана, при этом оставляя достаточно места для инь и ян как важной концепции, что нет веских причин считать, будто запад сегодня в большей степени является рассадником инструментальной рациональности, чем Китай. В конце концов, стремительный экономический рост Китая обусловлен не броском гадательных костей. И еще я бы предложила хорошенько подумать над вопросом: что такое «рациональность»? Действительно ли это инструмент порабощения людей? Несмотря на его связь с процессом «рационализации» и экономическим развитием, вряд ли это настолько простая вещь, чтобы привести к массовому нравственному зомбированию на западе. Утверждения западной неоклассической экономики основаны на «рациональном» принципе личного интереса, но что, если личный интерес не рассматривается некоторыми как рациональный? Политическая и семантическая гибкость, присущая термину «рациональность», позволяет, как, я надеюсь, уже понятно, использовать его практически любым образом. И вряд ли я первая, кто обращает на это внимание. Великий исследователь, занимавшийся сравнительным анализом Древней Греции и Китая, сэр Дж. Э. Р. Ллойд считает, что склонность ученых опираться на бинарную оппозицию рациональности и иррациональности – это редукционистский, чрезмерно обобщающий и, собственно, абсолютно западный подход79. Сама дихотомия рационального и иррационального берет начало в древнегреческой философии и математике, а подобные дихотомии – плохой инструмент для описания того, что находится «где-то рядом», а тем более в совершенно иной культуре (мы уже рассматривали интегративное мышление в духе инь и ян). Как призывает Ллойд, нам не стоит «слишком опрометчиво бросаться в предположение об их [этих дихотомий] универсальной состоятельности и забывать об их скрытом использовании для подавления конкурирующих идей»80. Пока мы видим, что они могут оказаться инструментом в руках почти кого угодно; однако это должно усложнять, а не упрощать наши сравнения81.
В конце концов, запад нуждается в «китайской духовности» не больше, чем Китай – в «западной рациональности». Эти пустые термины служат скорее политическими уколами и выпадами, чем отправной точкой для дискуссии и взаимопонимания. Ученым давно пора вырабатывать и транслировать уникальные и сложные, а не заимствованные и упрощенные ответы на многочисленные аспекты жизнедеятельности, характерные для Китая и запада в XXI веке82.