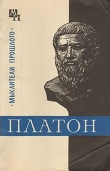Текст книги "Платон едет в Китай"
Автор книги: Шади Бартш
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
5. Штраусовская интерлюдия
Штраус обращается к корням западной цивилизации, давая нам понять, что и мы тоже должны обратиться к корням китайской цивилизации ‹…›. В этом смысле самая большая польза изучения Штрауса в том, что он помогает нам осознать, что наше постоянное подражание западу на протяжении последних ста лет может наконец закончиться.
Чжэн Вэньтао
Теперь настало время рассмотреть примечательный феномен популярности западного политического теоретика Лео Штрауса среди весьма разрозненной группы современных китайских ученых. О китайских «штраусианцах», чье увлечение трудами Штрауса, начавшись на закате XX века, вызвало удивление политических философов в США, написано уже немало; для большинства западных политических мыслителей Лео Штраус является относительно маргинальной фигурой1. Однако теории Штрауса оказались полезными (в инструментальном или ценностно-рациональном смысле, сказать трудно) для группы китайских интеллектуалов, которые через его философию, словно сквозь линзу, пересматривают западные канонические тексты, как это в свое время делал сам Штраус. Вслед за ним китайские штраусианцы считают, что классическая античность подарила нам щедрый набор благотворных ценностей, с тех пор утраченных современностью. Короче говоря, нам, западным язычникам, пора отбросить свой современный образ мышления и «вернуться к древним». Не важно, что это очень специфический взгляд на древних, который вряд ли найдет приверженцев сегодня; возвращение к античности стало бы для большинства из нас неприятным шоком.
Но признание ценности античности как таковой – это не слишком радикальная позиция в такой стране, как Китай, где, как мы видели, Конфуций и другие до сих пор считаются крайне актуальными для современных ценностей; не обязательно даже обращаться к Штраусу, чтобы ощутить эту позицию. Более того, Штраус осуждал современность, в то время как большинство китайцев предпочитают считать себя продолжателями многовековых традиционных ценностей. Зачем же тогда националистически настроенным интеллектуалам заимствовать его аргументы и методологию? Принятие социальных и политических ценностей иностранного мыслителя в качестве собственных – это смелый шаг. Использование утверждений и методологии Штрауса позволило этим ученым дать всеобъемлющие ответы на вопрос о месте Китая в современном мире2. Но китайцам Штраус нужен не только для того, чтобы говорить о себе. Им также нравится его взгляд на запад.
I. Пророки Штрауса
Бурный рост интереса к Штраусу произошел в начале 2000-х годов3. Хотя несколько работ Штрауса были переведены на китайский в 1980-х годах, энтузиазм по поводу его идей вспыхнул лишь после того, как их популяризацией занялись два известных профессора. Оба они нам уже знакомы. Первый – Лю Сяофэн (刘小枫), профессор Университета имени Сунь Ятсена и Китайского народного университета, где он является директором Центра антиковедения. Лю вдохновил целое поколение преданных ему студентов принять философские и политические аргументы Штрауса как лучший (и даже самый этичный) подход к интерпретации западных античных текстов и служил примером для тех, кто хотел последовать по его стопам. Второй – Гань Ян (甘阳), бывший декан Колледжа гуманитарных наук (Колледж Боъя) при Университете Сунь Ятсена, а ныне декан колледжа Синья (при Университете Цинхуа4). За последние десятилетия оба ученых прошли путь от реформаторов до неоконсерваторов, подобно многим китайским интеллектуалам 1980-х годов, которые сегодня поддерживают националистические настроения, замешенные на «традиционных ценностях», хотя когда-то они прославились критикой китайской культуры и национального характера5. Оба ученых были известными и влиятельными общественными мыслителями, хотя и противоречивыми. И оба высказывались по вопросу о том, как Китай должен позиционировать себя сегодня, причем в обоих случаях с опорой на Штрауса.
Гань Ян и Лю Сяофэн опубликовали целый ряд работ о творчестве Штрауса (на китайском языке). Сочинения Лю на эту тему включают «Покорность ежа: Пять эссе о политической философии», «Путь Лео Штрауса», «Экзотические и эзотерические учения Ницше» и многие другие книги и статьи. Гань написал объемное предисловие к появившемуся в 2002 году китайскому переводу книги Штрауса «Естественное право и история», которое позже было издано отдельно под названием «Лео Штраус как политический философ». В 2014 году он также опубликовал сборник «Штраус и исследования античности»6. Что еще более важно, они вдвоем руководили переводом на китайский язык практически всех работ Штрауса и многих книг западных штраусианцев, таких как Аллен Блум и Сет Бернардет, в серии «Гермес: античность и интерпретация»7.
Лю Сяофэн и Гань Ян не всегда были штраусианцами. В 1980-е годы они больше напоминали вестернизирующихся либералов. Оба участвовали в редактировании серии The New Enlightenment («Новое Просвещение») «Культура: Китай и мир» (Вэньхуа: чжунго юй шицзе, 文化:中国与世界), в которой благодарной аудитории, жаждущей западных идей, представлялись такие произведения, как «Рождение трагедии» Ницше, «Бытие и время» Хайдеггера и «Протестантская этика и дух капитализма»8 Вебера. Этот интерес к важным западным текстам был типичен для конца 1980-х годов – «культурной лихорадки», которая перекликалась со многими темами движения «Четвертое мая» и во время которой политические позиции Гань Яна и Лю Сяофэна были близки взглядам студентов-активистов9. Гань называл движение «Четвертое мая» «отправной точкой радикального перехода китайской культуры от премодерна к современности» и утверждал, что «основная задача культурных дискуссий 1980-х годов в Китае – решительно завершить этот исторический сдвиг ‹…› и полностью реализовать “модернизацию китайской культуры”»10. В одной из статей Гань даже ставил свободу личности выше демократии и науки – двух лозунгов движения «Четвертое мая», став, так сказать, более западным, чем предыдущие реформаторы. «Если современные китайские интеллектуалы все еще не желают поднять плакат “свобода превыше всего”, – писал Гань в 1986 году, – то Китай не ждет ничего хорошего в XXI веке»11. Гань призвал тех же интеллектуалов приложить все усилия к тому, чтобы «вернуть основные ценности современной западной культуры, в частности свободу, демократию и верховенство закона, которые были грубо отвергнуты»12. «Все это резко контрастирует с его позицией конца 1990-х годов; так, в 1997 году Гань назвал самым большим препятствием на пути восхождения Китая его слабую центральную власть, а год спустя заметил: «В целом, критика (и самокритика) китайских интеллектуалов о революции и радикализме подошла к концу. Эта критика и самокритика не углубили понимания либерализма в китайском интеллектуальном мире»13.
Лю также покинул Китай во время подавления студенческого и рабочего движения. В 1990-е годы он вернулся в Китай в другом обличье и самозабвенно занялся поиском универсальных этических ценностей, не зависящих от западных демократических идеалов. Лю решил, что их можно найти в христианстве, и объявил о своем статусе «культурного христианина», опубликовав ряд книг, в которых провозглашались его новые взгляды: «Дао и логос: встреча китайской и христианской культур»; «Приближение к истине на Кресте»; «Личная вера и теория культуры»; «Достижения и промедления»14. Особенно в последней из перечисленных работ Лю противопоставлял самодовольно «медлящих» китайцев идеалам христианского запада15. Лю утверждал, что его соотечественники не должны обращаться к кровавой династической истории Китая в поисках модели общества – истории, в которой «Небесный мандат» использовался для прикрытия вопиющей несправедливости среди людей. Осмысленной жизнь может быть лишь с опорой на трансцендентного христианского Бога, а не на конфуцианские традиции, даже если они смешаны с христианством (в чем он обвинял китайских богословов в Гонконге и Тайване)16. Лю даже повторил старую критику в адрес китайских мудрецов о том, что они не подчеркивали важность логических построений и не интересовались анализом17.
Это желание найти источник этических ценностей – или, по крайней мере, покончить с нигилизмом – также обусловило последующее внимание Лю к Штраусу, к которому он пришел после чтения Вебера, Шмитта и других и с которым он обнаружил тесное интеллектуальное родство. Прочитав в 1994 году предисловие и эпилог к «Истории политической философии» Штрауса, Лю был шокирован (по его словам), поскольку «неустанная борьба Штрауса с ценностным релятивизмом и нигилизмом [была] такой же, как и моя позиция в книге “Достижения и промедления”. Как же близок я был к этому человеку!»18 Весьма кстати, что у Лю была отличная возможность для распространения своих взглядов и взглядов Штрауса – его серия «Гермес: античность и интерпретация», которая на сегодняшний день насчитывает около 500 работ, включая многих классиков западной политической теории, переведенных на китайский язык под его редакцией19. Серия включает в себя исследования трудов Платона, Гомера, Пиндара, Аристотеля, Гоббса, Ницше и других авторов. В большинстве переводов теории Штрауса часто цитируются в предисловиях, причем в серии представлены все основные работы Штрауса, включая «Политическую философию Гоббса», «О тирании», «Естественное право и историю»20. Кроме того, в ней есть эссе и книги западных штраусианцев, таких как Аллан Блум, Карл Генрих Майер и Харви Мэнсфилд. Лю также создал (ныне не существующий) «Китайский журнал классических исследований». (С его программным заявлением мы уже сталкивались в третьей главе.) Многие эссе для этого журнала писали его коллеги-штраусианцы, часть из которых ранее были его студентами. Сам Лю редактировал 775-страничный том под названием «Штраус и античная политическая философия»21.
Как и его друг и коллега, Гань до недавнего времени был неоконсерватором и в значительной степени принадлежал к штраусианской школе. Десять лет, проведенные им в рамках докторантуры в Комитете по социальным исследованиям при Чикагском университете, очаге научного штраусианства, наверняка оказали на него глубокое влияние. Так, в предисловии 2002 года к китайскому переводу книги Штрауса «Естественное право и история» Гань говорит о важности политической философии Штрауса для американской консервативной сцены 1980-х годов. Гань особо подчеркивает, что Штраус настаивал на «критическом изучении западной современности и либерализма с точки зрения западной античности». Цитируя Макиавелли, Ницше, Канта, Хайдеггера, Ролза и других, Гань перефразировал основной посыл Штрауса для незнакомых с ним китайских читателей:
Западная современность перевернула эту нравственную основу [античности] и все больше пренебрегает предками и древностью, поскольку авторы «современных идей» инстинктивно верят только в так называемые «прогресс» и «будущее» ‹…›. В результате главная ирония современности заключается в следующем: «Чем выше развитие рациональности, тем больше разрастается нигилизм и тем меньше наша способность стать лояльными членами общества». С 1930-х годов Штраус считал, что глубочайшей проблемой современности является так называемая «интеллектуальная прямота», или «философская свобода»22.
Несколько загадочно Гань добавлял, что «американские консервативные ученые часто сравнивают США 1960-х годов с Китаем времен “культурной революции” 1960-х, утверждая, что социальные изменения в США, начиная с шестидесятых годов – это “американская культурная революция”, которая также привела к катастрофе в США». В поддержку этой точки зрения он ссылается на «известного интеллектуального историка Пауля Кристеллера» (единственный Пауль Кристеллер, которого я знаю, – это ученый эпохи Возрождения). В любом случае, суть в том, что Штраус, как и Вебер, выражал негативное мнение о современности, которое эти ученые с удовольствием приняли.
Акцент Штрауса на нравственной пропасти между античностью и современностью был воспринят его китайскими читателями, справедливо или нет, как одновременное осуждение либеральной демократии и поддержка ценности китайского национализма23. Вэн Лэйхуа отмечает:
[Китайские штраусианцы] крайне заинтересованы в поиске альтернативы демократии, которая не всегда присутствует у Лео Штрауса. Даже по мнению Шадии Друри, самого ярого критика штраусовской политической философии, Штраус – элитист, но не антидемократ [Drury PILS 194]. Однако в трактовках китайских платоников намерение культивировать элитистский правящий класс сосуществует с критикой демократии и сильным стремлением найти политическую альтернативу в конфуцианской политической традиции и маоистском наследии24.
Таким образом, взгляды Штрауса на либерально-демократическое настоящее запада могут использоваться против современных китайцев, которых привлек запад в его нынешней демократической и капиталистической форме.
Наконец, обращение к Штраусу позволило Лю свести вместе две древние философские системы – платоновскую и конфуцианскую традиции, – которые теперь можно было согласовать в важнейших аспектах25. Например, в работе «Штраус и Китай» Лю утверждал, что встреча Штрауса и Китая (что также означает встречу классической западной и конфуцианской философии) – это «встреча классических ментальностей»26. Вместе эти две традиции могли обеспечить этическую альтернативу раздражающим западным «универсальным» ценностям, таким как демократия и равенство27. Другой ученый, Тан Шици, считает, что конфуцианскую и штраусианскую философии можно сравнить по трем аспектам, таким как иерархия души, эзотерические тексты и отношения между политикой и философией28. Однако, по его мнению, поскольку Штраус не понял, что китайское «быть» не применяется в экзистенциальном смысле, он не был совершенен.
Это уравнивание Конфуция и западных классиков (по крайней мере, в их штраусовской интерпретации) якобы дает последователям Штрауса весомый аргумент о превосходстве ценностей древних цивилизаций над современными. Мы должны ориентироваться на Штрауса как на нравственного лидера, чтобы не сбиться с этического пути. По словам самого Лю, «причина, по которой мы апроприируем Лео Штрауса, заключается в том, что современное образование не учит различать добро и зло, справедливость и несправедливость. Он показывает нам, что нужно обращаться к великим произведениям древности, будь то китайской или западной, и на их основе выстраивать нравственную систему»29. Эта система должна основываться не на свободе, а на добродетели, и игнорирование этого императива (утверждает Лю) неизбежно ведет к нигилизму30. «Некоторым китайским интеллектуалам предстоит сделать решающий выбор: оставаться развращенными западной современной философией или принять переобучение через Платона», – утверждает Лю31.
Таким образом, Лю, Гань и другие китайские штраусианцы заменяют прежнее противопоставление Китая и запада новым противопоставлением античности и постпросветительской мысли. Теперь Конфуция можно включить в картину как представителя коллективной мудрости древних32. Современное постпросветительское стремление к дальнейшему развитию науки, считающейся источником определенного знания, привело нас к отказу не только от этических ценностей, но и в конечном счете от самого понятия истины. Как же нам отойти от этой пропасти? Китайские штраусианцы считают, что мы должны избавиться от современного предубеждения, будто философии до эпохи Просвещения нечего нам предложить; в сущности, мы должны читать древних (но только эзотерически) и учиться на их ценностях33.
Этот эзотерический/экзотерический подход, приводящий к такому выводу, цветет пышным цветом на страницах «Китайского журнала классических исследований» (Гудянь Яньцзю), редактором которого был (пока журнал не перестал издаваться) не кто иной, как Лю Сяофэн. На его страницах не раз можно прочесть, что «Государство» Платона – это текст не о возможности справедливого города и не о трансцендентных ценностях, представленных Формами блага и добродетели, а о невозможности справедливого города, об отказе философа править или участвовать в политике и о необходимости сильного правителя с прочным мифом за спиной, способного контролировать неразумных и своенравных подданных34. Например, Чэн Чжиминь утверждает, что, согласно позиции Платона, благородная ложь оправданна, поскольку существует вечный конфликт между городом-государством и философом: философ и город-государство имеют разные установки, и скрупулезность или «священное безумие» философа также влияет на город-государство. Потенциал философии к причинению вреда и безопасное использование ее просветительской функции – вот главная тема политической философии Платона35. Ван Цзинь подытожил эту мысль: «Природа философии – стремление к истине, но, сталкиваясь с политической реальностью, философы должны воздерживаться от погони за универсальной философией, чтобы не подорвать реалистическую основу политического сообщества»36. Так, примером эзотерического прочтения может служить предположение Чжан Бобо о том, что Цефал так рано покидает сцену в «Государстве» Платона, поскольку не может оказаться под прицелом логической аргументации – от которой, как утверждал Штраус, политическое руководство (в данном случае представленное аристократическим статусом Цефала) должно защищаться любой ценой37. Даже Вергилий, хотя и не являвшийся философом, приобщается к этой идее: его конечной целью в поэме «Энеида» якобы было поспособствовать религиозному послушанию и благочестию, внушить людям национальный миф и высказаться в пользу сильного военного правления38. Неизбежное напряжение между философией и гражданином также является основным доводом в интерпретации У Фэем «Апологии» в серии «Гермес». И так далее39.
Одна из самых известных работ в этой серии – выполненный самим Лю «интерпретативный перевод» (как он его описывает) «Пира» Платона (Хуэйинь). В предисловии к нему Чжан Хуэй подчеркивает драматические качества «Пира»: «Мы должны обращать внимание не только на речи ‹…›, но и, по словам Лео Штрауса, на поступки, имеющие огромное значение»40. Чжан Хуэй говорит нам, что Платон написал это произведение как пьесу, чтобы затенить собственные взгляды и избежать преследований. Как отмечает Вэн, Лю не применяет к этому тексту термин пянь (трактат), предлагая представить, что мы смотрим драму, а затем использует традиционную форму китайского конфуцианского комментария, чтобы вставить собственные штраусианские объяснения этой драмы, тем самым предполагая некоторую историческую достоверность этих интерпретаций41. А когда Лю обсуждает смерть Сократа в «Покорности ежа», влияние Штрауса окрашивает его экстраполяцию этого самопожертвования на Китай. По мнению Лю, Сократ остался бы в коммунистическом Китае, даже будучи приговоренным к смерти, а не бежал бы в буржуазные страны42. Лю объясняет это тем, что Сократ предпочел бы умереть, но сохранить принципиальность философа, как он это сделал в Афинах43. Мораль истории? Философу, который делится своими истинами в публичной сфере, всегда грозят последствия со стороны государства, и лишь немногие готовы принять эту цену.
Интересно, что даже перевод названия платоновского «Государства» несет в себе особый смысл в этом штраусианском контексте. Как отмечает Вэньтао Чжай, хотя обычно его переводят как «идеальное государство» [лисняго, 理想国], «Лю Сяофэн предпочитает “Императорское правление” [ванчжи, 王制], считая, что протоконфуцианский “путь (мудрого) царя” – это именно то, что Платон подразумевает под “политией” ‹…›. В сравнении с этим не столь революционно выглядит его перевод слова “номос” (обычай, закон) как лифа 礼法, явно сближающий его с конфуцианскими ритуалами (ли) и легалистским законом (фа)»44. Таким образом, важнейшая терминология, имеющая специфическое значение в греческом контексте, «сливается» с конфуцианской системой верований, и такую трансформацию можно считать эзотерическим переводом.
Конечно, такого Платона Запад может и не узнать45. Здесь одна из главных особенностей предлагаемого Платоном переобучения – обязательное одобрение мнения Штрауса о том, что философ не должен говорить обществу правду: его рационально сформулированные идеалы опасны в их незамутненной форме и могут разрушить узы обычая или религии. Штраусовское переобучение также требует напряженного обдумывания проблем современности и той бездны бессмысленности, которая ее характеризует. Наконец, переобучение подразумевает веру в то, что размышления Штрауса не являются теорией. По мнению Лю, опора на Штрауса дает китайским интеллектуалам возможность избежать западных «измов»46. На вопрос, не является ли «измом» философия Штрауса, Лю отвечает категорически отрицательно. «Классический» императив Штрауса буквально направлен против насыщенных «измами» дискурсов современности и представляет собой скорее ориентацию на античность, чем некую интерпретативную смирительную рубашку47. Такой ответ позволяет Лю, возможно не вполне искренне, претендовать на своего рода взгляд из ниоткуда, архимедову точку зрения, с которой он и Штраус будут смотреть на классический мир по-новому – и на этот раз правильно48.
Поскольку интерпретации Штрауса объединены важными темами противоречий между истиной и социальными ценностями, между философом и политиком, между древностью (в узком понимании) и современностью (в широком понимании), утверждение этих мыслителей о том, что философия Штрауса каким-то образом является естественной и универсальной, представляется интересным шагом. Но, возможно, в этой их странности есть рациональная причина. Штраус в своих взглядах опирался на античность и воспринимал древние тексты так, как если бы они имели и эзотерический, и экзотерический смысл. В статье «Преследования и искусство письма» Штраус утверждал, что внимательное прочтение великих текстов Аль-Фараби, Маймонида, Спинозы и других авторов обнажает скрытый, эзотерический слой их учений: взгляды, слишком опасные для существовавшего политического режима, чтобы авторы могли открыто о них заявить. Большинство читателей, однако, замечали только поверхностный/экзотерический смысл, который был вполне безвреден как для авторов, так и для аудитории. Штраус далее рассуждал об эзотерическом смысле, который он обнаружил в этих текстах, содержащих варианты простой идеи о том, что озвучивание философских истин не принесет пользы обществу и на самом деле опасно.
Лю удалось «натурализовать» эту методологию (то есть противопоставление эзотерического/экзотерического письма и чтения), обнаружив ее в знакомом ему китайском контексте. В «Луньюй» – «Суждениях и беседах» Конфуция, отмечал Лю, проводится различие между вэйянь (微言) и даи (大义), буквально «глубокими речами и большими смыслами», и вот взгляд Штрауса уже представляется вполне китайским49. Кроме того, есть труды легиста Ли Сы, который в 213 году до н. э. осуждал «частное обучение» как опасное для государства, а это весьма штраусианский взгляд. Лю (и не он один) также утверждал, что на протяжении истории многие мыслители от политики и философии писали трактаты, одновременно раскрывая и скрывая свои взгляды50. Что может быть очевиднее? Однако непосвященным может показаться крайне субъективным такой штраусианский подход, когда предпочтение отдается середине высказывания или абзаца в ущерб остальным частями, внимание фокусируется на одном слове, значимость которого преувеличивается, противоречия рассматриваются как ключи, а цитирование существующих научных работ в основном избегается51.
Решив искать эзотерические смыслы в античных произведениях, Гань, Лю и другие китайские штраусианцы начали трактовать классические западные тексты в поддержку определенных философских и политических позиций. Например, при обсуждении «Путеводителя растерянных» Маймонида Штраус утверждал, что Маймонид писал для двух аудиторий одновременно, чтобы избежать преследования. Далекая от Штрауса аудитория прочтет Маймонида как человека, пытающегося примирить аристотелизм с раввинистической иудейской теологией, предлагая рациональные объяснения религиозных явлений, – и решит, что философию можно примирить с религиозными откровениями. В интерпретации штраусианцев, однако, это лишь поверхностный, экзотерический смысл текста. Эзотерический же уровень служит множеству целей, включая самозащиту философов от возмездия общества; защиту общепринятых общественных ценностей от подрывного влияния философии; и философскую подготовку потенциальных читателей52. Они утверждают, что, поскольку философские истины дестабилизируют политический мир, который должен обеспечивать безопасность граждан на основе общих законов и обычаев (то, что Штраус называл номос), философ вынужден скрывать свой посыл – это стало темой рассуждений Штрауса о Платоне, Аристотеле и Ксенофонте, а также о более поздних философах53. Согласно этим древним философам, непримиримость закона и философии, или практических ценностей и абстрактных размышлений, или общества и отдельного философа всегда таится в тексте – если его читать эзотерически54. Тот факт, что конфуцианские вельможи традиционно были близки к власть имущим, несколько подрывает эту точку зрения, а может быть, и поддерживает ее. Возможно, они писали экзотерические тексты для императоров, а эзотерические знания оставляли при себе? На первый взгляд это кажется маловероятным, но всегда можно утверждать, что придворные хроники, которые они регулярно писали, открывали на что-то глаза их собратьям-конфуцианцам. Однако это уже совсем другой вопрос.