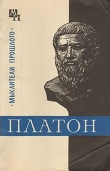Текст книги "Платон едет в Китай"
Автор книги: Шади Бартш
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Трудно оценить общее влияние таких реформаторов, как Ли Дачжао и Лян Цичао, на развитие китайской истории в XX веке99. По мере того как их труды теряли широкое влияние, возможность реализации их взглядов также таяла, а затем и вовсе исчезла – с захватом власти такими военачальниками, как Юань Шикай, и в конечном счете с приходом к власти коммуниста Мао Цзэдуна и КПК100. Однако не кто иной, как сам Мао Цзэдун писал о большом влиянии взглядов реформаторов в первые десятилетия нового века. Молодого Мао восхищал Лян, и в юном возрасте он одобрительно цитировал его слова о том, что «когда страна основана законным путем, это конституционное государство: конституция разрабатывается народом, и правитель назначается народом»101. Конечно, это не характерно для более позднего Мао Цзэдуна, и его государственное строительство имело мало общего с замыслами Лян Цичао102. Уже в 1941 году в докладе на совещании руководящих работников в Яньани Мао критиковал интеллектуалов, которые «цитировали греков при любой возможности»103. В эссе 1941 года «Перестроим нашу учебу» Мао писал:
Многие члены партии все еще имеют смутное представление о китайской истории, будь то история последних ста лет или древних времен. Многие марксисты-ленинцы не могут раскрыть рта, не упомянув о Древней Греции, но, к сожалению, не помнят своих предков104.
Мао высказался об античной философии в своей работе по диалектическому материализму, в которой (что, наверное, неудивительно) осудил Платона как идеалиста и реакционера за его аргумент о том, что только Формы имеют реальное существование.
III. К площади Тяньаньмэнь, но не обратно
Был один человек, который, живя в Китае при Мао, цеплялся за призрак классических Афин и дорого за это заплатил. Убежденный коммунист Гу Чжунь (顾准, 1915–1974) стал экономическим советником КПК после захвата партией Шанхая – одного из немногих «особых» городов, где допускалось существование западного капитализма. Как объясняет Кристофер Лейтон, новая КПК особо заботилась о том, чтобы контролировать и реформировать этот финансовый центр Китая:
За помощью они обратились к Гу Чжуню – вундеркинду в области бухгалтерского учета, уроженцу Шанхая и ветерану Коммунистической партии Китая. В течение следующих трех лет он курировал и перестраивал финансовую структуру города на различных постах в правительстве, иногда одновременно возглавляя сразу три муниципальных бюро105.
Но Гу Чжунь оказался в противоречии с партийной идеологией, когда его политика, изложенная в его «Налоговом бюллетене», перестала соответствовать коммунистическим идеалам. В своей статье 1957 года «О коммерческом производстве и теории стоимости при социализме» он утверждал, что основой для принятия производственных решений должен быть рынок, а не централизованный план. Из-за этого его сослали в провинцию, а затем посадили в тюрьму. Его не раз освобождали и снова заключали под стражу (или, как это тогда называлось, «перевоспитывали»), но впечатления от голода и каннибализма, которые он наблюдал в Синьяне, провинция Хэнань, где погибло около 200 000 человек, привели его к решительному неприятию «большого скачка» (大跃进). Гу Чжунь вызывающе писал в тюремных дневниках: «Я верил в ту же идеологию [коммунизм]. Однако, когда люди во имя революции сменят революционный идеализм на консервативную и реакционную автократию, я однозначно выберу реализм и плюрализм в качестве ориентиров и буду бороться с этой автократией до конца» 106.
Гу Чжунь обратился к древнегреческой системе полисов, чтобы ответить на вопросы о проблемах, присущих социалистической экономике107. Одно из его важнейших эссе – «О древнегреческом институте города-государства» (Сила чэнбан чжиду, 希腊城邦制度) – было, вероятно, написано в последний год его жизни, в 1974 году, хотя увидело свет только в 1982 году. В нем Гу сделал несколько радикальных заявлений об истории китайской и греческой цивилизаций и торговли, во многом нелестных для Китая108. Он утверждал, что важные черты греческих полисов, такие как демократия, гражданство, права и свод законов, не только отличали их культуру от культуры остального мира той эпохи, но также обусловили другие события, благодаря которым запад лидировал еще долгое время после того, как Древняя Греция прекратила свое существование. Гу писал:
Общей чертой [Китая, Египта, Израиля и Индии] было то, что у всех нас был дарованный Богом правитель, тиран. Он обладал абсолютной властью, и все люди подчинялись его воле ‹…›. Царь также должен был иметь духовное превосходство; то есть его власть должна была считаться унаследованной от Бога109.
Именно это убеждение сдерживало развитие востока.
И вновь очень кстати пришелся Аристотель. Говоря об автократиях, Гу Чжунь одобрительно процитировал греческую «Политику»:
Так как по своим природным свойствам варвары более склонны к тому, чтобы переносить рабство, нежели эллины, и азиатские варвары превосходят в этом отношении варваров, живущих в Европе, то они и подчиняются деспотической власти, не обнаруживая при этом никаких признаков неудовольствия110.
Он также цитировал Аристотеля для определения города-государства и гражданства, ссылаясь на «Политику», чтобы сделать следующее утверждение:
Тот, кто имеет право участвовать в совещательном или судебном управлении государством, может, по нашему мнению, называться гражданином этого государства; и, вообще говоря, государство – это совокупность граждан, достаточная для достижения жизненных целей111.
Наконец, Гу повторил точку зрения Аристотеля о примате государства над отдельным человеком:
Поскольку город-государство – это совокупность граждан, которые «правят по очереди», город-государство, безусловно, стоит выше каждого из своих отдельных граждан и всех своих правителей. Это и есть «демократический коллективизм» полиса – государства с наивысшим суверенитетом граждан ‹…›. В то же время, поскольку город-государство самодостаточно, оно также должно иметь всевозможные законы, гарантирующие эту самодостаточность. Иными словами, в городе-государстве должны быть законы о гражданстве, гражданских правах и обязанностях112.
Отсюда и похвала Гу Чжуня Афинам.
Еще одним фактором, который, по мнению Гу Чжуня, имел решающее значение для процветания греческих полисов, а следовательно и всего запада, было географическое положение Греции и ее многочисленных островов, которое благоприятствовало морской цивилизации; ее местоположение способствовало экономическому развитию, которое, в свою очередь, способствовало развитию демократии113. Другие факторы, связанные с морской природой этой цивилизации, включали колонизацию, торговлю, культурный обмен и ослабление кровных уз. По емкому (и пафосному) выражению Гу, «капитализм был плодом греко-римской цивилизации. Индийская, китайская, арабская и православная традиции не могли породить капитализм. Это не случайно»114. Он считал, что неморские цивилизации были склонны к авторитаризму, а также политической и экономической стагнации115.
Опубликованное в 1982 году эссе «О древнегреческом институте города-государства» прозорливо выразило позицию, с которой был снят знаменитый и судьбоносный документальный телесериал «Речная элегия» (Хэшан, 河殇), перекликавшийся с основными идеями Гу Чжуня и ставший катализатором событий 4 июня 1989 года116. Сценаристы рассматривали свою работу как ориентированный на массовую аудиторию формат подачи витавших в воздухе научных идей, хотя никто из них не утверждал, что специально изучал Гу Чжуня117. Шестисерийная «Речная элегия» показывалась Центральным телевидением Китая (中国中央 电视视 CCTV) в 1988 году, в период максимальной открытости и свободы прессы. Авторы сценария повторили лозунги движения «Четвертое мая» о «господине Науке» и «господине Демократии» и призвали к тому, чтобы Китай вышел из-за Великой Китайской стены118. Они хвалили Янь Фу за понимание западных ценностей, отмечая, что «Благодаря глубокому изучению запада Янь Фу обнаружил, что великие достижения европейской культуры опираются на развитие потенциала человека, тем самым служа своего рода общественным договором»119. И они давали понять китайскому народу, что путь к национальному величию лежит через обновление духом науки и демократии – в этом и состоял секрет успеха запада, который, по их мнению, был обусловлен его морскими путешествиями и торговлей. В шестой части, озаглавленной «Синева», голос за кадром произносит:
Хотя конфуцианская культура, вероятно, действительно таит в себе всевозможные древние и прекрасные «жемчужины» мудрости, за последние несколько тысяч лет она не смогла создать ни общенационального духа инициативы, ни правового порядка для государства ‹…›. История доказала, что попытки модернизации с опорой на стиль управления «сухопутной» культуры [не] наполнит всю страну мощной цивилизационной жизненной силой120.
Увы, «конфуцианская культура постепенно достигла единоличного господства на этой земле»121. Пришло время отвернуться от нее и обратиться к открытости, демократии и морю.
Чтобы подкрепить этот месседж безошибочно узнаваемыми образами, продюсеры сериала ввели четкое разграничение, выраженное в цветовых метафорах, между культурами земли и культурами моря, между желтыми и синими культурами. «Желтизна» река Хуанхэ противопоставлена «синеве» океана и неба; желтый цвет увязан с феодализмом, застоем и закрытостью, а синий символизирует торговлю, исследования, экспансию и прогресс. Голос за кадром повторяет: «Это пространство грязно-желтой земли не может научить нас истинному духу науки. Непокорная Желтая река не может научить нас истинному демократическому сознанию»122. Понимание силы «синевы» пришло лишь благодаря конфронтации Китая с западом во время «опиумных войн», но, несмотря на усилия реформаторов, Китай не изменился. При этом Афины подаются как центр западной культуры и могущества: «Давным-давно, в Древней Греции, демократическая идеология Афин возникла одновременно с процветанием Афин как морской державы, и поэтому именно морское могущество привело к демократической революции»123.
Как с некоторой язвительностью отмечает Чэнь Сяомэй, «такой образ “аннексированных” Афин как “культурной столицы” Европы наиболее типично представлен в сериале “Хэшан”, прославляющем подъем эллинизма, завоевания Александра Македонского, открытие Нового Света и триумф колониализма и империализма»124. Даже гордый символ Великой Китайской стены был переосмыслен – как стена, закрывшая Китай изнутри, а не защищавшая его от варваров. Посыл фильма сводился к тому, что ради выживания Китай должен учиться у «синих» цивилизаций, в частности выстраивая рыночную экономику125. Страна (согласно авторам сериала) не усвоила слова Адама Смита о Китае в «Исследовании о природе и причинах богатства народов», где он заявлял, что китайская культура «страдает от застоя в результате пренебрежения внешней торговлей». Словом, «все отрицательные аспекты китайской культуры в конечном итоге восходят к конфуцианской идеологии, чья монолитная социальная система сопротивляется плюрализму и переменам»126.
Очевидец Дэвид Мозер, в то время бывший студентом Пекинского университета, так описал реакцию на этот документальный фильм:
В течение недели, пока транслировался сериал, стало ясно, что он произвел в академических кругах эффект разорвавшейся атомной бомбы. Содержание сериала – радикальная и крайне болезненная критика глубинной структуры китайской культуры – стало темой разговоров многих аспирантов Пекинского университета, с которыми я общался. Они прежде не видели ничего подобного. «Наконец-то, – говорили они мне, – появилась телепередача, в которой рассказывается правда…» Его посмотрели более двухсот миллионов зрителей, и он взбудоражил население в целом. «Жэньминь жибао» [официальная газета Центрального комитета КПК] даже опубликовала выдержки из «Речной элегии», а упоминания тем фильма начали появляться в самых разных изданиях, продававшихся в местных газетных киосках127.
Как пишет Сюй Цзилинь, в этот уникальный исторический момент «трудности, вызванные сочетанием относительной экономической нестабильности и устаревшего идеологического контроля, привели к ситуации, в которой интеллектуалы начали призывать к совмещению идей, выдвинутых марксистскими гуманистами, с философией неопросвещения»128.
У демократически настроенных студентов и рабочих были веские основания полагать, что в 1980-е го-ды их мечты могут осуществиться. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году Дэн Сяопин постепенно уводил страну от маоистских принципов, инициировав программу «Реформы и открытость» (гайге кайфан, 改革 开放) и внедряя рыночные элементы экономики. В 1981 году на Шестом пленуме Центрального комитета КПК было официально объявлено, что культурная революция стала «причиной самого серьезного спада и самых тяжелых потерь, понесенных партией, страной и народом, с момента основания Китайской Народной Республики»129. В то же время Дэн объявил курс на «социализм с китайской спецификой» и открыл Китай для иностранных инвестиций и мирового рынка. Он дважды становился Человеком года по версии журнала Time – в 1978 и 1985 годах. Воодушевленные новым руководством, студенты и рабочие в 1980-е годы вновь озвучивали многие требования первоначального движения «За новую культуру». Они призывали к свободе прессы, демократическим реформам и верховенству закона. Они были недовольны коррупцией внутри партии, несправедливым распределением материального стимулирования, инфляцией, ограничениями на участие в политической жизни, а также узостью и непотизмом рынка труда. Они хотели перемен.
И перемены произошли, но не те, на которые они надеялись. Смерть Ху Яобана (胡耀邦), высокопоставленного партийного чиновника, симпатизировавшего движению, в апреле 1989 года спровоцировала призывы возродить его наследие, и тысячи студентов начали собираться на площади Тяньаньмэнь, чтобы обнародовать свои требования130. Взбудораженные «Речной элегией» и собственным демократическим идеализмом, студенты требовали реформ. На площади Тяньаньмэнь и в других районах Пекина студентов сопровождали бедные рабочие из пригородов, желавшие лучших условий жизни. Поначалу правительство пыталось умиротворить протестующих уступками, но студенты были непреклонны и не покинули площадь даже во время государственного визита Горбачева. В конечном счете Дэн Сяопин и другие сторонники жесткой линии в партийном руководстве прибегли к силе, чтобы подавить волнения. 19 мая было объявлено военное положение, а вечером 3 июня в Пекин вошли колонны военной техники. В соответствии со строгим приказом очистить площадь Тяньаньмэнь к рассвету, армия оттесняла демонстрантов, убив сотни, а возможно и тысячи мирных жителей131.
После репрессий лидеры протестов и наиболее заметные продемократические активисты были сосланы или заключены в тюрьму, а осужденные в насильственных преступлениях – казнены132. Правительство развернуло пропагандистскую кампанию против «Речной элегии», осудив ее как опасный пример «духовного осквернения» и слепой пропаганды тотальной вестернизации, усугубляющий «национальный нигилизм». Один из сценаристов сериала, Су Сяокан, попал в число семи самых разыскиваемых интеллектуалов-диссидентов Китая; он и его соавтор Ван Лусян ныне живут в изгнании. Трагическая и, пожалуй, неизбежная ирония заключалась в том, что возможность для такого протеста создала в первую очередь собственная политика Дэн Сяопина по проведению реформ и открытости западу133.
Студенты, протестующие, интеллектуалы и профессора погрузились в молчание. К тому времени, когда спустя десять лет после кровопролития стали слышны их голоса (и комментарии к текстам классической античности), позиции выдающихся интеллектуалов, в том числе некоторых представителей ведущих университетов, претерпели кардинальные изменения. В оставшиеся годы XX века сторонники реформ среди китайских читателей западной классики больше не будут обращаться к греческой античности как к источнику ценностей – и успехов – современной западной цивилизации. Они больше не будут смотреть на древний мир, в частности на афинскую демократию, как на образец этих ценностей или как на способ распространения в Китае концепций индивидуализма, гражданства и свободы134. Они больше не будут опираться на тексты Аристотеля для поддержки своих надежд на демократию. Эпоха обращения к западной классике, длившаяся целое столетие, закончилась.
2. Классики после репрессий
Цель изложения здесь истории Древней Греции – ослабить популярные демократические предрассудки и отдать должное гению китайских классиков.
В течение восемнадцати месяцев после инцидента на площади Тяньаньмэнь, пока КПК очищалась от сторонников протестов (включая Генерального секретаря Чжао Цзыяна) и подвергала тысячи своих членов «партийной дисциплине», некоторые публичные фигуры полностью отошли от продемократической научной работы, превратившись в общественных активистов1. Многие другие деятели дотяньаньмэньской эпохи, напротив, сохранили свою идеологию, но потеряли прежний статус и больше не могли публиковаться в национальных китайских СМИ. Те, кто был серьезно вовлечен в студенческие движения и избежал тюремного заключения, переехали в США или другие западные страны. Другие все еще вращались в академических кругах, заключив себя в своего рода башни из слоновой кости, где КПК долгое время допускала больше интеллектуальной свободы, чем в публичном пространстве2. Стали раздаваться и другие голоса, никогда не имевшие отношения к демократическому движению, например таких людей, как шанхайский историк Сяо Гунцинь (蕭功秦), в 1989 году решительно поддержавший авторитаризм, или конфуцианский ученый Ду Вэймин (杜维明), который, как и многие другие, усматривал за экономическим бумом в некоммунистических культурах Восточной Азии «конфуцианскую этику».
В 1992 году группа интеллектуалов опубликовала получившую широкую известность статью «Реалистичные ответы и стратегические альтернативы для Китая после распада Советского Союза», посоветовав правительству искать источник идеологии в традиционной китайской культуре, а не злополучном призраке европейского марксизма. Эта статья стала бастионом современных неоконсерваторов и политических конфуцианцев. К концу 1990-х годов снова стали заметны и влиятельны широкие интеллектуальные течения, в том числе и вновь обратившиеся к западной классике. Однако связанные с ними ученые не были демократическими идеалистами. Как отмечает Чжао Суйшэн, «одним из поистине поразительных явлений в период подъема китайского национализма после холодной войны стало то, что китайские интеллектуалы превратились в одну из его движущих сил. Многие образованные люди… повторяли тезисы из нарастающего националистического дискурса и даже становились его рупорами»3.
Похоже, что сегодня даже движение «Четвертое мая» апроприировано в поддержку линии партии. В статье, опубликованной в 2019 году в China Media Project, Дэвид Бандурски доказательно подтвердил полное «поглощение» истинных идеалов этого движения новой формулировкой смысла протеста. Как пишет Бандурски, призывы «в полной мере использовать дух «Четвертого мая» в речах Си Цзиньпина теперь означают, что молодежь должна сделать «своей задачей великое возрождение китайского народа, оправдав надежды партии, ожидания народа и огромное доверие, оказанное им всеми людьми китайской национальности». Господин Наука и господин Демократия – два оплота первоначального движения (и протестов 1989 года) – более не упоминаются. Один гонконгский журналист, пожаловавшийся на это в Apple Daily, подвергся резкой критике в газете «Дагун бао», контролируемой Канцелярией Госсовета КНР по связям Центрального народного правительства: «Это искажение истории и серьезное оскорбление духа движения “Четвертое мая”», – заявлялось в статье. «Одним из лозунгов движения “Четвертое мая” в том году был призыв к опоре на “господина Демократию” и “господина Науку”. Но почему молодые люди требовали этого? В чем была их цель? Разве не в том, чтобы нация процветала и становилась сильной, разве не любовью к своей стране они руководствовались?» По мнению редакции «Дагун бао», «любовь к стране, любовь к партии и любовь к социализму тождественны и являются единственно истинным патриотизмом»4.
Это националистический, а не демократический дискурс. Интеллектуалы по-прежнему ссылаются на классические западные тексты, но их интерпретации противоречат реформистским идеям 1980-х годов и движения «Четвертое мая» – даже если некоторые из этих интеллектуалов сами были авторами реформистской литературы в те годы. Нередко, возвращаясь после учебы в западных университетах, они используют заимствованные там терминологию и критические подходы, но для поддержки совершенно иной политической позиции. Среди них – китайские сторонники идей Лео Штрауса, пишущие для ранее упоминавшегося «Китайского журнала классических исследований»: в Китайском народном университете (Жэньминь дасюэ) существовал созданный в 2009 году Экспериментальный курс классических исследований, который возглавляет Лю Сяофэн, бывший редактор журнала. Другие, не близкие учению Штрауса, трактуют классические тексты как актуальные для современности политические документы, но уже не превознося их ценности. Эти ученые вторят отрицательному отношению правительства к таким ценностям, как демократия и права человека, свидетельством которому в 2012–2013 годах стал конфиденциальный документ, известный под названием «Документ 9», распространявшийся внутри партии Главным управлением ЦК КПК. Он содержал предупреждения об опасности западных ценностей, в том числе свободы СМИ, демократии и независимости судов. Преподавание подобных тем запрещалось. Прежде всего китайское руководство осуждало «враждебные Китаю западные силы и диссидентов внутри страны» за «постоянное вмешательство в идеологическую сферу»5.
В современном Китае существуют две школы «классицистов». Одна из них отражает стремление учившихся за рубежом студентов факультетов классической филологии изучать западную античность в манере западных вузов. Этот академический интерес воплотился в создании Центра западных классических исследований Пекинского университета, основанного в 2011 году профессором Хуан Яном[9]9
Центр как часть исторического факультета Пекинского университета работает и в настоящий момент, возглавляется профессором Пэн Сяоюем, выпускником американского Католического университета. – Прим. науч. ред.
[Закрыть]. На историческом и философском факультетах Фуданьского университета, Шанхайского педагогического университета и Тяньцзиньского университета есть ядро преподавателей классической школы, активно работающих над соответствующими исследованиями6. Классика как предмет аполитичной науки процветает во многих университетах, и некоторые из их студентов выезжают за пределы Китая для дальнейшего обучения.
Вторая школа представлена группой ученых, желающих сделать античное прошлое актуальным для современного социал-конфуцианского Китая – актуальным в том смысле, что классическое прошлое рассматривается как подтверждение ценностей китайского правительства. Их голоса звучат в ответ на изменения во внутренней и внешней политике, произошедшие за последние два десятилетия и отдалившие Китай и США друг от друга. Одновременно с тем, когда продемократические активисты готовились к своему последнему и роковому выступлению в 1989 году, участники Первого национального симпозиума по теориям модернизации, состоявшегося в Пекине в ноябре 1988 года, придумывали новое определение авторитаризму как «просвещенной автократии», утверждая, что экономическое чудо четырех «маленьких драконов» Восточной Азии произошло благодаря конфуцианству, а не вопреки ему7. И многие китайцы испытывают чувство враждебности, которое подпитывается недавними событиями, убедившими многих, что их страна стала объектом систематической дискриминации. В 1990-е годы появился целый поток бестселлеров с нападками на запад, особенно на США, создававших контекст, в котором консервативные проправительственные интеллектуалы добивались внимания к своим взглядам. Они поддерживали официальную версию государственного национализма, «утверждая, что централизованная структура власти должна укрепляться ради социальной стабильности и экономического развития»8. И, как показал Чжао Суйшэн, позиция партии во многом убедила китайский народ в том, что за отказом Китаю в проведении Олимпийских игр 2000 года стояли «западные обидчики» и что «черная рука» США манипулирует движениями за независимость Тибета9. При этом греческая античность использовалась с целью показать, что американская демократия – заблуждение и зло.