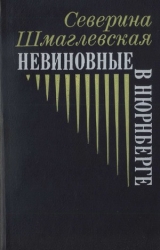
Текст книги "Невиновные в Нюрнберге"
Автор книги: Северина Шмаглевская
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Толпа обтекает белые колонны, валит валом, лестницы переполнены, значит, успех обеспечен. Культурные жители Нюрнберга знают наизусть все выдающиеся произведения, их трудно чем-либо удивить. Будем надеяться, что немцы не осмелятся появиться в зале! Будем надеяться. Может быть, они начнут вести себя так, как нам бы хотелось.
Прошло еще пять минут. Мне пора к Соланж. Я обещала ей прийти немного пораньше.
Удивительно, сколько слушателей в этом старом концертном зале. А фамилия на афише вовсе не знаменитая и звучит не по-немецки. Вокруг меня слышна речь народов всего мира. Идут французы, итальянцы, норвежцы, англичане, американцы, черные, белые, шоколадные, в мундирах со знаками различия и в гражданском, с орденскими планками, которые скромно свидетельствуют о том, что и это воины; входят группы югославов и чехов, русских и бельгийцев, голландцев и поляков. Но нет моего Томаша, и ни один из мужчин не похож на него, черты Томаша расплываются, рассеиваются в сероватом тумане. Надо забыть о нем, отказаться от надежды. А мое воображение упорно уносит меня в ту жизнь, которая могла бы быть. Музыка помогает воображению, вызывает непроизвольные ассоциации, открывает дорогу в жизнь и позволяет забыть, что на этой дороге многих уже нет. Умерших накрыла земля, война кончилась, самые отважные ушли от живых, и огромные толпы людей, лишенных любви, лишенных всего, что наполняет ветром паруса человеческой жизни, рассеялись. На их место приходят другие.
Сколько народу! Зал, наверное, уже переполнен, но что я делаю здесь, среди них? С кем я? Скорей с теми, кто покоится в братских могилах. Их черты мне близки и знакомы, они заслоняли кого-то собственным телом и поэтому исчезли, растворились в глубинах небытия.
Я совсем одна. Чужая в этой огромной толпе, никого нет из моих земляков, я знаю только Соланж, но она целиком поглощена концертом. Меня все сильнее гнетет одиночество среди людей, но нет, я не уйду. Войду в зал, закрою глаза и буду слушать.
Подошла последняя минута.
До чего торжественный и величественный вид у всех этих лестниц, потолков, коридоров, скульптур, балюстрад! В этом храме притаились мелодии, залетевшие сюда, словно ласточки, вот слышны даже взмахи крыльев, сменяются тональности, гудит эхо, разбуженное чьими-то шагами, – возвращаются времена давних концертов. Кто играл тут прежде? Моцарт? Лист? А может быть, и Шопен? Это наверняка знает дирижер. Прекрасная тема для беседы. Я смогу избежать расспросов о цели моего приезда, о первом впечатлении от Нюрнберга.
Лучше всего с самого начала направить любопытство всех собеседников к проблемам банальным и безразличным. Или музыкальным.
Спокойствие, бесследно исчезнувшее с нюрнбергских улиц, сохранялось здесь в неприкосновенности. В воздухе ощущается аромат прошлого, с овальных медальонов над деревянными панелями на нас кротко взирает девятнадцатый век, именно такой, каким представляем мы его себе по книгам: прохлада и простор, запах дерева и старых фолиантов, в воздухе аромат только что сорванных фруктов и бродящего в старых подвалах вина.
Я поднимаюсь по лестнице, и эхо шагов под сводом звучит все громче и отчетливее, у него свой аритмичный ритм, своя немелодичная мелодия, доносятся обрывки музыкальных фраз – это оркестр настраивает инструменты. И вдруг волнение пронизывает всю меня, мою нервную систему: что я тут делаю, как я могла пообещать Соланж прийти на концерт, меня пугает эта толпа, я должна уйти отсюда – и вместе с тем точно взрыв радости: я живу, я должна жить, ни о чем другом не желаю думать. Как это просто – опуститься в мягкое кресло и ждать прелюдии Шопена, знать, что ты среди людей. Соланж говорила, что я нужна ей. Я все еще поднимаюсь по лестнице. Концертный зал уже рядом, оттуда плывет теплый воздух, разговоры, смех, топот ног, возбужденный шум толпы, отдельные голоса, которые моментами заглушают оркестр, пробующий первые такты. Сердце стучит все быстрее, от напряжения сжимается горло. Не надо бояться, вспомни, ведь тогда ты умела справиться со страхом, подавить воображение, душила все надежды перед допросом, а после допроса у тебя была одна забота – как переправить записку.
Теперешнюю ситуацию нельзя сравнивать с той, думаю я, продолжая идти по лестнице. Горький смех поднимается во мне, ирония быстро успокаивает нервы: надо бы выйти на сцену. Поднять руки. Закричать. Встать у самого края, сказать им, что нельзя терять времени. Почему мы не кричим? Почему все стараются быть воспитанными? Почему я молчу? Неужели самых смелых поубивали, а их место заняли теперь тихие, покорные посредственности, трусы, глупцы, из которых ни один не осмелится поднять руку и закричать?
– Ну наконец! – Дирижер склонился в низком, пожалуй, слишком низком поклоне. – Мадемуазель Соланж уже спрашивала о вас.
Освещенная сзади голова этого старого человека, белая, точно облако на ясном небе, источает сияние, большие руки тепло пожимают мою ладонь, а глаза в сеточке густых морщин следят за моей реакцией на эту сердечность. Я знаю, что этот немец – эмигрант. Элегантный, слегка поношенный смокинг, архаичная вежливость смешат меня и одновременно вызывают сочувствие.
– Мадемуазель Прэ просила, чтобы я проводил вас к ней, как только вы придете.
– Сегодня много публики, – говорю я, чтобы не молчать. – Здесь замечательный зал.
– Мое сердце будет сегодня вечером биться очень сильно. Я хотел бы, чтобы мадемуазель Прэ одержала тут победу. Артист – это своего рода современный пророк в пустыне, он должен знать, как ударить по скале, чтобы забил настоящий чистый родник.
Я с удивлением ловлю себя на том, что, отвечая ему, не контролирую себя.
– Она уже одержала свою победу. Причем при удивительных обстоятельствах. Я этого никогда не забуду.
В руках репортеров шуршит бумага. Завтра мы сможем прочесть в газетах очередные банальности. Профессор наклоняется ко мне.
– Она очень талантлива. Кроме того, с ней лучший союзник таланта – молодость. Я уверен, что на сегодняшнем концерте она проявит себя в полную силу. Соланж Прэ – явление редкое, исключительное. Артисты такого уровня рождаются раз в столетие. На последней репетиции мне показалось, что она гениальна.
Столько похвал и восторгов со стороны немецкого маэстро! Невероятно! Его слова способны выбить из равновесия.
– Было бы лучше, чтобы Соланж не слышала этого, – говорю я сурово. – Мы скажем ей после концерта, если все пройдет хорошо.
– Можете не сомневаться, – заверяет старый дирижер.
Он ощутил мою холодность, и я довольна, что сумела его смутить.
Его плотным кольцом обступают журналисты, музыканты, представители радио и прессы. Они быстро записывают, потом один придвигается со своим блокнотом и карандашом ко мне и шепотом спрашивает:
– Мне бы, если вы будете так любезны, очень хотелось узнать… Когда мадам Соланж играла безупречно? Что это за ее победа, о которой вы упомянули…
Я в полной растерянности. Где найти слова, которыми чужому человеку можно было бы рассказать о том, что было тогда? Зачем упоминать об этом? Он, видимо, слышал мой разговор с дирижером.
– А может быть, мадам Прэ согласится дать интервью? У меня уже готов первый вопрос! – радостно восклицает репортер. – Надо выяснить, выступала ли она прежде в Нюрнберге? Скорей всего, нет. Почему?
Надо поскорей улыбнуться, чтобы скрыть мысли, которые всколыхнули его слова во мне.
– Все очень просто. Не было подходящего случая.
Старый дирижер выбил свою трубку о ладонь.
– Да… Существовали некоторые сложности в сообщении между европейскими странами, – наконец сказал он, вздохнув. На губах его мелькнула ироническая усмешка.
Я громко и неестественно рассмеялась.
– Ну уж нет! Транспорт тогда работал куда лучше, чем нынче. Просто на удивление.
Дирижер надолго замолчал. Дым из трубки, которую он громко посасывал, окутал его лицо. Репортер пытался заразить окружающих своим возбуждением, но это ему не удавалось, во всяком случае, по отношению ко мне.
Появилась Соланж. Мальчишеский силуэт, короткая стрижка. Защелкали фотоаппараты, круг стал еще плотней. Молодой репортер с блокнотом в худых и нервных пальцах пытается протиснуться ближе к пианистке, потом выпаливает на одном дыхании:
– Я представитель крупного телеграфного агентства, у меня единственный вопрос – какой вы национальности?
– Европейка, родившаяся в Брюсселе, – не колеблясь, отвечает Соланж и тут же ускользает, здоровается с кем-то у входа в зал, радостно смеется.
Странное впечатление: будто вместе с появлением Соланж веселая бабочка влетела сюда и кружится под потолком.
– Еще два вопроса! – снова кричит репортер и без дополнительных предисловий пытается получить интервью. – Ответьте, где вы дали свой первый концерт? И в связи с этим… это будет сенсацией… я слышал о каком-то удивительном случае в вашей карьере?
Дирижер вскинул руки, пресекая расспросы бесцеремонного журналиста.
– Никаких интервью перед концертом. Абсолютно никаких! Я категорически запрещаю.
До чего он рассудителен и заботлив! – думаю я, прислушиваясь к его словам. А после концерта пусть хоть потолок обрушится. Тогда уже ничто не помешает Соланж, а сейчас тишина и покой.
Репортер отступил на шаг, воцарилась тишина. Дирижер меняет тему. Он указывает на стены, увешанные портретами. С них смотрят потемневшие от времени лица артистов былых времен.
– Вы выступаете в Нюрнберге, где играл Иоганн Себастьян и Вольфганг Амадей.
– О! – вежливо отзывается Соланж и, придерживая меня за локоть, направляется к старым картинам. Мы рассматриваем их по очереди, старательно и долго.
Я думаю о разочаровании, которое испытал бы этот старый человек, скажи я вслух то, о чем думаю: я сбегу отсюда, если не вступит в меня свет, нужный мне теперь больше всего, если не прекратится диссонанс, терзающий мой слух, какой-то на редкость неприятный, усиливающийся скрежет.
– Вы не хотели бы отдохнуть перед выходом? Быть может, вы захотите послушать оркестр? Мы оставили для вас место в зале, – спрашивает дирижер, стоя перед улыбающейся Соланж почти что навытяжку.
– Я с удовольствием послушаю… но не из зала, – отвечает она.
– У нас за кулисами стоят кресла, оттуда можно видеть и слышать весь концерт.
– А я пойду в партер, – решаюсь я. – Мне нужна дистанция.
Дирижер подходит ближе к Соланж, он растроган, собирается чем-то поделиться с ней:
– Когда-то, много лет назад, здесь бывала со мной моя невеста… Как давно это было!.. Она всегда садилась за кулисами… Я дирижировал и поглядывал на нее чаще, чем в раскрытые ноты, и в этом таился секрет моих юношеских успехов, – сказал он, обращаясь, возможно, к самому себе.
Я села возле сцены и на время забыла, зачем меня вызвали в Нюрнберг. Международный трибунал перестал существовать. Обстановка помогла мне справиться с нервами, меня окружала атмосфера культуры и покоя, свет подчеркивал мягкость тканей, драпирующих сцену. Приятно выглядели свежие цветы на рампе. Я могла не думать обо всем том, что оставалось за пределами этого здания. Через минуту-другую оркестр заиграет Моцарта, и, слушая его, я смогу примириться с сегодняшней действительностью, смогу заглушить нарастающую боль. Я предпочла бы не видеть слушателей, я сжала пальцами виски, закрыла глаза. Однако я чувствовала чье-то дыхание, тепло постепенно наполняющегося зала, входили и входили какие-то чужие люди. Что было бы, если б хоть один из них оказался знакомым? Возникающие воспоминания тотчас бледнели, тень ровесника из дней оккупации расплывалась в уходящем времени, напряженном и жестоком, удалялась все дальше и дальше, я тщетно пыталась ее задержать.
Разверзлась пропасть между прошлым и настоящим. Из этой пропасти возвращаются в одиночестве, конец войны застает в чужих местах, на чужой земле, безуспешно взывая к тем, кто ушел навсегда.
Оркестр все еще настраивает инструменты, эти звуки наполняют мое сердце беспокойством.
Аплодисменты. Вдоль рампы идет дирижер. Красивый, с добрым лицом, он держится прямо, хотя видно, как устал. Низко кланяется, раздается взрыв аплодисментов. Дирижер повернулся спиной к залу, взял свою палочку с пюпитра. Он задержался так на несколько секунд, необходимых, чтобы слушатели сосредоточились, чтобы утих шелест, и резким движением опустил руки. Оркестр заиграл. Казалось, этот старый человек вдохнул в него свою душу. Я давно не слышала такого вдохновенного исполнения Моцарта. Звучала знакомая тема, возникла давно забытая зальцбургская осень, мягкая, теплая, пахнувшая опавшей листвой.
Катарсис. Очищение музыкой. Весь осадок, вросший в нервную ткань, должен раствориться, улетучиться. Изболевшиеся места снова наполнятся радостью и вдохновением. Жаль, что нельзя сохранить это состояние до конца моего пребывания в Нюрнберге, остаться за этим толстенным матовым стеклом, которое отделяет меня от жизни. Но что-то нацарапано на этом стекле грязным пальцем: Gott mit uns[17]17
С нами бог (нем.).
[Закрыть]… и свастика… Права Соланж: надо бежать отсюда!
Я выхожу из задумчивости. Мое бездумное существование завтра кончится, я должна буду сжать пальцы в кулак и ударить. А пока можно спокойно следить за руками дирижера, парящими, нервными, вытянутыми в напряжении.
За последние пятьдесят, сто, а может, и все сто пятьдесят лет вроде бы ничего и не произошло в Европе; звуки моцартовского «Реквиема» по-прежнему погружают в задумчивость, трогают до слез. Нет, не может быть, что-то из пережитого осело в нашем сознании, вот вошли в этот зал человеческие тени с Елисейских полей, из Брюсселя, Варшавы, Плашова или Терезина. Они присутствуют сегодня здесь. Стоит прикрыть глаза, и перед тобой появляются скрюченные предсмертной судорогой руки, отчаяние громко звучит голосами всех инструментов, а потом стихает, переходя в стенания жертв и вскрики палачей, которые их убивают.
В зале так тихо, будто здесь и вправду собрались умершие. Боюсь, сюда пришли не только те, кто ведет Трибунал и кто на него приехал, тут определенно немало немцев. Они слушают не дыша, упиваются музыкой, в такой аудитории музыка обретает крылья. Я ненавижу их за это! Я ненавидела их музыкальность и сентиментальность. Их звериную жестокость. Поразительно, как соединялась в них любовь к искусству с тем, что они творили, как научились они отключаться от изуверств, творимых ими четверть часа тому назад, и в следующие минуты уже спокойно наслаждаться музыкой. Зачем я пришла сюда? Это была ошибка. Надо уходить.
Из боковой ложи, где сижу, я хорошо вижу лица, наслаждающиеся музыкой, и это возмущает. Мне начинает казаться, что каждый здесь присутствующий мог и тогда точно так же, затаив дыхание, слушать музыку… Как сбросить с себя этот кошмар?
Я более внимательно вглядываюсь в ближайшие ряды. Ну конечно, в зале не одни немцы, сюда съехались люди со всей Европы, со всего мира. Среди поношенных костюмов то и дело мелькает офицерский мундир, отутюженный в американском стиле: две вертикальные складки прочерчены утюгом от пяток и до ключиц. Теперь, когда война осталась позади, многие гражданские надели военную форму, демонстрируя мужество, которое они не успели проявить раньше. На территории Германии им сейчас удобно расхаживать в военной форме – как-никак победители.
А случается, что мундир куда лучше, чем обычное платье, подчеркивает стройность девичьей фигуры; эта малышка из второго ряда совершенно очаровательна в американском мундире. У нее ухоженная кожа, пушистые волосы, маникюр, эмаль цвета свежей крови на нежных пальчиках, – все это создает контраст между нею и женщинами из оккупированных стран; она зевает, вертится на скрипящем кресле, вряд ли она большой любитель музыки. Пожалуй, кот, свернувшийся клубком на ее коленях, больше напоминает меломана – не дыша слушает очередную фугу Баха, очень талантливо исполняемую оркестром. Совсем еще юный американский полковник, сидящий в том же ряду через три кресла от нее, подмигивает своей подчиненной, указывая на кота. Его это забавляет. Девушка, нагнувшись над коленями соседей, ловко подхватывает мирно дремавшего зверька и кидает его полковнику. Тот ловит. Этим молодым американцам нет дела до оркестра. Молчаливый обмен взглядами и улыбками занимает их куда больше, чем музыка.
Кот довольно быстро пришел в себя, поудобнее расположился на коленях мужчины, но тотчас был возвращен своей хозяйке, которая благоразумно сунула его в кожаную планшетку.
Кто-то сдавленно фыркнул, вовсю гремел оркестр, своды зрительного зала, казалось, вздрагивали от мощных аккордов; я заметила своего соседа по самолету, Себастьяна Вежбицу, который с интересом следил за флиртующей американской парочкой. Увидев меня, он поклонился и, улыбнувшись, вскинул брови, как сегодня, когда наш самолет шел на посадку.
Взрыв аплодисментов. Дирижер и оркестр раскланиваются. Окончилось первое отделение. Американская girl[18]18
Девушка (англ.).
[Закрыть]в мундире принялась счищать шерсть с брюк полковника, а тот, втиснувшись между креслами, полностью загородил проход.
– Вот потеха! Пусть меня кондрашка хватит! – Могучий баритон Себастьяна перекрывает шум голосов. – Этот безусый герой должен получить награду – как-никак контужен на немецкой земле! Одним махом его поразили в сердце и чуть ниже.
Горячие ладони Себастьяна сжали мои руки и на мгновение замерли.
– Как хорошо, что вы тут. С утра я жалел… Мне срочно надо было заняться своей дальнейшей поездкой, решение принято лишь час назад. Я задерживаюсь на несколько дней в Нюрнберге. И, честно говоря, этому рад.
Мы стояли между рядами, не торопясь выходить, к тому же полковник и американка с котом все еще загораживали дорогу.
– По-моему, полковник боится щекотки, а быть может, весьма чувствен, – гудел могучий голос Себастьяна.
Довольный собственной шуткой, он расхохотался, и я учуяла, что мой земляк перед концертом здорово подкрепился. Поняв, что пойман с поличным, он подкрутил ус и с мальчишеским самодовольством заявил:
– Небольшой аперитив против дурных сновидений. Прекрасно поднимает настроение.
Мы двигались вместе с толпой, вокруг звучала французская, итальянская, английская речь. Себастьян порой отставал, пропуская кого-то, но тут же догонял меня, краешком глаза все время следя, чтоб я не потерялась. Мне это приятно. Значит, я уже не одна в чужой толпе. Могу смеяться, говорить. В дверях мы задержались, с удовольствием наблюдая за полковником и красавицей блондинкой с розовым платочком в руке.
– Наша встреча – полная неожиданность! – воскликнул Себастьян, поглаживая усы. – Мне тут надо найти кое-кого из друзей, проследить за делами.
– А как же персиковые сады? – спросила я.
– К чему спешить! Я поеду туда. Всему свое время. И еще вас уговорю. – От него исходила сила, он был полон юмора, глаза его ловили мою улыбку. Мне хотелось спросить, кому из героев Генрика Сенкевича он подражает, но я решила не портить ему настроения. Вид у него был довольно странный: густые буйные волосы ниспадали на воротник мундира без знаков различия, на рукавах два красных полукруга с четкой надписью «Poland», широкая орденская планка. Видимо, это и привлекало к нему внимание. Среди рослых, крепких американцев, среди стройных и подтянутых англичан, среди белых, черных, среди метисов, цыган, аристократов, среди тощих и разжиревших Себастьян сразу выделялся: то ли осанкой, то ли внутренней силой. Люди уступали ему дорогу, а он, улыбающийся, спокойный, шествовал, точно король, удостоивший своим посещением сегодняшний концерт, время от времени замедляя шаг, чтобы пропустить меня вперед.
– Надо же, какая неожиданность! – шептал он, поглаживая усы. – То мы с вами встречаемся над облаками, то в концерте. Везет же вояке.
– Здесь, по-моему, собрались все наши попутчики из самолета.
– Бог с ними. У меня запросы куда скромнее, вполне хватает встречи с вами.
Началось второе отделение. Я прикрыла глаза руками, чтобы ничто не мешало мне слушать. Мои мысли, словно плот, сорванный с места весенним паводком, помчались по течению к местам, к пейзажам, о существовании которых я и не подозревала. Себастьян все время наблюдал за мной, я ощущала это, каждый раз натыкаясь на его пристальный взгляд. Меня это слегка раздражало, но вместе с тем было приятно, я не испытывала одиночества.
И снова гром аплодисментов. Серебристая голова дирижера опустилась в поклоне. Какой тревожный момент. Кончилась оркестровая часть. Теперь все услышат Шопена, Листа, Моцарта – в чьем исполнении? Соланж? Или другой пианистки? Что это за девушка подходит к роялю? Неужто в самом деле объявленная в программе Соланж Прэ? Значит, она жива? Ей разрешили жить? Я открываю глаза и оглядываюсь. Нет, то время ушло. Я не в том, странном оркестре, одетом в новые полосатые лагерные робы, который репетирует в девятом бараке. Оркестр, в котором и солистки, и все оркестранты держали инструменты озябшими руками, а в их расширенных глазах отражался ужас обреченных, стоящих на краю пропасти. Музыка навсегда стала для меня мостом к прошлому, и этот мост памяти трудно будет разрушить.
Я никогда больше не возьму в руки скрипку, думаю я, уныло глядя на сцену, на раскрытый рояль. Соланж восхищает меня. Она идет быстро, бесстрашно улыбаясь, с высоко поднятой головой.
Поразительно, меня согрел энтузиазм зала. Еще минуту назад я боялась за Соланж, была уверена, что она не сможет пройти этих нескольких шагов до рояля на одеревеневших ногах, что ее онемевшие пальцы не смогут правильно сыграть простейшей гаммы. А теперь вдруг мое сердце переполнено надеждой, я жду успеха, победы, именно здесь, в Нюрнберге. Я хочу, чтобы она заставила их восхищаться, кричать «браво», вызывать на бис. А потом она расскажет, ведь после концертов всегда берут интервью, репортеров всегда интересуют творческие биографии, она расскажет, при каких обстоятельствах совершенствовала свою технику. Сегодня перед ней распахнул двери самый знаменитый концертный зал Нюрнберга. А тогда?
Дирижер пошел ей навстречу. Соланж поклонилась в ответ на легкий шум приветственных аплодисментов. Села к роялю.
Зал замер. Воцарилась тишина. Огромная, наполненная легким шорохом, хлопками раковина вновь опустилась на дно покоя. Кажется, зрители затаили дыхание в ожидании первого аккорда.
В тот момент, когда Соланж будет исполнять «Прелюдию» Шопена, я начну свой разговор с Томашем, ему адресую слова, как если б вдруг оказалось, что он жив. Мне надо думать о нем, только тогда музыка поможет восстановить в памяти его черты, развеваемые ветром волосы, глаза, которые перестали видеть, всего его, быть может давно ставшего соком земли.
Соланж склонилась над клавиатурой. Ее успех станет моей победой, «бисы» заполнят этот вечер до конца.
Сама я, в самом деле, ничего не умею, я не поднялась даже на первую ступень жизни; сухое, рассыпчатое, твердое, шуршащее зерно не превратилось в зеленые, буйные, сочные всходы, не вытянулось в изящные живые стебли, не обрело аромата цветения, не налилось тяжестью созревших колосьев. Чего мне не хватает? Воли? Таланта? Или смелости, которая необходима, чтобы заново взяться за дело? Я не знаю! Я не могу ответить на эти вопросы. Просто в самые трудные минуты жизни музыка стала для меня потребностью, такой, как вода, мыло, хлеб или простой карандаш; необходимым инструментом для выражения чувств; она играла роль спасательного круга, соломинки, за которую я судорожно хваталась, чтоб не рухнуть под пролетевшими над моей головой событиями. Только сейчас я понимаю, что мои тревоги не имеют ничего общего со страхом – скорее, воспоминание о том дне лишает меня покоя и душевного равновесия. Тот день, отразившись в музыкальном произведении, запечатлелся в моих нервах. И оставил свою печать, как ракушка, сотни тысяч лет тому назад вросшая в камень, подобранный когда-то мною на берегу Ионического моря. Известковая ракушка давно рассыпалась, исчезла, но форма ее отпечаталась навсегда в минерале.
Дирижер взмахнул палочкой, он походил то на прекрасного танцора, прикованного к месту, то на пальму, гнущуюся под резкими порывами морского ветра.
Оркестр ведет скорбную песнь Фридерика Шопена. Соланж еще не играет, но уже участвует в полете мелодии, впитывает ее ритм, тему, слушает, проникается пафосом, поэзией, напевностью. И вот!!! Первым же аккордом легко вступает в музыку, пальцы несутся, давая выход искрометному темпераменту, сдерживаемому техникой.
Она нашла свою тональность, пальцы едва касаются клавиш – это шум дождя на тихой улочке, это шелест листьев, с которых стекают капельки воды на подоконник, это звон стрекозиных крыльев над лугом, это четкий ритм, который отбивают ножонками деревенские ребятишки, спешащие по тропинке в школу в далекой Польше. Это жаркое солнце, день ожидаемой встречи с Томашем, – день, который никогда не наступит.
Поразительно, до чего гибкие и быстрые пальцы у Соланж, гораздо гибче, чем раньше. Чтобы играть Шопена, нужно верить в сказки, нужно уметь их рассказывать, а ведь время сказок прошло бесповоротно. Неужели боль одиночества становится для нее источником вдохновения, как тогда отчаяние?
Дирижер склонился к роялю, мне видно его лицо, одобрение, быть может, даже восхищение промелькнуло в его улыбке, глаза, полные мягкого света, дружески смотрят на Соланж. Тут нет дирижера, нет пианистки, оркестра – есть только Шопен, очарование тишины, напевность, запах сосен и запрятанная глубоко, на самом дне поэзии, человеческая сила.
Аплодисменты оглушили меня, зал взорвался, и я не сразу поняла, что уже можно перевести дыхание. Первая часть выступления закончилась. Соланж благодарит за аплодисменты, низко кланяется. Дирижер взял пианистку за руку, ведет к рампе. Они улыбаются друг другу, словно во время свадебного танца. Овации не смолкают, к ним присоединяется рокот голосов, молодежь, стоявшая вдоль стен, скандирует. Я удивленно смотрю на Вежбицу, напрасно пытаясь понять, что кричат эти люди.
Дирижер доволен; лихо тряхнув седой шевелюрой, он рукой показывает на Соланж. Аплодисменты снова усилились. Себастьян наклонился ко мне. Я чувствую горячее дыхание.
– Слышите? «Noch einmal»[19]19
Еще раз (нем.).
[Закрыть]. Они просят повторить еще раз.
– Значит, и немцы пришли на концерт?
У Себастьяна дрогнули брови.
– Только хорошие немцы. Исключительно хорошие немцы.
Я поднесла палец к губам.
– Скажите, они вызывают на бис только Шопена?
Себастьян не понял меня, потом вдруг до него дошло, и он расхохотался. Аплодисменты заглушали наш разговор, мы едва слышали друг друга.
– Пока да. Но за будущее поручиться не могу.
Я ответила:
– После такой музыки я готова согласиться с каждым «noch einmal».
Соланж заняла свое место. Положила руки на клавиши. С минуту молча ждала, закрыв глаза. Наконец-то зал успокоился.
– Прелюдии Шопена, – говорю я совсем тихо. Но мою просьбу уже подхватывает Себастьян Вежбица, чей бас перекрывает другие голоса.
– Прелюдии! Прелюдии Шопена! – повторяют вслед за Вежбицей соседние ряды.
Соланж взглянула туда, откуда раздавались голоса, кивком головы подтвердила: она исполнит то, о чем просит зал.
С неописуемой легкостью пальцы коснулись клавиш. Слушатели замолкли, захваченные напряженной мелодией. Оркестр ждал. Я закрыла глаза. Тот далекий день всплыл в памяти так отчетливо, что я на мгновение даже увидела Томаша, стоявшего в группе мужчин. Черты его я не могла различить, лишь туманный контур неподвижной фигуры, это болью отдалось в сердце – и внезапная уверенность: его нет, нет среди живых. Что это значит – его нет?
Скандирование, приглушенное, едва различимое «noch einmal» раздается теперь после каждой вещи, исполненной Соланж. Она черпает в этом силу. Горячая волна счастья заливает меня, моментами я тяжело вздыхаю и тогда чувствую усталость от этого длинного дня, но это всего лишь доли секунды, тут же ко мне возвращается спокойствие, я понимаю, что у Соланж громадный успех, я знаю, что она должна остановиться на этом аккорде победы; она и сама сознает это и легким движением головы дает понять, что сегодня больше играть не будет.
Все громче аплодисменты, они длятся и длятся, в них не слышно теперь криков «бис», зал сотрясает настоящая овация, и совсем еще молодая бельгийка принимает это с вежливым достоинством, она благодарит поклоном и улыбкой, до конца сохраняя спокойствие. Вот она подходит к самому краю рампы, подчиняясь непонятному мне порыву – видно, эти люди в зале создали такую атмосферу, что она может играть легко и свободно, будто на пустынном морском берегу или в нежилом, заброшенном доме. Их восторженный прием окрылил ее. Думаю, что только раз в жизни она играла так самозабвенно. Как хорошо я помню тот день – но там была борьба за то, чтобы выжить. Я поднимаю руку, хочу дать ей знак. Я воспринимаю ее в двух плоскостях: сегодняшней и той, очерченной каплями нереальных, туманных огней.
Аплодисменты напоминают бурю, сухой дождь осенних листьев, толпа тогда шла по аллее, посыпанной шлаком, шаги отдавались ритмичным хрустом. Сгибающиеся от ветра тополя пахли горечью, их листья громко шелестели в тишине того страшного октябрьского вечера. Шелест и ритм шагов и глубокая темень, насыщенная туманом, а где-то впереди расплывающиеся во мраке огни. Там, где нас выгрузили, остались опустевшие товарные вагоны; резко свистнул паровоз. Как горько, но эта спонтанная овация отбросила меня в те времена, в тот туманный вечер! Тогда, в ту первую ночь, мы познакомились с Соланж, и тогда началась наша дружба.
Дыхание зрителей совсем рядом, оно согревает, завораживает. Они подарили Соланж свое восхищение и признание. Они благодарят ее и не торопятся уходить. Они ждут. Интересно, что будет, если им рассказать? Сумеют ли они понять? Нервы мои уже успокаиваются, но напряжение не проходит.
– Что с вами? – спрашивает Себастьян.
– Ничего, ничего. Я ужасно рада. Какой триумф!
«Дамы и господа, – мысли складываются в конкретные фразы, и я отнюдь не уверена, что вот-вот не заговорю вслух. – Вы проявили незаурядный музыкальный вкус, вы постигли мысли композитора, вы не дыша, вдохновенно внимали мелодии. Такое понимание музыки – свидетельство высокой культуры. Вы скандируете „бис! бис! бис!“. Как же понять ту глухоту, которая поразила многих из вас тогда? Как это возможно, как поверить, что вы не слышали криков оттуда? И криков здесь, в вашей стране, рядом с вашими домами?»
Соланж преподнесли цветы, едва распустившиеся розы. Она растрогана, и зал, видя это, приходит в неистовство. Люди вскакивают, о чем-то спрашивают, молодежь пробирается к самой сцене, просят автографы.
«Дамы и господа, – мысленно продолжаю я, с беспокойством следя за каждым движением Соланж, – может, ваш восторг вызван тем радостным фактом, что молодая красивая женщина спасена? Ведь таких, как она, красивых и талантливых, отправляли в газовые камеры, отправляли на смерть. Делали это люди, родившиеся в вашей стране. Сейчас они здесь, арестованы, их судят. Кое-кому удалось скрыться, исчезнуть, и они будут выжидать, когда смогут выйти на свет божий. Как вы оцениваете это с точки зрения морали? Ваши хлопающие ладони, ваши губы, кричащие „бис“, – именно в них содержится ваша нравственная оценка? Там никто не кричал „бис“, и тем не менее мы целыми днями распевали бессмысленные слова, бесконечно повторяя припев: „Und die Musik spielt dazu“»[20]20
При этом музыка играет (нем.).
[Закрыть]. Дирижер обеими руками сжал руки Соланж, он что-то тепло говорит ей, а зал, обрадовавшись этой сердечности, хлопает еще громче, порывы бури все чаще, они ударяют, словно ветер в брезент палатки, под которым прячутся во время грозы.








