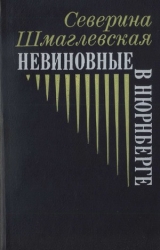
Текст книги "Невиновные в Нюрнберге"
Автор книги: Северина Шмаглевская
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Мы молчали. Трагедия молодчиков, служивших в карательных батальонах… Я слышала, что в вермахте бывали случаи самоубийства – наша подпольная служба информации старалась сообщать о каждом таком происшествии. Но я ничего не сказала, и Ганс Липман продолжал воодушевленно рассуждать вслух.
В ярко освещенном холле я попрощалась с репортером, оборвав его на полуслове. Вместе с молчавшей Соланж мы шли к лестнице, а сзади все еще слышался возбужденный голос.
– О, тут, как прежде, комфортабельно. Столько света, столько народа. Не правда ли? – Он никак не мог остановиться.
– Jawohl! – сразу откликнулся обрадованный портье. – У нас новые люстры, новые дорожки, новые гости со всего света. Мы быстро приходим в норму. Все сверкает. Многолюдно. Каждый день новый оркестр. Как в старые добрые времена.
Мне показалось, что кто-то глухо вздохнул; может, это только доска застонала под ногой – в этом месте кончилась красная дорожка, и мы шли через разбомбленное крыло гостиницы, полное камней, кирпичей, цемента.
Я ещё раз оглянулась на ярко освещенный холл: портье и его собеседник мирно беседовали, оживленно жестикулируя. Вся гостиница была погружена в ночную тишину, громкие голоса мужчин, усиливаемые резонансом, гудели по лестницам и коридорам.
– А Герман Геринг во время торжественных партийных съездов всегда останавливался в «Гранд-отеле». И всегда в одних и тех же его любимых апартаментах. Номер двадцать три.
– Двадцать три! – задыхался от восторга репортер, вытаскивая блокнот.
– Какие времена были! – вздыхал, качая головой, портье. – А сейчас в этом номере Роберт Кемпнер, свежеиспеченный американец. Он эмигрировал из Германии во время войны, боясь попасть в гетто и газовую камеру. А теперь? Один из обвинителей на процессе! Член американской делегации. Да…
– Да…
Глухо постанывали доски, свистел ветер в строительных лесах.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Соланж прислонилась к стене, прикрыв глаза. Она нажала кнопку и вслушивалась в нарастающий шум лифта.
– До чего же я устала. В ванну – и спать. Хочется прямо не раздеваясь броситься в постель. Я просто умираю от жажды.
– Давай закажем в номер ананасовый сок, – предлагаю я.
В это же мгновение за моими плечами раздается смех. Знакомый голос и уже знакомая мне манера неожиданно оказываться рядом.
– Добрый вечер! Кого я вижу?! Я сочту за честь угостить вас самым восхитительным напитком. И кроме того, – тут он обратился непосредственно ко мне, – у меня есть новости. Представьте себе, у немца, которого рядовой Нерыхло встретил на вокзале, действительно что-то не в порядке с пальцами.
Соланж протянула руку к кнопке, хотя дверцы лифта еще были открыты. Себастьян подкрутил усы, точно солист из оперы Монюшко «Слово чести», где актеры на протяжении всего представления только этим и занимаются, и прошептал:
– Прошу вас. Задержитесь на пять минут. Время совсем детское. Стоило пережить эту войну, чтобы собственными глазами полюбоваться на веселящийся Нюрнберг.
– О чем вы? – слегка улыбнувшись, спрашивает заинтригованная Соланж.
Я вижу, что галантные манеры Себастьяна забавляют ее и, может быть, даже доставляют ей удовольствие. Она ждала его объяснений.
– Мадам! Я восхищен вашей игрой. Мои ладони распухли от аплодисментов. Идемте. Вы не пожалеете. Уверяю вас – стоит посмотреть. Убежден, что вы не пожалеете.
В дверях кафе он снова галантно согнулся, пропустил нас вперед и последовал за нами.
– Ну вот! Теперь мы сможем понаблюдать, как просыпается «Гранд-отель», отдохнувший после ночного бала. Время действительно еще совсем детское. Расположимся поудобней и посмотрим.
Народу было немного. Десятка полтора возбужденных пар сидели за столиками возле освещенного круга на паркете. Бледноликий молодой человек позевывал за роялем. Он медленно расправил плечи, поднял голову, тщательно вытер пальцы мятым платком. Обнявшиеся пары вышли на середину круга в ожидании первых аккордов.
Пианист вскинул руки, вдохновенно замер, наконец ударил по клавишам. Он играл прелюдию Шопена. Танцоры мечтательно-сонно задвигались в такт музыке, а может, вовсе не слушая ее. Себастьян с презрением смотрел на это. Мне казалось, что он вот-вот зарычит, оскалив в злой усмешке сверкающие зубы.
– Вот вам! Я же говорил, что сюда стоит заглянуть.
Соланж сжала виски руками.
– Это не сон? Я, наверное, выпила лишнего после концерта?
Себастьян наклонился к ней, ласково прикоснулся к руке.
– Нам всем снится сон. Мы надеялись, что после войны начнется жизнь, а вместо этого начался странный сон. Эти призраки на паркете понятия не имеют, что такое Шопен, что такое война. Они бы танцевали и под «Реквием» Моцарта. Уверяю вас!
Передо мной, возникая из тени, выплывая из другого зала, ритмично покачиваясь, проплывали убаюканные музыкой пары.
– Они танцуют под музыку Шопена? – с недоверием переспрашивала Соланж, вслушиваясь в шум скользящих ног, заглушающих мелодию.
– Эту прелюдию играют на похоронах, – сказала я.
На освещенное место выскочил вдруг парень в американской военной форме. Длинный, худой, с непомерно тяжелой челюстью, чем-то похожий на рогатого тура, которого на рождество ряженые носят на палке, подняв высоко над головой. Хлопнув дважды в ладони, он заскользил в угол зала, где за столиком сидели три не занятых в танце девушки. И, не доходя до них, сунув палец в рот, пронзительно свистнул. Девицы, не скрывая своего восхищения, вопросительно смотрели на него. Парень ткнул пальцем в свою избранницу и жестом показал: пусть поторопится, если хочет с ним потанцевать. Маленькая брюнетка радостно выпорхнула из угла и со всех ног полетела к солдату, бросилась в его объятия. Под «Траурный марш» Шопена они, покачиваясь, двигались к заколдованному освещенному пятачку, где буйствовали пляшущие пары.
– Стоило пережить войну, чтобы поглядеть на это, – повторил Себастьян. – Этот доблестный американский вояка – поляк. Джо Войтасик.
– Американский парень на отдыхе в Европе, – сказала Соланж. – А может быть, он герой, которому мы обязаны жизнью.
– По-польски он не может правильно произнести и пяти слов. Я проверял, – добавил Себастьян. – Зато его танец – воплощение патриотизма. Смотрите, он танцует «куявяк» под полонез Шопена. А почему бы и нет? Теперь на свете все можно.
Пианист печально опустил голову, оборвав игру на половине музыкальной фразы; публика зааплодировала, раздались возгласы, кто-то свистнул. Виртуоз покорно положил руки на клавиши, и снова зазвучал, спотыкаясь, путаясь, замирая, напряженный полонез Шопена.
Посмотрев на часы, я убежденно сказала:
– «Гранд-отель» наконец оправился после вчерашнего бала. Мне говорили, что это был исключительный день, гуляли до рассвета служащие Трибунала.
Себастьян Вежбица рассмеялся, откинув голову назад. Но потом на его лице появилась саркастическая улыбка.
– Да, в этом смысле вы можете быть абсолютно спокойны, только вчера и только в порядке исключения здесь происходил этот гон и токованье. А в будни все думают лишь о сожженной Варшаве, о годах гитлеровской оккупации, о детях, погибших в газовых камерах, о преступных медицинских экспериментах, которые немецкие врачи проделывали на живых, здоровых, молодых людях. Веселятся работники Трибунала только по выходным!
Меня больно резанула горечь, звучащая в его словах. Он медленно потягивал коктейль, не переставая усмехаться, а потом, перекрывая шум, громко произнес:
– Именно так должна быть организована работа каждого трибунала, который судит военных преступников. Нюрнберг станет неподражаемым примером для будущего. Изучению документов о геноциде должен сопутствовать и дополнять его именно такой рациональный отдых.
Я снова промолчала. Соланж была напряжена, словно чего-то ждала. Себастьян отодвинулся от столика вместе со стулом, пригладил ладонью усы. На этот раз он обратился ко мне:
– Вот так! Учись, детка! А завтра встань отважно на трибуну для свидетелей и говори! Забудь о дансинге «Гранд-отеля», разбуди гаснущее внимание судей, обвинителей, защитников и подсудимых тоже! Убеди журналистов всего мира, что тут рассматриваются дела, которые будут важны и для их внуков! Тебя позвали, чтобы ты рассказала правду, одну только правду и ничего, кроме правды; а это так просто – ты видела, так расскажи же. Расскажи так, чтобы твои слова дошли и до сонного после танцев Джо Войтасика, который с трудом понимает по-польски, и до всех остальных, здоровых и сильных, которые прожили войну далеко отсюда и теперь изумляются, не верят нам, не смогут поверить и тебе, что, впрочем, естественно, ты сама понимаешь, как трудно во все это поверить. Нормальный человек имеет полное право сомневаться в том, что так было. Схвати воздух руками, сожми ладони, скажи им, что там воздух всегда пах паленым.
Он на мгновение остановился, стукнул кулаком по столу.
– Ты должна убедить собравшихся в зале нюрнбергского суда, должна рассказать им, что твоя память зафиксировала подлинный кусок жизни, не бойся, им еще этот процесс надоел не так сильно, как можно ожидать. Учись, детка. Жизнь заслуживает того, чтобы ты смотрела на нее с интересом. Нюрнберг еще один Parteitag – партийный съезд Адольфа Гитлера. Будем надеяться, что на этот раз последний.
Говоря это, Себастьян Вежбица поднял голову и смотрел куда-то поверх меня. Кто-то подошел к нашему столику и встал за моей спиной. Соланж вздохнула:
– Боже мой! Снова? Ему для нас не жалко времени!
Едва заметно подвинувшись к Вежбице, она с улыбкой что-то зашептала ему. Капитан лукаво подмигнул. Было ясно, что такой нежной парочке не в состоянии помешать никакой репортер. Они отключились, их попросту не было.
Прямо над собой я услышала вопрос:
– Darf ich?[36]36
Разрешите? (нем.).
[Закрыть]
Тут же я ощутила сильный запах лавандовой эссенции – натуральная лаванда никогда не источает такого интенсивного запаха, лиловые кустики на солнце пахнут очень нежно.
Ганс Липман ждал, а я в это время уловила еще и запах коньяка – видно, оставшись один, он основательно подкрепился в буфете.
– Darf ich? – повторил он, придвигая стул и садясь возле меня.
Вместо того чтобы удобно откинуться на спинку, он наклонился вперед, словно вьюнок вытянув шею в мою сторону. Выпитый коньяк определенно возбудил его, он жаждал поделиться своими мыслями. Музыка мешала – ему хотелось, чтобы я слышала каждое слово. Поэтому он говорил четко, скандируя и повторяя слова. Но музыка все заглушала, до меня доносились лишь обрывки повторяющихся как лейтмотив фраз:
– Чего, собственно, хотят эти юристы со всего мира? Международный трибунал?! Schrecklich![37]37
Ужасно! (нем.).
[Закрыть] Война ведь кончилась. Немцы потерпели поражение, какого не знала история. Что конкретного можно предложить в этой ситуации? Чего, например, хотите добиться вы, поляки?
Уставившись на меня, он ждал ответа. У него были красные просвечивающие уши, ровно, как по линеечке, подстриженные бакенбарды. Ответа он ждал напрасно.
– Zum Beispiel! Zum Beispiel![38]38
Например! Например! (нем.).
[Закрыть] – упрямо настаивал он. – Что бы вы, например, хотели сделать с немцами после этой войны? Вы имеете право, не спорю. Итак?
Тот же самый акцент. Та же самая назойливость. Итак?! Будешь говорить, или мы тебя заставим? От мора, глада, огня, войны, от кошмара времен оккупации упаси нас, господи. Я закрываю глаза, мне не хочется видеть этих розовых ушей, красных губ, которые так четко, с венским акцентом произносят каждое слово.
– Вы, может, хотите организовать концентрационные лагеря для всех немцев? Сколько, интересно, понадобилось бы лагерей?
Спрашивая, он вытянул вперед раскрытую ладонь, готовую ловить каждый ответ, каждый довод, но я не собираюсь отвечать, и он снова говорит сам:
– Из-за чего весь этот шум? Вы что, хотите усовершенствовать план Гитлера? Не забывайте, что der kleine Parteigenosse[39]39
Рядовой член партии (нем.).
[Закрыть] не несет ответственности за то, что произошло. Простой честный немец понятия не имел о том, что происходило за проволокой концлагерей. Он не знал правды. Народ держали в неведении. Нельзя теперь наказывать толпу порядочных, далеких от политики людей. Тем более что война была для немцев не менее жестокой, чем для всех остальных. Сколько солдат утонуло в сорок пятом, когда они тысячами бежали по замерзшей Висле от Красной Армии? Лед треснул, на дно пошли машины, люди.
Капитан Вежбица и Соланж не слушали его. Но я слушала. И задала ему всего один вопрос:
– А что, на Висле немцы участвовали в спортивном кроссе?
Не знаю, дошло ли до него. Лицо его налилось кровью, рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак. Я не могла оторвать взгляда от этого кулака.
– Na, und![40]40
Итак! (нем.).
[Закрыть] Как вы себе это представляете? Усовершенствовать план Гитлера? Всех немцев за проволоку? В концлагеря? Да? Да? Вот получил бы я материал для своего репортажа!
Я не желаю смотреть в эти глаза. Я избегаю его взгляда, чтобы он не смог угадать мои мысли. Зачем я приехала сюда из Варшавы? Давать свидетельские показания о действиях военных преступников? Или же на допрос в гестапо? Кто такой этот навязчивый репортер, который хочет заставить меня признаться в том, к чему никогда не стремились ни я, ни польские юристы.
Я отодвигаюсь, собираясь встать. Репортер, повысив голос, останавливает меня.
– Самое время перестать вспоминать об этом. Прошло столько месяцев. Война кончилась. Пора забыть. Все это надо выбросить из головы. Nicht wahr?[41]41
Не правда ли. (нем.).
[Закрыть]
Какая настойчивость в его глазах. Я не хочу, чтобы он отгадал правду, которую я скрываю. Я боюсь немецкой ночи, ведь тут везде полно развалин бывших лагерей, скелетов сторожевых вышек. Я боюсь немецких планов, планы – это всегда предначертанные пути. Прикрываю глаза и вспоминаю, как они планировали: вагоны, прямо въезжающие в огромные газовые камеры без всякой суеты и нервотрепки на перроне. Вместо перрона – нечто вроде депо или туннеля. С другой стороны туннеля только дым. И пепел.
Вы хотите, чтобы я поскорее забыла об этом, герр Липман? Война кончилась, прошло столько времени. Свидетеля, прибывшего из Польши, лучше всего сразу сбить вопросами, потребовать точных формулировок, определения вины, наказания, способов мести.
– Простите мне мою назойливость, – говорит он примирительно. – Но я многое бы отдал за то, чтобы узнать, как вы, именно вы, представляете себе решение немецкого вопроса. Наши читатели очень интересуются этими проблемами.
Я молчу и злюсь на Соланж и Себастьяна, которые развлекаются, рассказывая друг другу анекдоты. Им и дела нет до этого наглеца с авторучкой в верхнем кармане.
– У вас наверняка было больше возможностей, чем у меня, ознакомиться с различными вариантами преобразований в этой стране после войны.
Он опешил и заморгал.
– Почему? То есть как? Я же не австриец. Я просто представитель Венского радио. А родился в Швеции, наполовину швед, и у меня вовсе не было случая ознакомиться с планами…
Меня рассмешило его замешательство.
– Журналисты много знали. Когда, например, появился американский план преобразования Германии, подписанный Рузвельтом и Черчиллем в 1944 году, у меня не было никаких, ну абсолютно никаких шансов узнать, какие проекты, касающиеся Берлина, утвердили эти государственные деятели. Ваши шансы были, несомненно, больше моих.
Мой собеседник таращит глаза и никак не может прийти в себя.
– Почему? Что вы имеете в виду? – с глупым видом повторяет он.
– Так или иначе вы слышали о существовании нескольких вариантов демилитаризации Германии после войны, правда? И вы наверняка изучили их внимательнее и раньше меня. Вы все еще не понимаете почему? Откуда я могу знать, почему немцы запретили узникам концлагерей получать газеты, книги, информацию о столь важных решениях?
Он расслабился и громко расхохотался.
– Ach, so! Ach, so![42]42
Вот как! Вот как! (нем.).
[Закрыть] Я не понял, что именно вы имеете в виду. Пресса. Радио.
– Именно это. Я рыла канавы, в то время как мир искал способы раз и навсегда обуздать безумие фюрера.
– Я думал, вы принимаете меня за немца или австрийца. Впрочем, мое шведское происхождение тоже вряд ли уполномочивает меня задавать полякам вопросы, касающиеся будущего Европы. – И он задумчиво продолжал: – Вы наверняка не забыли, что это мы, шведы, сровняли когда-то с землей многие замки в вашей стране – чудеса архитектуры. Конечно, мы не были столь жестоки, как немцы. Прошли столетия. Вы знаете, что в Швеции до сих пор хранятся бесценные сокровища польской культуры? Недавно мне посчастливилось многие из них увидеть в Упсале. И, признаюсь, я подумал, может, оно и к лучшему, что мы отняли это у вас. По крайней мере все сохранилось, а в Польше могло стать добычей гитлеровцев.
– Это замечательная теория, – говорю я и вопреки собственному желанию добавляю: – Оно и впрямь к лучшему, что гитлеровцы вырывали золотые зубы доставленным в лагерь узникам прямо на перроне. А то ведь, получив от эсэсовца в морду, те могли выплюнуть выбитые золотые протезы. Какая была бы потеря для казны третьего рейха!
Ганс Липман не отреагировал на мои слова. Он продолжал развивать свою мысль.
– Правда, шведские нашествия – далекое прошлое.
– И надо сказать, вырванное с корнем. И здесь нужно ликвидировать раковую опухоль, уничтожающую народ. Мир должен помочь немцам выздороветь.
Репортер услышал меня наконец. Сжал губы. Еще больше вытянул шею. Казалось, он волнуется все сильнее.
– Поляки ведь католики, верно? Неужели вы забыли, что, согласно католической религии, самому большому грешнику, даже убийце, дано богом святое и незыблемое право? Право на покаяние, чтобы успеть очистить душу, искупить свою вину.
Губы репортера все время шевелятся, он не перестает говорить даже тогда, когда я встаю и с улыбкой спрашиваю Соланж:
– Идем?
– Я удивлена, как ты все это вынесла, – сочувственно отзывается Соланж.
Вежбица отодвинул наши стулья.
– Черт побери! – фыркнул он. – Ну и корреспондента пригласили в Нюрнберг. По сравнению с Делмером, Полевым, лордом Расселом из Ливерпуля и даже по сравнению с нашими обозревателями этот тип просто шут. А возможно, разыгрывает из себя шута.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Ключ от комнаты. Лестницы. Коридоры. Сначала идешь, мягко ступая по ковровой дорожке, потом под ногами начинают похрустывать мелкие камушки. Они становятся все крупнее и больше, и вот уже надо идти осторожно – того и гляди, подвернешь ногу. Наконец дорожка обрывается, нет и потолка над головой, зияет черное небо – сюда упала бомба. Дальше надо пробираться по деревянным лесам, заляпанным известкой и покрытым тоненькой корочкой льда.
Значит, именно здесь просвистела авиабомба, разворотив «Гранд-отель», точно муравейник, полный спящих в уютных нишах, лабиринтах, убежищах, в комнатах, в теплых кроватях немцев.
Холодный ветер пронизывает до костей – ночи по-зимнему морозны, хотя днем уже чувствовалось дыхание весны.
Небо усеяно звездами – ночь до того прекрасна, что хочется опять спуститься вниз и идти куда глаза глядят, ведь мир здесь, должно быть, так же хорош, как и в любом другом месте. Издалека в ночную тишину врывается сильное мужское пение – это солдаты второй мировой войны пытаются убедить себя и других в истинности слов фронтовой песни. Говорят, так они провожают каждый уходящий день. Баритоны, басы, тенора выводят простой мотив, повторяя на сон грядущий:
Old soldiers never die,
old soldiers never die,
old soldiers never die,
soldiers fade away…
Это что-то вроде гимна, исполненного суровой жизненной философии, оберегающей от несчастных случаев, – старые солдаты не умирают, старые солдаты не умирают – старые солдаты просто исчезают…
Сильным аккордом заканчивается песня.
Соланж остановилась и, опершись на перила, слушает. Рядом с ней огромная заплата из красного кирпича – заделана самая большая пробоина, но и оттуда сквозь леса видны раскачивающиеся от ветра уличные фонари у вокзала и слышен шум автобусов.
Как хорошо, что и поездка, и весь этот день в Нюрнберге, и даже концерт – уже позади; если б не отъезд Соланж и не мои показания, мы могли бы завтра отправиться на большую прогулку, вздохнуть свободно, осмотреть этот знаменитый город.
Старые солдаты не умирают… Не умирают, а исчезают. Ну ладно, а молодые? Что происходит с молодыми?
Когда война выбрасывает человека на берег со столькими шрамами и застрявшими в душе осколками, нужно много времени и покоя, чтобы все зажило. Нужно одиночество, тишина, твердость духа.
Нюрнбергский «Гранд-отель» лучше любого дома в разрушенной Варшаве предоставляет условия для отдыха. Персонал здесь вымуштрован, его как бы и нет – люди работают тихо и незаметно. До чего же странным кажется это первое послевоенное воплощение немцев, первые, самые поверхностные его проявления. Невооруженным глазом видно, что они выбрали метод обхаживания всех оккупантов, стараются выглядеть вежливыми и приятными. Как, например, профессор Ульсен. Он, правда, эмигрировал, много лет скитался за границей…
Строительные леса выводят в коридор уцелевшего крыла здания – там тоже под ногами красная дорожка, вся покрытая кирпичной крошкой и белыми пятнами известки.
Соланж открывает дверь своего номера и зажигает все лампы.
– Знаешь, яркий свет лучше всего защищает от меланхолии. Я люблю, чтобы в комнате было светло, – в ярком свете можно определить главное отличие хорошей гостиницы: не видно ни в одной мелочи следов тех, кто жил здесь до тебя.
Обе двери Соланж оставила приоткрытыми, бросила пальто, перчатки, сумочку, платок в кресло и теперь, стоя на коленях на ковре, заглядывает под диван, под кровать.
– Гитлер спрятался не здесь, и не здесь, и не здесь, – напевает она себе под нос. Проверила шкаф, заглянула в ванную, швырнула туфли в темный угол. И, довольная осмотром, сказала: – О’кэй. Адольф Гитлер испарился. Ты тоже проверь у себя, загляни во все уголки, прежде чем ляжешь спать.
Я наверняка это сделаю, но сейчас шучу:
– У нас говорят: «Меня на испуг не возьмешь».
Соланж все еще стоит перед открытым шкафом.
– Брось! Хвастовство хорошо в другие времена. Будь начеку. Не забывай: это Нюрнберг. Не забывай, где ты. Ядовитая гадюка с радостью убаюкала бы сейчас на своем сердце большинство приехавших на процесс. Держи глаза открытыми.
– И даже во сне?
– Не стоит шутить. Ты должна пообещать мне, что будешь осторожна Проверяй комнату, когда входишь в нее, особенно перед сном – это твоя первейшая обязанность. Вспомни, что ты видела там, совсем еще недавно.
– Девочка! Я это понимаю. И проверяю. Но как ты с такими мыслями можешь давать здесь, у немцев, концерты?!
Соланж выпрямилась, подняла руку кверху.
– Слава богу, завтра я лягу спать далеко отсюда. И заботиться обо мне будет итальянская горничная. Там мне не придет в голову заглядывать в шкаф или под кровать. Я верю итальянцам. Я вообще верю людям. Но пойми, тут каждое слово, каждая надпись, каждый окрик открывают завесу памяти, всплывают кошмарные сцены. Мне страшно. Я боюсь их. Ты завтра будешь давать показания на процессе. Ты дашь их от имени всех нас. И от имени тех, кто уже ничего сказать не может. Помни об этом. – Она открыла окно. Выглянула наружу, проверяя, не затаился ли Адольф Гитлер на строительных лесах. – Порядок! – сказала Соланж. – Теперь я могу спать спокойно.
– Проверено. Мин нет, – пошутила я.
– Да. Территория свободна. Мин нет. Но помни, нам выпало жить в проклятое время. И поэтому мы должны всегда убеждаться заранее, что мин действительно нет.
Это было первое, что делала Соланж, возвращаясь по вечерам в гостиничный номер. Делала машинально. С легким юмором. Она казалась смешной самой себе, когда вот так осторожно проверяла, не спрятался ли кто под кроватью. И только после осмотра старательно запирала на ключ первую дверь, а потом и вторую. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и попрощались. Через мгновение я была уже в своей комнате.
Блаженное чувство одиночества. Я бросилась в постель не раздеваясь. Десять минут передышки перед тем, как умыться, и, главное, перед тем, как проверить, не прячется ли тут какой-нибудь Адольф Гитлер. Полное расслабление. Центнерами спадает усталость с моих плеч, спины, ног, восстанавливается спокойное дыхание. Я размышляю о моей талантливой подруге.
Соланж еще очень молода. Молодость стерла с ее внешности все следы пережитого. Лишь на дне сознания остался осадок, который она боится трогать, чтобы не смешать его с содержанием дней великого выздоровления.
Удобная и большая гостиничная комната кажется теперь даже уютной. Тепло. За окнами осталась метель, немецкая ночь, так непохожая на польскую, бельгийскую да и любую другую. Эта страна по-своему шумит, будоражит, тревожит. Говорят, тут все изменилось. Но, поди знай, до какой степени?
Наполняется горячей водой ванна. Мерный, убаюкивающий шум. Я обвязываю полотенцем голову и, чтобы посмотреть на себя, протираю ладонью запотевшее зеркало.
С удивлением узнаю свое лицо, вытянутый овал на сверкающей поверхности стекла, бледные щеки и взгляд, словно бы извиняющийся за то, что видели глаза.
Под высокими дугами бровей прячутся ошеломление и ужас. Нельзя смотреть на мир такими глазами. Вокруг все твердят, что надо поскорее забыть, не возвращаться больше к пережитому. Но это очень трудно. Я закрываю и снова открываю глаза. Прядки слишком медленно отрастающих волос образуют надо лбом взъерошенную челку. В зеркале – чужое лицо. Животный страх в глазах не исчезает, даже когда на губах появляется слабая, вымученная улыбка. Глаза надо держать закрытыми. Никто не должен видеть необоснованный, сегодня уже иррациональный, но все еще сильный страх. Особенно здесь, перед дачей свидетельских показаний.
Теперь, когда войны нет, немецкие привидения не имеют права являться ко мне. После страшных, жестоких лет мудрый и справедливый Трибунал, назвавший их убийцами, определит и меру наказания, лишит возможности впредь творить преступления. Никто никогда больше не поднимет оружие против соседнего народа. И все же как бы мне хотелось поскорее отсюда уехать – я не отношусь к людям, которых может успокоить скрип виселиц под тяжестью эсэсовцев.
Как раз наоборот. В саду у Фабера я ощутила сегодня свою беззащитность: даже скрип ворот или крестьянской телеги тотчас напоминает мне годы оккупации, террор, концентрационный лагерь. Я сбегу отсюда, как только представится возможность, я вернусь в Польшу, хотя и там ждет меня одиночество. Я попытаюсь искать Томаша перед отъездом, хотя не знаю, реально ли это, жив ли он. С ним бы я ничего не боялась. Мы могли бы пройти вдвоем по Унтер-ден-Линден до самых Бранденбургских ворот, там, где шли на отекших, кровоточащих ногах солдаты, родившиеся на берегах Байкала, молоденькие парнишки из Келецкой земли, женщины и дети, которые после смерти мужчин брались за оружие.
Пройти по этой дороге вдвоем, укрепить в себе слабую уверенность в том, что германскому божку оторвали все его когтистые лапы, что никогда больше не раздастся воинственный клич вождей этого послушного народа.
С Томашем. Опереться на его плечо. Жить полной жизнью. Но возможно ли это? Все говорит о том, что его нет в живых.
А теперь мне надо уснуть. Я выключаю по очереди все лампы и ложусь в старомодную, украшенную четырьмя металлическими шарами кровать.
Сразу темнота. И приятное облегчение. Под опущенными веками нет ничего. Блаженная пустота. Потом начинают мелькать снятые на пленку события, предметы, люди, проблемы. Надвигаются, обступают со всех сторон. Звучат в памяти обрывки разговоров, сильнее колотится сердце, все сильнее, оно бьется в горле, в висках. Вместо сонного дурмана ясная мрачность, сквозь треснутые стены «Гранд-отеля» бочком протискиваются сплюснутые, деформированные привидения.
Что говорил тот тип, внизу? Кто здесь спал? Геринг? Это наверняка правда, он ведь должен был где-то спать, когда приезжал в Нюрнберг в эпоху знаменитых «партайтагов». А теперь Геринг в тюремной камере за решеткой, в крепких американских руках, и, может быть, завтра я увижу его на скамье подсудимых.
Город шумит. Мне слышен стук буферов и вагонных колес, лязг стрелок.
Год назад колонны узников еще двигались по немецким дорогам, в вагонах для скота везли со всех сторон сюда, поближе к алчному сердцу Германии, истощенных женщин в полосатой одежде, мужчин, которые весили не намного больше, чем человеческий скелет, детей, которым предстояло быть убитыми или онемеченными.
Шумит город, зажатый клещами улиц вокруг Международного трибунала и «Гранд-отеля». Постанывает «Гранд-отель», глухо вздыхает лифт между стенами, хлопают двери на разных этажах, снег ударяет в окно, слышен шепот, тихие шаги. Свист и стон, а потом снова шепот, и это утомительнее всего.
Но еще больше утомляют мысли. С поразительной ясностью предстают передо мной факты, и невольно возникает вопрос: что делать завтра? Как воскресить черты, особенности, таланты людей, которых всего в нескольких десятках метров от моего барака гнали вдоль колючей проволоки под током в газовые камеры?
И я начинаю понимать всю бесплодность моих намерений, никто не в состоянии передать атмосферу, созданную немцами, отчаяние человека, стоящего перед постоянно разверстой могилой. Быть может, на поле боя, именуемом театром военных действий, где безумцы отдают преступные приказы молодым и сильным, самым здоровым, самым лучшим, умным и честным, – быть может, там бывает по-другому? И надо уйти как можно дальше от поля боя, никогда больше не оглядываясь назад. Может быть, прав Себастьян Вежбица, так настойчиво советуя уехать из Европы, чтобы никакие законы физики не смогли донести туда немецкий снаряд, немецкий мировой порядок, немецкую атмосферу.
Нет больше доверия. Оно умерло на городских улицах, его расстреляли у стен, его задушили в нас и в наших детях. Мы знаем сегодня, что никто из нас не живет так, как бы он хотел и мог. Мы знаем, что человечество все быстрее мчится в противоположном направлении, мчится огромной массой, запыхавшись, непоследовательное в своих мыслях, если вообще оно мыслит.
Мы делимся каждой бациллой эпохи, радиоактивным пеплом и своим сомнением в смысле жизни.
Почему мы не стоим сегодня на бывших полях брани, вскинув кверху руки, протестуя против деспотизма безумцев? Почему мы не делаем ничего, абсолютно ничего, против буйно помешанных?
Процесс. Через несколько часов начнется завтрашний день.
Завтрашний день принесет мне ответ.
А «Гранд-отель» все еще бодрствует и развлекается. Одни танцуют, другие поднимают тосты в честь своего геройства, постанывающий скрежет лифта переплетается с обрывками шотландской песни:
Старые солдаты не умирают,
не умирают, не умирают —
старые солдаты просто исчезают…
Эта песня и шаги в коридоре убеждают меня, что жизнь в «Гранд-отеле» бьет ключом. Можно поднять телефонную трубку и распорядиться:
– Будьте добры, проверьте, нет ли в кафе кого-нибудь из польской делегации, я подожду у телефона.








