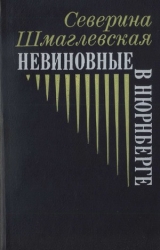
Текст книги "Невиновные в Нюрнберге"
Автор книги: Северина Шмаглевская
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Он помолчал, потом продолжал, точно объясняя:
– И все-таки главное – это документы. Мы, я имею в виду Польшу, не подготовлены, чтобы выступать на процессе. Прошел год с момента освобождения Варшавы. Год и месяц. Масса времени! Это достаточный срок, согласитесь, чтобы подготовить подробнейший обвинительный акт, перечислить абсолютно все гитлеровские преступления, совершенные по отношению к нашей стране.
Опять замолчал, глубоко дыша. Казалось, он старается упорядочить мысли для продолжения своей речи.
Буковяк сгорбился еще сильнее и отодвинулся от света. Он внимательно ждал продолжения речи Илжецкого. Тот наконец-то очнулся от задумчивости.
– Год! А нам не с чем выступить на таком ответственном форуме. Где наша серьезная научная база? Нет документов, мы не опросили тысячи людей, у нас нет окончательных данных, не подведены заключительные итоги. Сколько может длиться сбор материалов для обвинительного акта, относящегося к этой войне? Дольше, чем сама война?
Илжецкий остановился посреди комнаты, раскрасневшийся, напряженный, и в ожидании ответа снова шмыгнул носом. Никто не ответил. Он засунул руки в карманы, пригнул шею и исподлобья глянул на Буковяка. Они встретились взглядами, глаза их сверкали гневом.
Я внимательно наблюдала за ними. Оба были раздражены, но возмущение у каждого выражалось по-своему. У Илжецкого лицо покраснело, на шее набухли вены, пылали румянцем щеки. Лицо Буковяка потемнело, узкий рот был крепко сжат, веки постепенно наливались кровью.
Вдруг он зашелся астматическим кашлем.
– Вам бы следовало, пан прокурор, – хрипел он, – пережить с нами войну. Тогда бы вы поменьше критиковали. Сколько лет нужно, чтобы земля открыла всю правду? Вы еще в этом убедитесь. Qui vivra, verra![7]7
Поживем – увидим! (франц.).
[Закрыть]
Долго сдерживаемый кашель прорвался теперь с полной силой, сопровождаемый хрипом и глухими стонами.
Буковяк передвинул на столе зеленую лампу, совсем ушел в тень.
Илжецкий снова пересек комнату по диагонали и остановился перед зеркалом. Пухлый, крепко скроенный, пышущий энергией, он являл собой полную противоположность Буковяку. Непонятно, зачем он вытащил из кармана маленькую щеточку и принялся задумчиво расчесывать свой младенческий пушок на голове.
– Итак, – задумчиво произнес он, вероятно продолжая развивать какие-то свои мысли, – необходимо предъявить как можно больше доказательств. Ни на минуту нельзя забывать о том, что юридические принципы Трибунала определят многое, потом это скажется на развитии международного права. Можно сказать не колеблясь, что новая история Европы, история мира в огромной степени будет зависеть от решений, принятых в Нюрнберге. Именно здесь, именно сейчас будет сформулировано, кто является военным преступником, несет ответственность за развязывание второй мировой войны. На основании документов, неопровержимых документов. Об этом нельзя забывать.
Он прищурился, словно хотел разглядеть выражения наших лиц, но в комнате было для этого недостаточно светло, и он двинулся к двери.
– Вы позволите зажечь верхний свет?
– Пожалуйста, – прохрипел Буковяк. – Значит, вас в первую очередь интересует, как будет развиваться международное право после Нюрнбергского процесса. Для меня же гораздо важнее завтрашнее заседание и незначительный эпизод, как вы его назвали: дача свидетельских показаний поляками. Опрос свидетелей должен подтвердить наше участие в первом в мире международном акте правосудия. Вот почему я считаю завтрашний день чрезвычайно важным для нас.
Изборожденное морщинами лицо Буковяка слегка разгладилось и посветлело, он уже не хрипит, голос его звучит дружелюбно и тепло.
– Я надеюсь на наших свидетелей, – продолжил он. – Они возьмут на себя ответственность за завтрашний день.
Доктор Оравия поднял голову и слушал, сжимая ладонями голову. По мере того как Буковяк говорил, его помятое лицо разглаживалось.
– Если мы взглянем на карту Европы, – заговорил полушепотом Буковяк, – мы насчитаем множество, может быть тысячи, мест, где находились гитлеровские концентрационные лагеря. Даже нам самим в это трудно будет поверить. Но полная картина составится только через годы. Поэтому так важно, чтобы в Нюрнберге давали показания живые люди, они сегодня скажут больше, чем иной обнаруженный через двадцать лет документ.
Илжецкий слушал его, уставившись в потолок, почесывая жирный подбородок.
– Живые люди не заменят вещественных доказательств, – улыбнулся он, чуть кривя губы.
Буковяк перебил его:
– Дорогой коллега, чтение документов все же, на мой взгляд, производит иное впечатление, нежели показания людей, освобожденных из лагерей смерти. Бумаги, фотографии, отчеты, фотокопии приказов свозят сюда килограммами. Вы же знаете, ими завалены кабинеты в здании Трибунала. Очень сомневаюсь, что все они будут прочитаны.
Все молчали. Буковяк вновь заговорил:
– Я добивался, чтобы вызвали свидетелей из Польши. Живые люди. Живое слово. Согласие Трибунала пригласить их я считаю победой нашей делегации.
– Да-да. Да-да! – Илжецкий упорно смотрел в потолок. – Посмотрим, к чему приведет упорство моего уважаемого коллеги. Посмотрим.
Мне не хватало смелости вступить в разговор. Страх сковывал меня. Война наполнила меня этим зловонным страхом, я не могла перебороть себя. Мне хотелось спросить, когда в Нюрнберг вызовут профессоров Краковского университета, которых во время войны держали в Заксенхаузене, когда вызовут женщин из Равенсбрюка, которых гитлеровские лекари называли «подопытными кроликами». Кроме слов, они могут представить и вещественные доказательства: сквозь чулки на их ногах видны шрамы, глубокие синие впадины, следы варварских насильственных операций. Когда вызовут жителей Замойщины, они расскажут, как в их воеводстве сжигали целые деревни, как вывозили детей в Освенцим. В газовые камеры.
Завтра мне предстоит отвечать на вопросы Трибунала; я не боюсь этого, но это не смелость, скорее, просто отчаянная решимость; почему же сейчас я молчу и не нахожу в себе сил, чтобы в тишине гостиничного номера, нарушаемой лишь тиканьем часов (или, может, это капает вода в раковине?), высказать свои сомнения, сказать, что из Польши пригласили слишком маленькую группу, так мало свидетелей из страны, которая не смогла еще подготовить все документы, потому что испытала на себе все разновидности гитлеровских зверств и разорена дотла.
Все это время доктор Оравия сидел в тени. Вдруг он встал, улыбнулся Буковяку, успокаивающим жестом вытянул вперед обе руки.
– Пан прокурор предоставил нам возможность говорить от имени тех, кого лишили жизни. Мы заменим их!
Голос Оравии дрогнул, руки задрожали. С трудом овладев собой, он резко сказал:
– Нюрнбергский процесс должен явиться плотиной. Чтобы больше никогда не было преступлений. Никогда. Понимаете? Никаких преступлений на всем земном шаре!
Видно, доктору хотелось добавить что-то еще, но все молчали. Приглушенные звуки все еще дремлющей по-воскресному старой гостиницы то усиливались, то утихали, гасли в глубине ее стен. Неужели человеческая речь бессильна перед событиями, очевидцами которых мы были?
Хриплое дыхание Буковяка скорее похоже на треск в проводах. Он заговорил, и лишь постепенно неразборчивые звуки начали складываться в слова.
– Сейчас сюда придет Михал Грабовецкий и сможет ответить на все вопросы и сомнения нашего прокурора. Он специально ездил в Варшаву за результатами работы комиссии. Наверняка привез данные, протоколы показаний свидетелей.
Кашель одолел его, он долго не мог прийти в себя, но вот наконец успокоился.
– Совершенно отдельно следует рассматривать вопрос о гитлеровском генерал-губернаторе Гансе Франке. Мы пытались добиться выдачи его Польше, суд над ним должен состояться у нас в стране, он несет ответственность за трагедию нашей страны. Но Франк значится среди главных военных преступников, его нам не выдадут, его судят в Нюрнберге. Не удалось доктору Оравии добиться этого, хотя он тщательно подготовил материал о его преступлениях в Польше. Обвинения, выдвинутые против него, были бы полнее, если бы мы представили их в польский суд. Здесь же, в Нюрнберге, преступления Франка рассматриваются как один из разделов всего комплекса проблем. Закончится Нюрнбергский процесс, возможно, о нем даже забудут, а в Польше будут и будут появляться факты и материалы, отягчающие вину Ганса Франка. Поэтому сейчас показания узников Освенцима или Треблинки важнее документов и цифр.
Сгорбленный, вросший в кресло Буковяк повернулся всем телом к собеседникам. Он распахнул дверь стоявшего за его спиной шкафа – при ярком свете лампочки, осветившей полки, мы увидели кипы скоросшивателей. Буковяк снова постучал в стенку, за которой находился номер Грабовецкого.
– Пан Михал, когда вы наконец распакуете свои вещи? Расскажите, как обстоят дела в Варшаве!
Он с минуту подождал. Илжецкий выпятил вперед нижнюю губу и шмыгнул носом. Буковяк обеими руками потер лицо, видно было, что разговор его утомляет.
– Отлив кончился, – сказал он, тяжело дыша. – Советую смотреть в оба. Можно многое увидеть. На каждом шагу. Особенно завтра на заседании Трибунала.
Из его горла снова раздается хрип, и, снижая голос, он шепотом говорит:
– Смотреть в оба.
Приступ кашля опять не дает ему говорить. Он прикладывает платок ко рту, пытается приглушить хрип больных легких.
Прижав толстые пальцы к губам, ко мне обращается Илжецкий:
– Американские юристы не признают показаний свидетелей. Для них важен только документ. Умно составленный документ. С комментариями. К которому можно в любой момент вернуться.
Буковяк наконец справился с кашлем, спрятал платок и старается улыбкой загладить тяжкое впечатление.
Илжецкий отошел к двери, встал перед зеркалом, полюбовался своей детской головкой с младенческими завитушками, привел в порядок прическу, старательно поработав щеткой. Все молчали, ждали пана Михала.
Илжецкий иронично заметил:
– Пан Михал, видно, лег вздремнуть. У него, по-моему, нет ни комплексов, ни морально-философских проблем. Отсыпается за войну. Отсыпается после командировки в Варшаву. Отсыпается по очереди за каждую усталость.
Буковяк снова нервно застучал в стенку, наконец взял телефонную трубку, набрав номер соседа, терпеливо ждал ответа.
– Ну как работать в таких условиях? – вздохнул он и вдруг громко вскрикнул: – Пан Михал, наконец-то, где вы пропадали? Все время были у себя? Не морочьте голову! Ждем вас.
Казалось, со злости он сейчас швырнет трубку, но он осторожно положил ее и, низко склонившись над столом, задумчиво разглядывал карту.
В приоткрывшейся двери показалась лысина Михала Грабовецкого.
– Я вам не помешаю?
– Дайте же наконец последние данные! Сколько погибло в Варшаве! – нервничал Буковяк.
Грабовецкий усиленно потер ладонью виски.
– Что вам сказать? Из-за морозов и снегопадов снова отложили земляные работы, придется ждать до весны. Этого следовало ожидать. И мои предположения полностью подтверждаются: мы не получим этих данных до вынесения приговора. Пока, пан прокурор, ничего не получится с эксгумацией, нет людей, зима. Я разговаривал с генералом, он просил это вам передать.
– Что?!
Пан Михал беспомощно опустил руки.
– Значит, будем ждать весны. – Он потер лоб и повторил шепотом: – Ждать весны.
– Весны? Ни до какой весны я ждать не могу! – рявкнул Буковяк.
Грабовецкий развел руками:
– Я только могу повторить: сейчас в Польше проводить раскопки некому.
Буковяк опять зашелся в сильнейшем кашле.
Илжецкий продолжал возиться со щеткой, опять пригладил волосы пухлыми пальчиками и, подражая фальцету Грабовецкого, повторил:
– Ничего не получится с эксгумацией, сами понимаете, коллега. Ничего, абсолютно ничего…
Ошеломленная вышла я из гостиницы. О разговоре в комнате Буковяка мне не хотелось думать. Хотелось успокоиться, привести в порядок свои мысли. Ссора земляков?! Здесь, где у нас почти никаких надежд? Меня ослепил свет, искристое сияние снега и удивительно ласковое и теплое солнце, внезапно выглянувшее из-за облаков. Первое прикосновение весны, еле ощутимой в это время года. Оно согрело мое лицо, заставило дышать глубже. Осыпающийся белой пылью иней, пахнущий весной ветер, смешиваясь, несли облегчение.
Освободившись от чего-то, что было выше моих душевных сил, я спокойно шла; не хотелось возвращаться, пока последний солнечный луч не исчезнет за крышами домов, что должно было произойти уже скоро: февральские дни коротки.
Я расслабилась, исчезло напряжение, не отпускавшее меня с того момента, как мне сказали, что я поеду в Нюрнберг, и все долгие дни мучительного пути. Темная комната Буковяка еще больше взвинтила меня, тон разговоров поверг в уныние. Сейчас все это куда-то ушло.
Перед гостиницей было пусто. Неожиданно на улицу вышли трое. Я понимаю, что вышли чужие мне люди, и не обращаю на них внимания. Седовласый мужчина в поношенном пальто идет бочком, пропускает вперед молодую женщину и ее спутника. Седовласый угодливый немец вряд ли имел что-то общее с планами Адольфа Гитлера, почему же в каждом его жесте такое смирение? Наверное, он всегда был предупредителен и только я усматриваю в его поведении нечто особенное?
– Bitte, gnädige Frau! Bitte! [8]8
Прошу вас, любезная госпожа, прошу вас! (нем.).
[Закрыть] – говорит он взволнованно.
У подъезда стоят несколько автомобилей. Шоферы-немцы внимательно следят за дверью «Гранд-отеля». Американский солдат-диспетчер кивает головой одному из них и почти тут же отсылает машину обратно, вызывает другую, более шикарную. Обшарпанная рухлядь возвращается на свое место. «Gnädige Frau» подходит к открытым дверцам автомобиля.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На кого похожа эта женщина? Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, кто это. Очень элегантная, красивая, уверенная в себе, у нее решительные движения, стройная фигура. Она оглядывается по сторонам, вдыхает морозный воздух, словно пьет, открыв рот, чудесный напиток. И вдруг замечает меня. Сдвигает брови – и тоже не может вспомнить, но это длится одно мгновение.
– C’est vrai?[9]9
Неужели это правда? (франц.).
[Закрыть]– изумленно спрашивает она и переходит на польский: – Здесь? В Нюрнберге?
Ну вот, сомнения развеяны. Как она изменилась, но голос остался прежний. Никогда бы я не поверила, что человеку достаточно вернуть свободу, и он так перевоплотится.
– C’est vrai? – радостно повторяет она.
Тот же мягкий, приглушенный голос, как в тот январский день, когда я увидела ее сгорбленную худую спину с торчащими под полосатой робой лопатками. Бритая голова, шея по-собачьи втянута в плечи. Доходяга пыталась протиснуться в разношерстную группу лагерных оркестрантов.
Эсэсовец забраковал уже множество кандидаток. Решительные Weg! Ab! Raus![10]10
Прочь! Вон! Уходи! (нем.).
[Закрыть] быстро укорачивали длиннющую очередь. Только с этой безволосой доходягой он начал канителиться, спросил о чем-то, но, не зная французского, вызвал переводчика.
– Dolmetscherin! Sofort![11]11
Переводчицу! Скорее! (нем.).
[Закрыть]
Я услышала тогда дрожащий от холода голос, краткие ответы на вопросы переводчицы. Бельгийка. Училась в Польше, у профессора Джевецкого, по классу фортепьяно. Играет Шопена, Моцарта, Листа, Бетховена, Грига.
– Name? Vorname?[12]12
Имя? Фамилия? (нем.).
[Закрыть]
– Соланж…
Немец не слышал такого имени, велел ей расписаться.
Наверное, не только от холода дрожала ее грязная, посиневшая рука над листком бумаги. Через ее плечо я прочла: Соланж Прэ.
Эсэсовец принялся острить:
– So lange?[13]13
Так долго? (нем.).
[Закрыть]
– Сколько времени ты в лагере? – быстро спросила переводчица, смертельно напуганная сложившейся ситуацией.
Соланж подняла пять пальцев и мизинец.
– Шесть недель.
К немцу вернулось хорошее настроение.
– So lange! Гм-гм! Столько времени ты имеешь право тут продержаться. Но попробуй не сыграть Бетховена, Моцарта… Грига…
Он велел ей ждать, пока не опросит остальных кандидаток. Я стояла возле нее. Оказалось, что «die Geige»[14]14
Скрипка (нем.).
[Закрыть] пригодится в оркестре, хотя в школьные годы я куда лучше играла на гребешке, чем на скрипке. Мне было страшно. Сменить лопату на смычок, канаву, полную грязи и мокрого снега, на барак для оркестра…
Эсэсовец, уверенный, что Соланж лжет, был в прекрасном расположении духа. Его забавляла перспектива разоблачения доходяги. Честно говоря, и мы сомневались в том, что это хорошо кончится. Эдакое чучело. Скелет, обтянутый синей кожей, с красными пятнами на обмороженных щеках. Мокрый нос, потрескавшиеся губы. И вдобавок ужас в глазах, у нее дрожали руки, спина, подбородок.
– So lange тебе хотелось бы здесь остаться? – развлекался эсэсовец. – Also komm. Komm[15]15
Тогда пойдем. Пойдем (нем.).
[Закрыть]. Проверим.
По размокшему снегу мы три километра брели до рояля. Там Соланж долго грела руки над железной печуркой, потом растирала пальцы, вызывая громкий смех эсэсовца. Наконец села к роялю, подкрутила табурет и сыграла Полонез си мажор Шопена. Струны не лопнули, хотя нам казалось, что вот-вот что-нибудь случится.
И вот теперь я стояла перед ней, изменившейся настолько, что мне хотелось спросить, действительно ли мы встретились здесь, в Нюрнберге, перед «Гранд-отелем». Я услышала свой сдавленный голос:
– Оркестр в далеко не полном составе.
Соланж помрачнела.
– Да, многих из нас уже нет.
И тут же снова улыбнулась, обняла меня.
– Послушай. Я даю здесь концерт. Пожалуйста, поедем со мной на репетицию. Не спорь. Я буду чувствовать себя свободней среди них, только ты сможешь понять, до чего мне неуютно здесь играть.
– Боюсь, что не смогу. Меня только-только вызвали из Варшавы…
– Ну пожалуйста, не увиливай. Ты поможешь мне успокоиться. Подумай о слушателях, о солдатах-фронтовиках. Я очень люблю играть для них, мы им обязаны жизнью. Давай представим, что рояль стоит в лесу, кругом палатки. Помнишь, как наши надежды, наше воображение придавали нам силы, заменяли кино, театр, чтение, разговоры с друзьями, все.
Я молчу. Соланж крепко сжимает мое плечо.
– Поедем со мной на репетицию. Если ты не хочешь слушать музыку, не слушай. Просто побудь там. Дирижер, который со мной, был в эмиграции, он приличный человек. Но все равно его немецкая речь терзает мой слух.
Мы смотрим друг на друга сквозь сверкающие в лучах солнца снежинки. Я начинаю понимать Соланж, ведь я испытываю то же: с раннего детства жили среди сверстников, мечтали, росли. Немцы вырвали нас из родного дома, отправили в лагерь.
Последняя группа, где мы жили надеждой, – тот страшный лагерный оркестр перестал быть нужен немцам, и они растоптали его. Поэтому сегодня мы протягиваем друг другу руки, чтобы убедиться: мы все еще существуем, им не удалось нас убрать. Мы сейчас подтверждаем наше существование. Нам хочется верить, что наши пути пойдут вблизи друг от друга.
– Значит, я услышу тебя в Нюрнберге? – говорю я, внимательно вглядываясь в этого нового человека, которым стала Соланж.
– Встреча с тобой здесь – огромная радость для меня, – отвечает она. – И какое-то облегчение. А для тебя?
– В Нюрнберге! Неслыханно! Представляешь? Об этом мы даже не мечтали.
Седой мужчина покорно ждет, он пытается вступить в разговор, но Соланж лишь улыбнулась ему и продолжает уговаривать меня своим тихим голосом. Когда она на минуту умолкла, мужчина объяснил:
– Концерты организовывают американцы для гостей Трибунала, на них приходят офицеры из охраны, простые солдаты. Французы, поляки, югославы, чехи. Можно сказать, случайные слушатели. Настоящие меломаны бывают редко.
Соланж подняла большой палец, улыбнулась. Красивая, европейская, возвращенная к жизни.
– Значит, одной репетиции вполне хватит? Едем?
Я с сомнением смотрю на «Гранд-отель», но Соланж не принимает моих возражений.
– Сделай это для меня. Потом мы сможем поговорить. Поедем со мной. Прошу тебя.
Я думаю о волосах Соланж. Они отросли, хотя прическа все еще по-мальчишески короткая. В ее движениях чувствуется свобода и уверенность в себе. Высокая, прямая, теперь она не сутулится. Ей сегодня принадлежит весь мир.
– Итак, едем, – властно говорит она.
– Ты давно в Нюрнберге?
Соланж поднимает руки.
– Потом! Я приехала вчера после обеда. Сегодня выступлю, а завтра улетаю в Рим. Потом в Милан. Я радуюсь Европе, принимаю все приглашения. А сейчас похищаю тебя. Ты скажешь, сколько мне надо репетировать перед концертом. Буду слушать только тебя.
Я поняла, что круговорот ее жизни уже затягивает меня. Плот стронулся с места и помчал меня по реке впечатлений и желаний. Мы быстро ехали по пустынным улицам. Соланж снова обняла меня, тихонько запела какую-то ритмичную, полную темперамента песенку. Ветер, врывающийся в раскрытое окно, трепал нам волосы.
Я должна бы испытывать радость, мчась в этом шикарном автомобиле с безупречно вышколенным шофером, который по первому знаку готов любезно притормозить, прибавить скорость, повернуть, остановиться, предупредительно распахнуть двери, помочь выйти. Но я не чувствую ничего, кроме опустошенности.
– Я помню, как отправляли оркестр, – вспоминает Соланж. – Нашу маленькую группу построили вдоль путей. Было лето, разгар лета, я была поражена, когда заметила, как сморщились, пожелтели, побурели, стали мертвыми листья на деревьях, словно схваченные морозом. И только тогда, отчетливее, чем прежде, поняла, где мы находимся. Это меня окончательно сломало. Я больше не могла бороться. Я поняла, что оркестру подписан приговор. И только неожиданное наступление на фронте помешало им привести его в исполнение.
Она прикрыла глаза. До меня доносятся прерываемые ветром обрывки слов:
– Ты первый человек оттуда, которого я встретила после войны. Я не знаю, что с остальными.
Соланж вздохнула. Она напевает мелодию, которую часто пела вечерами, сидя на нарах под дырявой крышей: Camarades, darmez vous?[16]16
Товарищи, вы спите? (франц.).
[Закрыть]
Я начала ей подпевать, сначала скованно, а потом все громче и свободней. Эти слова были для нас чем-то вроде гимна. Неожиданно она воскликнула:
– Поехали со мной в Италию! Соглашайся, упрямица! Я завтра же с утра достану для тебя билет и все оформлю. Ты только подумай, выслушай меня, потом будешь качать головой. Там ведь гораздо теплее, скоро весна.
Как рассказать ей о Нюрнбергском процессе, не привлекая к нашему разговору посторонних?
Я решаю отложить его на потом, а пока поддаюсь ее настроению: солнце греет сквозь стекло, в Италии весна, завтра самолет летит в Рим. Оттуда в Милан. Разумеется, я должна поехать туда, доказать самой себе, что к миру возвращается рассудок. Сбежать как можно дальше отсюда, забыть о своих мрачных проблемах.








