Сочинения. Письма
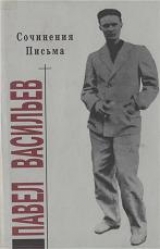
Текст книги "Сочинения. Письма"
Автор книги: Сергей Куняев
Соавторы: Павел Васильев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
Мы никогда не состаримся, никогда,
Мы молоды, как один.
О, как весела, молода вода,
Толпящаяся у плотин!
Мы никогда Не состаримся,
Никогда —
Мы молоды до седин.
Над этой страной,
Над зарею встань
И взглядом пересеки
Песчаный шелк – дорогую ткань.
Сколько веков седел Тянь-Шань
И сколько веков пески?
Грохочут кибитки в седой пыли.
Куда ты ни кинешь взор —
Бычьим стадом камни легли
У синей стужи озер.
В песке и камне деревья растут,
Их листья острей ножа.
И, может быть, тысячу весен тут
Томилась река Кульджа.
В ее глубине сияла гроза
И, выкипев добела,
То рыжим закатом пела в глаза,
То яблонями цвела.
И голову каждой своей волны
Мозжила о ребра скал.
И, рдея из выстуженной глубины,
Летел ледяной обвал.
Когда ж на заре
Табуны коней,
Копыта в багульник врыв,
Трубили,
Кульджа рядилась сильней,
Как будто бы Азия вся на ней
Стелила свои ковры.
Но пороховой
Девятнадцатый год,
Он был суров, огнелиц!
Из батарей тяжелый полет
Тяжелокрылых птиц!
Тогда Кульджи багровела зыбь,
Глотала свинец она.
И в камыше трехдюймовая выпь
Протяжно пела: «В-в-ой-на!»
Был прогнан в пустыню шакал и волк.
И здесь сквозь песчаный шелк
Шел Пятой армии пятый полк
И двадцать четвертый полк.
Страны тянь-шаньской каменный сад
От крови
И от знамен алел.
Пятнадцать месяцев в нем подряд
Октябрьский ветер гудел.
Он шел с штыками наперевес
Дорогою Аю-Кеш,
Он рвался чрез рукопожатья и чрез
Тревожный шепот депеш.
Он падал, расстрелян, у наших ног
В колючий ржавый бурьян,
Он нес махорки синий дымок
И запевал «Шарабан».
Походная кухня его, дребезжа,
Валилась в приречный ил.
Ты помнишь его дыханье, Кульджа,
И тех, кто его творил?
По-разному убегали года.
Верблюды – видела ты? —
Вдруг перекидывались в поезда
И, грохоча, летели туда,
Где перекидывались мосты.
Затем здесь
С штыками наперевес
Шли люди, валясь в траву,
Чтоб снова ты чудо из всех чудес
Увидела наяву.
Вновь прогнан в пустыню
Шакал и волк.
Песков разрывая шелк,
Пришел и пятый стрелковый полк,
И двадцать четвертый полк.
Удары штыка и кирки удар
Не равны ль? По пояс гол,
Ими
Руководит комиссар,
Который тогда их вел.
И ты узнаешь, Кульджа: «Они!»
Ты всплескиваешь в ладоши, и тут
Они разжигают кругом огни,
Смеются, песни поют.
И ты узнаешь, Кульджа, – вон тот,
Руками взмахнув, упал,
И ты узнаешь
Девятнадцатый год
И лучших его запевал!
И ты узнаешь
Девятнадцатый год!
Высоким солнцем нагрет,
Недаром Октябрьский ветер гудёт,
Рокочет пятнадцать лет.
Над этой страной,
Над зарею встань
И взглядом пересеки
Песчаный шелк, дорогую ткань.
Сколько веков седел Тянь-Шань
И сколько веков пески?
Но не остынет слово мое,
И кирок не смолкнет звон.
Вздымается дамб крутое литье,
И взята Кульджа в бетон.
Мы никогда не состаримся, никогда.
Мы молоды до седин.
О, как весела, молода вода,
Толпящаяся у плотин!
Волна – острей стального ножа —
Форелью плещет у дамб —
Второю молодостью Кульджа
Грохочет по проводам.
В ауле Тыс огневее лис
Огни и огни видны,
Сияет в лампах аула Тыс
Гроза ее глубины.
1932
Зашатались деревья. Им сытая осень дала
По стаканчику водки и за бесценок
Их одежду скупила. Пакгауз осенний!
Где дубленые шубы листвы и стволы
На картонной подметке, и красный околыш
Набок сбитой фуражки, и лохмы папах,
Деревянные седла и ржавые пики.
Да, похоже на то, что, окончив войну,
Здесь полки оставляли свое снаряженье,
И кровавую марлю, и боевые знамена,
И разбитые пушки!
А, ворон упал!
Не взорвать тишины.
Проходи по хрустящим дорожкам,
Пей печальнейший, сладостный воздух поры
Расставания с летом. Как вянет трава —
Ряд за рядом! Молчи и ступай осторожно,
Бойся тронуть плакучую медь тишины.
Сколько мертвого света и теплых дыханий живет
В этом сборище листьев и прелых рогатин!
Вот пахнуло зверинцем. Мальчишка навстречу
бежит…
1932
Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю,
В какой стране и при луне какой,
Веселая, забытая, родная,
Звучала ты, как песня за рекой.
Мед вечеров – он горестней отравы,
Глаза твои – в них пролетает дым,
Что бабы в церкви – кланяются травы
Перед тобой поклоном поясным.
Не мной ли на слова твои простые
Отыскан будет отзвук дорогой?
Так в сказках наших в воды колдовские
Ныряет гусь за золотой серьгой.
Мой голос чист, он по тебе томится
И для тебя окидывает высь.
Взмахни руками, обернись синицей
И щучьим повелением явись!
1932
Я сегодня спокоен,
ты меня не тревожь,
Легким, веселым шагом
ходит по саду дождь,
Он обрывает листья
в горницах сентября.
Ветер за синим морем,
и далеко заря.
Надо забыть о том,
что нам с тобой тяжело,
Надо услышать птичье
вздрогнувшее крыло,
Надо зари дождаться,
ночь одну переждать,
Феб еще не проснулся,
не пробудилась мать.
Легким, веселым шагом
ходит по саду дождь,
Утренняя по телу
перебегает дрожь,
Утренняя прохлада
плещется у ресниц,
Вот оно утро – шепот
сердца и стоны птиц.
1932
Над степями плывут орлы
От Тобола на Каркаралы,
И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару.
Горький ветер трясет полынь,
И в полоне Долонь у дынь —
Их оранжевые тела
Накаляются добела,
И до самого дна нагруз
Сладким соком своим арбуз.
В этот день поет тяжелей
Лошадиный горячий пах, —
Полстраны, заседлав лошадей,
Скачет ярмаркой в Куяндах.
Сто тяжелых степных коней
Диким глазом в упор косят,
И бушует для них звончей
Золотая пурга овса.
Сто коней разметало дых —
Белой масти густой мороз,
И на скрученных лбах у них
Сто широких буланых звезд.
Над раздольем трав и пшениц
Поднимается долгий рев —
Казаки из своих станиц
Гонят в степь табуны коров.
Горький ветер, жги и тумань,
У алтайских предгорий стынь!
Для казацких душистых бань
Шелестят березы листы.
В этот день поет тяжелей
Вороной лошадиный пах, —
Полстраны, заседлав лошадей,
Скачет ярмаркой в Куяндах!..
Пьет джигит из касэ, – вина! —
Азиатскую супит бровь,
На бедре его скакуна
Вырезное его тавро.
Пьет казак из Лебяжья, – вина! —
Сапоги блестят – до колен,
В пышной гриве его скакуна
Кумачовая вьюга лент.
А на седлах чекан-нарез,
И станишники смотрят – во!
И киргизы смеются – во!
И широкий крутой заезд
Низко стелется над травой.
Кто отстал на одном вершке,
Потерял – жалей не жалей —
Двадцать пять в холстяном мешке,
Серебром двадцать пять рублей…
Горький ветер трясет полынь,
И в полоне Долонь у дынь,
И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару.
Над степями плывут орлы
От Тобола на Каркаралы.
1930
Под командирами на месте
Крутились лошади волчком,
И в глушь березовых предместий
Автомобиль прошел бочком.
Война гражданская в разгаре,
И в городе нежданный гам, —
Бьют пулеметы на базаре
По пестрым бабам и горшкам.
Красноармейцы меж домами
Бегут и целятся с колен;
Тяжелыми гудя крылами,
Сдалась большая пушка в плен.
Ее, как в ад, за рыло тянут,
Но пушка пятится назад,
А в это время листья вянут
В саду, похожем на закат.
На сеновале под тулупом
Харчевник с пулей в глотке спит,
В его харчевне пар над супом
Тяжелым облаком висит.
И вот солдаты с котелками
В харчевню валятся, как снег,
И пьют веселыми глотками
Похлебку эту у телег.
Войне гражданской не обуза —
И лошадь мертвая в траве,
И рыхлое мясцо арбуза,
И кровь на рваном рукаве.
И кто-то уж пошел шататься
По улицам и под хмельком,
Успела девка пошептаться
Под бричкой с рослым латышом.
И гармонист из сил последних
Поет во весь зубастый рот,
И двух в пальто в овраг соседний
Конвой расстреливать ведет.
1933
У тебя на каждый вечер
Хватит сказок и вранья,
Ты упрятала увечье
В рваной шубе воронья.
Твой обоз, груженный стужей,
Растерял колокола,
Под одежею дерюжьей
Ты согреться не могла.
Всё ж в подъездах у гостиниц
Вновь, как триста лет назад,
Кажешь розовый мизинец
И лед я ный синий взгляд.
Сохранился твой народец,
Но теперь уж ты вовек
У скуластых богородиц
Не поднимешь птичьих век.
Ночи глухи, песни глухи —
Сколь у бога немоты!
По церквам твоим старухи
Чертят в воздухе кресты.
Полно, полно,
Ты не та ли,
Что рвала куниц с плеча
Так, что гаснула свеча,
Бочки по полу катались,
До упаду хохоча?
Как пила из бочек пиво?
На пиру в ладоши била?
И грозилась – не затронь?
И куда девалась сила —
Юродивый твой огонь?
Расскажи сегодня ладом,
Почему конец твой лют?
Почему, дыша на ладан,
В погребах с мышами рядом
Мастера твои живут?
Погляди, какая малость
От богатств твоих осталась:
Красный отсвет от пожара
Да на птичьих лапах мост,
Да павлиний в окнах яро
Крупной розой тканый хвост.
Но боюсь, что в этих кручах,
В этих горестях со зла,
Ты, вдобавок, нам смогла
Мертвые с возов скрипучих
Грудой вывалить тела.
Нет, не скроешь, – их немало!
Ведь подумать – средь снегов
Сколько все-таки пропало
И лаптей и сапогов!
И пойдут, шатаясь, мимо
От зари и дотемна…
Сразу станет нелюдима
От таких людей страна.
Оттого твой бог овечий,
Бог пропажи и вранья,
Прячет смертные увечья
В рваной шубе воронья.
1932
У тебя ль глазищи сини,
Шитый пояс и серьга,
Для тебя ль, лесной княгини,
Даже жизнь не дорога?
У тебя ли под окошком
Морок синь и розов снег,
У тебя ли по дорожкам
Горевым искать ночлег?
Но ветра не постояльцы,
Ночь глядит в окно к тебе,
И в четыре свищет пальца
Лысый черт в печной трубе.
И не здесь ли, без обмана,
При огне, в тиши, в глуши,
Спиртоносы-гулеваны
Делят ночью барыши?
Меньше, чем на нитке бусин,
По любви пролито слез.
Пей из чашки мед Марусин,
Коль башку от пуль унес.
Пей, табашный, хмель из чарок —
Не товар, а есть цена.
Принеси ты ей в подарок
Башмачки из Харбина.
Принеси, когда таков ты,
Шелк, что снился ей во сне,
Чтоб она носила кофты
Синевой под цвет весне.
Рупь так рупь, чтоб падал звонок
И крутился в честь так в честь,
Берегись ее, совенок,
У нее волчата есть!
У нее в малине губы,
А глаза темны, темны,
Тяжелы собачьи шубы,
Вместо серег две луны.
Не к тебе ль, моя награда,
Горюны, ни дать ни взять,
Парни из погранотряда
Заезжают ночевать?
То ли правда, то ль прибаска —
Приезжают, напролет
Целу ночь по дому пляска
На кривых ногах идет.
Как тебя такой прославишь?
Виноваты мы кругом:
Одного себе оставишь
И забудешь о другом.
До пяты распустишь косы
И вперишь глаза во тьму,
И далекие покосы
Вдруг припомнятся ему.
И когда к губам губами
Ты прильнешь, смеясь, губя,
Он любыми именами
Назовет в ответ тебя.
1932
(Отрывок из 1-й главы поэмы «Большой город»)
Далекий край, нежданно проблесни
Студеным паром первой полыньи,
Июньским лугом, песней на привале,
Чтоб родины далекие огни
Навстречу мне, затосковав, бежали.
Давайте вспомним и споем, друзья,
Те горестные песни расставанья,
Которые ни позабыть нельзя,
Ни затушить, как юности сиянье.
Друзья, давайте вспомним про дела,
Про шалости веселых и безусых.
Споем, споем, чтоб песня нас зажгла,
Чтоб павой песня по полу прошла,
Вся в ярых лентах, в р о сшивах и в бусах,
Чтоб стукнула на счастье каблуком
И, побледнев, в окошке загрустила
По-старому. И, всё равно о ком,
Чтоб пела в трубах, кровью и ледком
Оттаивала песенная сила.
Есть в наших песнях старая тоска
Солдатских жен, и пахарей, и пьяниц,
Пожаров шум и перезвон песка,
Комарий стон, что тоньше волоска,
И сговор птиц, и девушек румянец,
Любовей, дружбы и людей разброд.
Пускай нас снова песня заберет —
Разлук не видно, не было печали.
В последний раз затеем хоровод
Вокруг того, что молодостью звали.
По-разному нам было петь дано,
Певучий дом наш оскудел, как улей,
Не одному заказаны давно
Дороги к песне шашкой или пулей.
Не нам глаза печалить дотемна,
Мы их помянем, ладно. Выпьем, что ли!
Найти башку, потерянную в поле,
И зачерпнуть башкою той вина.
Приятель мой, затихни и взгляни:
Стоят березы в нищенской одежде,
Каленый глаз, мельканье головни, —
То набегают родины огни
Прибоями, как набегали прежде.
Ты расскажи мне, молодость, почто ж
Мы странную испытываем дрожь,
Родных дорог развертывая свиток,
И почему там даже воздух схож
С дыханьем матерей полузабытых?
И отступили гиблые леса,
И свет в окне раскрытом не затем ли,
Чтоб смолк суровый шепот колеса?
И то ли свет, и то ли горсть овса
Летит во тьме, не падая на землю.
Решайся же не протянуть руки.
Там за окном в удушные платки
Сестра твоя закутывает плечи,
Так, значит, крепко детство на замки
Запрятывает сердце человечье.
Запрятывает (прошлая теплынь!
Сады и ветер) сердце (а калитка
Распахнута). О, хищная полынь,
Бегущая наперерез кибитке!
Но сколько их влачилось здесь в пыли —
Героев наших, как они скитались,
Как жизни их, как мысли их текли,
Какие сны им по пути встречались!..
И Александр в метелях сих плутал —
О, бубны троек и копыт провал!
(Ночь пролетит, подковами мерцая,
В пустынный гул) – и Лермонтов их гнал
Так, что мешались звезды с бубенцами.
Охотницкою ветряною ранью
Некрасова мотал здесь тарантас.
Так начиналось ты, повествованье
Глухой зари и птичьего рыданья,
И только что нас проводивших глаз.
На песенных туманных переправах
Я задержался только потому,
Что мне еще неясно в первых главах,
О чем шептать герою моему,
Где он следы оставил за собою, —
Не видно их – так рано и темно, —
Что у него отобрано судьбою,
И что – людьми, и что ему дано.
Иль горсть весны и звонкий ковкий лед,
(А кони ржут) и холодок разлуки,
И череда веселья (поворот),
И от пожатий зябнущие руки.
Послушаем же карусельный ход
Его воспоминаний (утрясет
Такою ночью на таких путях),
Тому кибитка, может быть, виною.
В просветах небо низкое, родное.
Ах, эти юбки в розовых цветах,
Рассыпанных – куда попало! Ах,
Пшеничная прическа в два узла,
Широким гребнем схваченная наспех,
И скрученные, будто бы со зла,
Серебряные цепи на запястьях,
И золотой, чуть слышимый пушок,
Чуть различимый и почти невинный,
И бедра там, где стянут ремешок, —
Два лебедя, и даже привкус винный
Созревших губ, которых я не смог
Еще коснуться, но уже боюсь
Коснуться их примятых красных ягод.
………………………………………………….
……………………………………………………
Но слишком рано прошумят и лягут
Большие тени ветреных берез,
И пробежит берестовый мороз
Над нами, в нас.
Всё ж Настенька похожа
На розан ситцевый, как ни крути.
Под юбки бы… По золоченой коже
Скользить, скользить и родинку найти.
Я знаю: от ступни и до виска
Есть много жилок, и попробуй тронь их —
Сейчас же кровь проступит на ладони,
И сделается тоньше волоска
Твое дыханье, и сойдет на нет.
Там так темно, что отовсюду свет,
Как рядом с солнцем может быть темно,
Темно до звезд, тепло как в гнездах птичьих,
И столько радостей, что мудрено постичь их,
И не постичь их тоже мудрено.
Под юбки бы. Но в юбках столько складок,
Но воздух горек до того, что сладок.
………………………………………………….
……………………………………………………
Но дядя Яша ей сказал «нельзя»,
Да и к тому ж она меня боится.
Ну что ж, пускай, твой дядя не дурак,
Хитер он в меру, но не в этом сила…
Бесстыдная, ты ароматна так,
Как будто лето в травах пробродила,
Как будто раздевали догола
Тебя сто раз и всё же не узнали,
Как ты смеешься, до чего ты зла, —
Да и узнать удастся им едва ли.
Ты поднялась, и волосы упали —
Пшеничная прическа в два узла.
Проказница, теперь понятно мне…
Ты спуталась уже давно с другими.
Гудящая, как тетива, под ними,
Ты мечешься, безумная, во сне.
Ко мне прижавшись, думаешь о них,
Медовая, крутая, травяная,
И, тяжесть каждого припоминая,
Любого ждешь, любой тебе жених.
И да простится автору, что он
Подслушивал, как память шепчет это.
Он сам был в Настю по уши влюблен,
В рассвет озябший, в травяное лето,
В кувшин с колодезною темью и
В большое небо родины, в побаски
(В тех тальниковых дудках, помяни,
Древесные дудели соловьи
С полуночи до журавлиной пляски).
Пусть будет трижды мой расценщик прав,
Что нам теперь не до июньских трав
И что герою моему приличней
О тракторах припомнить в этот час.
Ведь было бы во много раз привычней,
Ведь было бы спокойней в сотню раз.
Но больше, чем страною всей, давно
Машин уборочных и посевных и разных
В стихах кудрявых, строчкой и бессвязных,
Поэтами уж произведено.
Я полон уваженья к тракторам,
Они нас за волосы к свету тянут,
Как те овсы, что вслед за ними встанут,
Они теперь необходимы нам.
Я сам давно у трактора учусь
И, если надо, плугом прицеплюсь,
Чтоб лемеха стальными лебедями
Проплыли в черноземе наших дней,
Но гул машин и теплый храп коней
По-разному овладевают нами.
Пускай же сын мой будущий прочтет,
Что здесь, в стране машины и колхоза,
В стране войны – был птичий перелет,
В моей стране существовали грозы.
1933
Сначала пробежал осинник,
Потом дубы прошли, потом,
Закутавшись в овчинах синих,
С размаху в бубны грянул гром.
Плясал огонь в глазах саженных,
А тучи стали на привал,
И дождь на травах обожженных
Копытами затанцевал.
Стал странен под раскрытым небом
Деревьев пригнутый разбег,
И всё равно как будто не был,
И если был – под этим небом
С землей сравнялся человек.
май 1932. Лубянка. Внутренняя тюрьма
В степях немятый снег дымится,
Но мне в метелях не пропасть, —
Одену руку в рукавицу
Горячую, как волчья пасть,
Плечистую надену шубу
И вспомяну любовь свою,
И чарку поцелуем в губы
С размаху насмерть загублю.
А там за крепкими сенями
Людей попутных сговор глух.
В последний раз печное пламя
Осыплет петушиный пух.
Я дверь раскрою, и потянет
Угаром банным, дымной тьмой…
О чем глаз на глаз нынче станет
Кума беседовать со мной?
Луну покажет из-под спуда,
Иль полыньей растопит лед,
Или синиц замерзших груду
Из рукава мне натрясет?
1933
1
Я, у которого
Над колыбелью
Коровьи морды
Склонялись мыча,
Отданный ярмарочному веселью,
Бивший по кону
Битком сплеча,
Бивший в ладони,
Битый бичом,
Сложные проходивший науки, —
Я говорю тебе, жизнь: нипочем
Не разлюблю твои жесткие руки!
Я видел, как ты
Голубям по весне
Бросала зерно
И овес кобылам.
Да здравствуют
Беды, что слала
Ко мне
Любовь к небесам
И землям постылым!
Ты увела меня босиком,
Нечесаного,
С мокрыми глазами,
Я слушался,
Не вспоминал ни о ком,
Я спал под
Вязами и возами.
Так глупый чурбан
Берут в топоры,
Так сено вздымают
Острые вилы.
За первую затяжку
Злой махры,
За водку, которой
Меня травила.
Я верю, что ты
Любила меня
И обо мне
Пеклася немало,
Задерживала
У чужого огня,
Учила хитрить
И в тюрьмы сажала;
Сводила с красоткой,
Сводила с ума,
Дурачила так,
Что пел по-щенячьи,
И вслух мне
Подсказывала сама
Глухое начало
Песни казачьей.
Ну что ж!
За всё ответить готов.
Да здравствует солнце
Над частоколом
Подсолнушных простоволосых голов!
Могучие крылья
Тех петухов,
Оравших над детством моим
Веселым!
Я, детеныш пшениц и ржи,
Верю в неслыханное счастье.
Ну-ка, попробуй, жизнь, отвяжи
Руки мои
От своих запястий!
2
И вот по дорогам, смеясь, иду,
Лучшего счастья
Нет на свете.
Перекликаются
Деревья в саду,
В волосы, в уши
Набивается ветер.
И мир гудит,
Прост и лучист.
Весла блестят
У речной переправы,
Трогает бровь
Сорвавшийся лист,
Ходят волной
Июльские травы.
Я ручаюсь
Травой любой,
Этим коровьим
Лугом отлогим,
Милая, даже
Встреча с тобой
Проще, чем встреча
С дождем в дороге,
Проще, чем встреча
С луной лесною,
С птичьей семьей,
С лисьей норой.
Пахнут руки твои
Весною,
Снегом,
Березовою корой…
А может быть, вовсе
Милой нету?
Вместо нее,
От меня на шаг,
Прячется камышовое лето
Возле реки в больших шалашах.
Так он жил,
Кипел листвою, дышал,
Выкраивал
Грешные, смертные души, —
Мир, который
Мне видим стал,
Который взял меня
На побегушки,
Который дыханьем
Дышит моим,
Работает моими руками.
Кроме меня, он
Занят другим —
Бурями, звездами, облаками.
Да здравствует
Грустноглазый вол,
Ронявший с губ
В мою зыбку сено,
И все, в ком
Участье я нашел,
Меня окружившие
Постепенно.
Жизнь,
Ты обступила кругом меня,
Всеми заботами
Ополчилась.
Славлю тебя,
Ни в чем не виня,
Каждый твой бой
Считая за милость.
3
Но вот наступает ночь, —
Когда
Была еще такая ж вторая,
Так же умевшая
Звезды толочь?
Может быть, вспомню ее, умирая.
Да, это ночь!
Ночь!..
Спи, моя мама.
Так же тебя —
Живу любя.
Видишь расщерины,
Волчьи ямы…
Стыдно, но
Я жалею себя.
Мне ночами
В Москве не спится.
Кроме себя
Мне детства жаль.
О, твои скромные
Платья ситцевые,
Руки, теребящие
Старую шаль!
Нет! Ни за что
Не вернусь назад,
Спи спокойно, моя дорогая.
Ночь,
И матери наши спят,
И высоко над ними стоят
Звезды, от горестей оберегая.
Но сыновья
Умней и хитрей,
Слушают трубы
Любви и боя,
В покое оставив
Матерей,
Споры решают
Между собою.
Они обветрели,
Стали мужами,
А мир
Разделен,
Прекрасен,
Вес о м.
Есть черное знамя
И красное знамя…
И красное знамя —
Мы несем.
Два стана плечи
Сомкнули плотно,
И мечется
Между ними холуй,
Боясь получить
Смерти почетный
Холодный девический
Поцелуй.
4
Теперь к черту
На кривые рога
Летят ромашки, стихи о лете.
Ты, жизнь,
Прекрасна и дорога
Тем, что не уместишься
В поэте.
Нет, ты пойдешь
Вперед, напролом,
Рушить
И строить на почве
Голой.
Мир неустроен, прост
И вес о м,
Позволь мне хоть
Пятым быть колесом
У колесницы
Твоей тяжелой.
Наперекор
Незрячим, глухим —
Вызнано мной:
Хороши иль плохи,
Начисто, ровно —
Всё равно
Вымрут стихи,
Не обагренные
Кровью эпохи.
И поплатится головой
Тот, кто, решив
Рассудить по-божьи,
Хитрой, припадочною строфой
Бьется у каменного подножья.
Он, нанюхавшийся свободы,
Муки прикидывает на безмен.
Кто его нанимал в счетоводы
Самой мучительной
Из перемен?
И стыдно —
Пока ты, прильнув к окну,
Залежи чувств
В башке своей роя,
Вырыдал, выгадал
Ночь одну —
Домну пустили
В Магнитострое.
Пока ты вымеривал
На ладонь,
На ощупь, на вкус
Значение мира,
Здорово там
Хохотал огонь
И улыбались бригадиры.
5
Мы позабываем слово «страх»,
Страх питает
Почву гнилую, —
Смерть у нас
На задних дворах,
Жизнь орудует напропалую.
Жизнь!
Неистребимая жизнь,
Влекущая этот мир
За собою!
И мы говорим:
– Мгновенье, мчись,
Как ленинская рука
Над толпою.
Как слово
И как бессмертье его,
Которые будут
Пожарами пыхать.
И смерть теперь —
Подтвержденье того,
Что жизнь —
Из нее единственный выход.
В садах и восстаньях
Путь пролег,
Веселой и грозной бурей
Опетый.
И нет для поэта
Иных дорог,
Кроме единственной в мире,
Этой.
И лучше быть ему запятой
В простых, как «победили»,
Декретах,
Чем жить
Предательством и немотой
Поэм, дурным дыханьем
Нагретых.
Какой почет!
Прекрасен как!
Вы любите славу?
Парень не промах.
Вы бьетесь в падучей
На руках
Пяти интеллигентных
Знакомых.
И я обижен, может быть,
Я весь, как в синяках, в обидах,
Нам нужно о мелочи поговорить —
В складках кожи
Гнездящихся гнидах.
6
Снова я вижу за пеленой
Памяти – в детстве, за годами,
Сходятся две слободы стеной,
Сжав кулаки, тряся бородами.
Хари хрустят, бьют сатанея,
И вдруг начинает
Орать народ:
– Вызвали
Гладышева
Евстигнея!
Расступайся – сила идет! —
И вот, заслоняя
Ясный день,
Плечи немыслимые топыря,
Сила вымахивает через плетень,
Неся кулаков пудовые гири.
И вот они по носам прошлись,
Ахнули мужики и кричат, рассеясь:
– Евстигней Алексеич, остепенись,
Остепенись, Евстигней Алексеич! —
А тот налево и направо
Кучи нагреб: – Подходи! Убью! —
Стенка таким
Одна лишь забава,
Таких не брали в равном бою.
Таких сначала поят вином,
Чтобы едва писал ногами,
И выпроваживают,
И за углом
Валят тяжелыми батогами.
Таких настигают
Темной темью
И в переулке – под шумок —
Бьют Евстигнешу
Гирькой в темя
Или ножом под левый сосок.
А потом в лачуге,
Когда, угарен,
В чашках
Пошатывается самогон,
Вспоминают его:
«Хороший парень!»
Перемигиваются: «Был силен!»
Нам предательство это знакомо,
Им лучший из лучших
Бывает бит,
Несметную силу ломит солома,
И сила,
Раскинув руки, лежит.
Она получает
Мелкую сдачу —
Петли, обезьяньи руки,
Ожог свинца.
Я ненавижу сговор собачий,
Торг вокруг головы певца!
Когда соловей
Рязанской земли
Мертвые руки
Скрестил – Есенин, —
Они на плечах его понесли,
С ним расставались,
Встав на колени.
Когда он,
Изведавший столько мук,
Свел короткие с жизнью счеты,
Они стихи писали ему,
Постыдные, как плевки
И блевота.
Будет!
Здесь платят большой ценой
За каждую песню.
Уходит плата
Не горечью, немочью и сединой,
А молодостью,
Невозвратимым раскатом.
Ты, революция,
Сухим
Бурь и восстаний
Хранящая порох,
Бей, не промахиваясь, по ним,
Трави их в сусличьих
Этих норах!
Бей в эту подлую, падлую мреть,
Томящуюся по любви дешевизне,
Чтоб легче было дышать и петь,
И жизнью гореть,
И двигаться с жизнью!
7
Ты страшен
Проказы мордою львиной,
Вчерашнего дня
Дремучий быт,
Не раз я тобою
Был опрокинут
И тяжкою лапой
Твоею бит.
Я слышу, как ты,
Теряющий силу,
За дверью роняешь
Плещущий шаг.
Не знаю, как
У собеседников было,
А у меня
Это было так:
Стоишь средь
Ковровотяжелых
И вялых,
И тут же рядом,
Рассевшись в ряд,
Глазища людей
Больших и малых
Встречаются
И разбежаться спешат.
И вроде как стыдновато немного,
И вроде
Тебе здесь любой
Совсем не нуж о н.
Но Ксенья Павловна
Заводит
Шипящий от похоти патефон.
И юбки, пахнущие
Заграницей,
Веют, комнату бороздя,
И Ксенья Павловна
Тонколица,
И багроволицы
Ее друзья.
Она прижимается
К этим близким
И вверх подымает
Стерляжий рот.
И ходит стриженный
По-английски
На деревянных
Ногах фокстрот.
И мужчины,
Словно ухваты,
Возле
Женщины-помела…
Жизнь!
Как меня занесла
Сюда ты?
И краснознаменца
Сюда занесла?
И я говорю
Ему: «Слов нету,
Пляшут,
Но, знаете, – не по душе.
У нас такое
Красное лето
И гнутый месяц
На Иртыше,
У нас тоже пляска,
Только та ли?
До наших
Танцоров
Им далеко-о».
А он отвечает:
«Мы тоже плясали
На каблуках,
Но под „Яблочко“».
Так пусть живут,
Любовью светясь,
Уведшей от бед
Певца своего, —
Иртышский
Ущербный гнутый месяц
И «Яблочко»,
Что уводило его!
8
Сквозь прорези этих
Темных окон,
Сквозь эту куриную
Узкую клеть
Самое прекраснейшее далёко
Начинает большими
Ветвями шуметь.
О нем возглашают
Шеренги орудий,
Сельскохозяйственных и боевых.
О нем надрываются
Медные груди
Оркестров
И тяжких тракторов дых.
О нем
На подступах новой эры,
Дома отцов
Обрекши на слом,
Поют на улице
Пионеры,
Красный кумач
Повязав узлом.
Я слышу его
В движеньи и в смехе…
Я не умею
В поэмах врать:
Я не бывал
В прокатном цехе,
Я желаю в нем побывать.
Я имею в песнях сноровку, —
Может быть, кто-то
От этого – в смех,
Дайте, товарищи,
Мне путевку
В самый ударный
Прокатный цех.
Чтоб меня
Как следует
Там катали,
Чтоб в работе
Я стал нуж о н,
Чтобы песнь родилась —
Не та ли,
Для которой
Я был рожден?
1933








