Сочинения. Письма
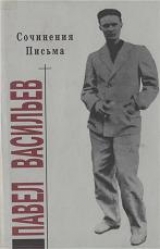
Текст книги "Сочинения. Письма"
Автор книги: Сергей Куняев
Соавторы: Павел Васильев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб видно было море-океан,
Чтоб доносило ветром дальний запах
Матросских трубок, песни поморян.
Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб под окно к нам Индия пришла
В павлиньих перьях, на слоновых лапах,
Ее товары – золотая мгла.
Граненные веками зеркала…
Потребуй же, чтоб шла она на запад
И встретиться с варягами могла.
Гори светлей! Ты молода и в силе,
Возле тебя мне дышится легко.
Построй мне дом, чтоб окна запад пили,
Чтоб в нем играл заморский гость Садко
На гуслях мачт коммерческих флотилий!
1930
И имя твое, словно старая песня,
Приходит ко мне. Кто его запретит?
Кто его перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея —
Опаленными перьями фитилей…
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры!
Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,
Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с юга.
Выпускай же на волю своих лебедей! —
Красно солнышко падает в синее море
И —
за пазухой прячется ножик-злодей,
И —
голодной собакой шатается горе…
Если всё, как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю – сквозь вихри разбега,
Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звезды российского снега.
Лето 1930
Гале Анучиной
Так мы идем с тобой и балагурим.
Любимая! Легка твоя рука!
С покатых крыш церквей, казарм и тюрем
Слетают голуби и облака.
Они теперь шумят над каждым домом,
И воздух весь черемухой пропах.
Вновь старый Омск нам кажется знакомым,
Как старый друг, оставленный в степях.
Сквозь свет и свежесть улиц этих длинных
Былого стертых не ищи следов, —
Нас встретит благовестью листьев тополиных
Окраинная троица садов.
Закат плывет в повечеревших водах,
И самой лучшей из моих находок
Не ты ль была? Тебя ли я нашел,
Как звонкую подкову на дороге,
Поруку счастья? Грохотали дроги,
Устали звезды говорить о боге,
И девушки играли в волейбол.
12 декабря 1930
В том и заключается мудрость
мудрейшего —
Не смущаться ничем,
Целую зиму спокойно ожидать
Наступления лета.
1931
Я – сначала – к подруге пришел
И сказал ей:
«Всё хорошо,
Я люблю лишь одну тебя,
Остальное всё – чепуха».
Отвечала подруга:
«Нет,
Я люблю сразу двух, и трех,
И тебя могу полюбить,
Если хочешь четвертым быть».
Я сказал тогда:
«Хорошо,
Я прощаю тебе всех трех,
И еще пятнадцать прощу,
Если первым меня возьмешь».
Рассмеялась подруга:
«Нет,
Слишком жадны твои глаза,
Научись сначала, мой друг,
По-собачьи за мной ходить».
Я ответил ей:
«Хорошо,
Я согласен собакой быть,
Но позволь, подруга, тогда
По-собачьи тебя любить».
Отвернулась подруга:
«Нет,
Слишком ты тороплив, мой друг,
Ты сначала вой на луну,
Чтобы было приятно мне!»
– «Привередница, – хорошо!»
Я ушел от нее в слезах,
И любил
Девок двух, и трех,
А потом пятнадцать еще.
И пришла подруга ко мне,
И сказала:
«Всё хорошо,
Я люблю одного тебя,
Остальные же – чепуха…»
Грустно сделалось
Мне тогда.
Нет, подумал я, никогда, —
Чтоб могла
От обидных слов
По-собачьи завыть душа!
1931
Белые, рыжие и гнедые
Вьюги кружатся по степи,
Самые знатные скакуны
На сабантуе
Грызут удила.
Всадники, приготовьтесь!
Состязаются Куянды,
Павлодар и Каркаралы.
У собравшихся
На сабантуй
Рты разинуты и глаза.
Всадники, приготовьтесь!
Мы увидим сейчас,
Сейчас узнаем мы,
Кто останется
Победителем.
Припасен мешок с серебром.
Всадники, приготовьтесь!
Вот вы уже начали,
Кони, словно нагайки,
Вытянулись на бегу.
Всадники, побеждайте!
1931
Крест поставлен над гробом Марьей Иванной
И о плечи засыпан глухим песком.
Сам же Васька ходили в одежде драной
И крестились всю жизнь одним клинком.
Не однажды справлялись его крестины
У обстрелянных дочиста переправ,
Даже мать и та не узнала сына,
Когда он воскреснул, сто раз умирав,
И когда под Баяном считали сбитым
Пулей, саблей зарубленным, снятым штыком,
Он под самой станицей Подстепной грозит им
И клыкастое войско ведет косяком.
Но на счастье такое возьми понадейся:
Пожалеет, полюбит, а до поры
Получил свою пулю Василий в сердце
Да ворвался все же первым в дворы.
И гарцует этаким херувимом,
Чистой своей кровью пьяный в дым,
А тут его команда с матерным дымом
Сабли навыворот и за ним!..
И покуда пробовали разобраться,
Кто в чем попало, а кто в чем смог,
Один из недогубленных гаркнул: «Братцы,
Между прочим Васькинное письмо».
Васька ж писал: «Дорогая мамаша,
Ты меня должна понимать без слов,
Мир кверху тормашками. Жизня ж наша
Самое блистательное рукомесло.
А моя же песня до краю спета,
Потому – атака… Можешь считать,
Что письмо написано с того света
И в видах имеет не одну мать.
Выпалим все дочиста. Будет житься
В тысячу прекрасней тою порой,
А пока имеешь право гордиться,
Что сын твой допахался, как красный герой.
Письмо обрубаю. Погода на ночь.
Смертельно и без шапки целую, мамусь,
Еще низко кланяюсь Петру Степанычу
С прочим домочадцем. Затем остаюсь».
1931
Сердечный мой,
Мне говор твой знаком.
Я о тебе припомнил, как о брате,
Вспоенный полносочным молоком
Твоих коров, мычащих на закате.
Я вижу их, – они идут, пыля,
Склонив рога, раскачивая вымя.
И кланяются низко тополя,
Калитки раскрывая перед ними.
И улицы!
Все в листьях, все в пыли.
Прислушайся, припомни – не вчера ли
По Троицкой мы с песнями прошли
И в прятки на Потанинской играли?
Не здесь ли, раздвигая камыши,
Почуяв одичавшую свободу,
Ныряли, как тяжелые ковши,
Рябые утки в утреннюю воду?
Так ветреней был облак надо мной,
И дни летели, ветреные сами.
Играло детство с легкою волной,
Вперясь в нее пытливыми глазами.
Я вырос парнем с медью в волосах.
И вот настало время для элегий:
Я уезжал. И прыгали в овсах
Костистые и хриплые телеги.
Да, мне тогда хотелось сгоряча
(Я по-другому жить И думать мог ли?),
Чтоб жерди разлетелись, грохоча,
Колеса – в кат, и лошади издохли!
И вот я вновь
Нашел в тебе приют,
Мой Павлодар, мой город ястребиный.
Зажмурь глаза – по сердцу пробегут
Июльский гул и лепет сентябриный.
Амбары, палисадник, старый дом
В черемухе,
Приречных ветров шалость, —
Как ни стараюсь высмотреть – кругом
Как будто всё по-прежнему осталось.
Цветет герань
В расхлопнутом окне,
И даль маячит старой колокольней.
Но не дает остановиться мне
Пшеницын Юрий, мой товарищ школьный,
Мы вызубрили дружбу с ним давно,
Мы спаяны большим воспоминаньем,
Похожим на безумье и вино…
Мы думать никогда не перестанем,
Что лучшая
Давно прошла пора,
Когда собаку мы с ним чли за тигра,
Ведя вдвоем средь скотного двора
Веселые охотницкие игры.
Что прошлое!
Его уж нет в живых.
Мы возмужали, выросли под бурей
Гражданских войн.
Пусть этот вечер тих, —
Строительство окраин городских
Мне с важностью
Показывает Юрий.
Он говорит: «Внимательней взгляни,
Иная жизнь грохочет перед нами,
Ведь раньше здесь
Лишь мельницы одни
Махали деревянными руками.
Но мельники все прокляли завод,
Советское, антихристово чудо.
Через неделю первых в этот год
Стальных коней
Мы выпустим отсюда!»
…С лугов приречных
Льется ветр звеня,
И в сердце вновь
Чувств песенная замять…
А, это теплой
Мордою коня
Меня опять
В плечо толкает память!
Так для нее я приготовил кнут —
Хлещи ее по морде домоседской,
По отроческой, юношеской, детской!
Бей, бей ее, как непокорных бьют!
Пусть взорван шорох прежней тишины
И далеки приятельские лица, —
С промышленными нуждами страны
Поэзия должна теперь сдружиться.
И я смотрю,
Как в пламени зари,
Под облачною высотою,
Полынные родные пустыри
Завод одел железною листвою.
1931
Виктору Уфимцеву
Захлебываясь пеной слюдяной,
Он слушает, кочевничий и вьюжий,
Тревожный свист осатаневшей стужи,
И азиатский, туркестанский зной
Отяжелел в глазах его верблюжьих.
Солончаковой степью осужден
Таскать горбы и беспокойных жен,
И впитывать костров полынный запах,
И стлать следов запутанную нить,
И бубенцы пустяшные носить
На осторожных и косматых лапах.
Но приглядись, – в глазах его туман
Раздумья и величья долгих странствий…
Что ищет он в раскинутом пространстве,
Состарившийся, хмурый богдыхан?
О чем он думает, надбровья сдвинув туже?
Какие мекки, древний, посетил?
Цветет бурьян. И одиноко кружат
Четыре коршуна над плитами могил.
На лицах медь чеканного загара,
Ковром пустынь разостлана трава,
И солнцем выжжена мятежная Хива,
И шелестят бухарские базары…
Хитра рука, сурова мудрость мулл, —
И вот опять над городом блеснул
Ущербный полумесяц минаретов
Сквозь решето огней, теней и светов.
Немеркнущая, ветреная синь
Глухих озер. И пряный холод дынь,
И щит владык, и гром ударов мерных
Гаремным пляскам, смерти, песне в такт,
И высоко подъяты на шестах
Отрубленные головы неверных!
Проказа шла по воспаленным лбам,
Шла кавалерия
Сквозь серый цвет пехоты, —
На всем скаку хлестали по горбам
Отстегнутые ленты пулемета.
Бессонна жадность деспотов Хивы,
Прошелестят бухарские базары…
Но на буграх лохматой головы
Тяжелые ладони комиссара.
Приказ. Поход. И пулемет, стуча
На бездорожье сбившихся разведок,
В цветном песке воинственного бреда
Отыскивает шашку басмача.
Луна. Палатки. Выстрелы. И снова
Медлительные крики часового.
Шли, падали и снова шли вперед,
Подняв штыки, в чехлы укрыв знамена,
Бессонницей красноармейских рот
И краснозвездной песней батальонов.
…Так он, скосив тяжелые глаза,
Глядит на мир, торжественный и строгий,
Распутывая старые дороги,
Которые когда-то завязал.
1931
Ты, конечно, знаешь, что сохранилась страна одна;
В камне, в песке, в озерах, в травах лежит страна.
И тяжелые ветры в травах ее живут,
Волнуют ее озера, камень точат, песок метут.
Все в городах остались, в постелях своих, лишь мы
Ищем ее молчанье, ищем соленой тьмы.
Возле костра высокого, забыв про горе свое,
Снимаем штиблеты, моем ноги водой ее.
Да, они устали, пешеходов ноги, они
Шагали, не переставая, не зная, что есть огни,
Не зная, что сохранилась каменная страна,
Где ждут озера, солью пропитанные до дна,
Где можно строить жилища для жен своих и детей,
Где можно небо увидеть, потерянное меж ветвей.
Нет, нас вели не разум, не любовь, и нет, не война, —
Мы шли к тебе словно в гости, каменная страна.
Мы, мужчины, с глазами, повернутыми на восток,
Ничего под собой не слышали, кроме идущих ног.
Нас на больших дорогах мира снегами жгло;
Там, за белым морем, оставлено ты, тепло,
Хранящееся в овчинах, в тулупах, в душных печах
И в драгоценных шкурах у девушек на плечах.
Остались еще дороги для нас на нашей земле,
Сладка походная пища, хохочет она в котле, —
В котлах ослепшие рыбы ныряют, пена блестит,
Наш сон полынным полымем, белой палаткой крыт.
Руками хватая заступ, хватая без лишних слов,
Мы приходим на смену строителям броневиков,
И переходники видят, что мы одни сохраним
Железо, и электричество, и трав полуденный дым,
И золотое тело, стремящееся к воде,
И древнюю человечью любовь к соседней звезде…
Да, мы до нее достигнем, мы крепче вас и сильней,
И пусть нам старый Бетховен сыграет бурю на ней!
1931
Омск в голубом морозе, как во сне.
Огни и звезды. Ветер встал на лыжи,
Его пути известны – он пройдет
До Павлодара и снега поднимет,
И пустит их, что стаю гончих псов,
Ослепнувших от близости добычи.
Но самоварный, хитренький фальцет
По-азиатски тянется и клонит
Всё к одному, что вот, мол, брат, уют —
Тепла и чая до рассвета хватит.
Давайте, дескать, мы поговорим
О том, о сем до первой позевоты…
Да, самовар покладист, толст и рыж,
Он в Туле слит и искренно желает,
Чтоб на него хозяин походил.
Но зорко смотрит Трубки волчий глаз.
Дым табака беспечен, тонок, – он
Подобье океанского тумана.
А сам хозяин хмурый столько раз
Прошел огни и воды, что давно уж
Те на него рукой махнули. Был
Он командиром партизанской стаи.
Еще видны следы его коня
Под Зерендой, Челябинском и Тарой.
Пусть, пронося Британии штандарт,
Шли батальоны короля Георга
И пели, маршируя: «Долог путь
До Типперэри…» Хороши туристы!
Их «М а ксим» пересчитывал, как мог,
Их сабли гладили
Заботливо, что надо.
О, как до Типперэри далеко!
До неба ближе…
…Говорит хозяин:
«На лыжи встанем завтра и пойдем
Пятнадцать верст —
Не больше, до комбайна
Пятнадцать верст!
А сколько мы прошли
Бессчетных верст,
Чтоб встало это утро!»
1931
Сначала поезда как бы во сне
Катились, отдаваясь длинным, гулким —
Стоверстным эхом.
О свиданья дне, —
Заранее известно было мне,
Мы совершали дачные прогулки,
Едва догадываясь о весне.
Весна же просто нежилась пока
В твоих глазах.
В твоих глазах зеленых
Мелькали ветки, небо, облака —
Мы ехали в трясущихся вагонах.
Так мир перемещался на оси
Своей, согласно общему движенью,
У всех перед глазами.
Колеси,
Кровь бешеная, бейся без стесненья
В ладони нам, в сухой фанер виска.
Не трогая ничем, не замечая
Раздумья, милицейского свистка, —
Твой скрытый бег, как целый мир,
случаен…
И разговор случаен… И к ответу
Притянут в нем весь круг твоих забот,
И этот день, и пара рваных бот,
И даже я – все это канет в Лету.
Так я смеюсь. И вот уж наконец
Разлучены мы с целым страшным
веком —
Тому свидетель ноющий слепец
С горошиной под заведенным веком.
Ведь он хитрил всегда. И даже здесь,
В моих стихах. Морщинистым и старым
Он два столетья шлялся по базарам —
И руку протянул нам…
– Инга, есть
Немного мелочи. Отдай ему ее. —
Ведь я тебя приобретал без сдачи.
Клянусь я всем, что видит он с мое…
…………………………………………………….
И тормоза… И кунцевские дачи.
Вот отступленье: ясно вижу я,
Пока весна, пока земля потела,
Ты счастие двух мелких буржуа,
Республика, ей-богу, проглядела.
И мудрено ль, что вижу я сквозь дым
Теперь одни лишь возгласы и лица.
Республика, ты разрешила им
Сплетать ладони, плакать и плодиться.
Ты радоваться разрешила. Ах,
А если нет? Подумаешь – обида!
Мы погрешим, покудова монах
Еще нам индульгенции не выдал.
Но ты… не понимаешь слов, ты вся,
До перышка, падений жаждешь снова
И, глазом недоверчиво кося,
С себя старье снимаешь и обновы.
Но комнатка. Но комнатка!
Сам бог Ее, наверно, вымерял аршином —
Она, как я к тебе привыкнуть смог,
Привыкла к поздравленьям
матерщинным.
Се вызов совершенству всех Европ —
Наполовину в тишину влюбленный,
Наполовину негодующий… А клоп
Застынувший – как поп перед иконой!
А зеркальце разбитое – звездой.
А фартучек, который не дошила…
А вся сама ты излучаешь зной…
…………………………………………………..
Повертываюсь. Я тебя не знал
До этих пор. Обрызганная смехом,
Просторная, как счастье, белизна,
Меж бедер отороченная мехом.
Лебяжьей шеей выгнута рука,
И алый след от скинутых подвязок…
Ты тяжела, как золото, легка,
Как легкий пух полузабытых сказок.
Исчезло все. И только двое нас.
По хребтовине холодок, но ранний,
И я тебя, нацеливаясь, враз
Охватываю вдруг по-обезьяньи.
Жеманница! Ты туфель не сняла.
Как высоки они! Как высоко взлетели!
Нет ничего. Нет берега и цели.
Лишь радостные, хриплые тела
По безразличной мечутся постели.
Пускай узнает старая кровать
Двух счастий вес. Пусть принимает
милость
Таить, молчать и до поры скрывать,
Ведь этому она не разучилась.
Ага, кричишь? Я научу забыть,
Идти, бежать, перегонять и мчаться,
Ты не имеешь права равной быть.
Но ты имеешь право задыхаться.
Ты падаешь. Ты стынешь. Падай,
стынь,
Для нас, для окаянных, обреченных.
Да здравствуют наездники пустынь,
Взнуздавшие коней неукрощенных!
Да здравствует… Еще, еще… И бред
Раздвинутый, как эти бедра… Мимо.
Пусть волны хлещут, пусть погаснет свет
В багровых клочьях
скрученного дыма,
Пусть, слышишь ты…
Как рассветало рано.
Тринадцатое? Значит, быть беде!
И мы в плену пустячного обмана,
Переплелись, не разберешь – кто где…
– Плутовка. Драгоценная. Позор.
Как ни крути – ты выглядишь
по-курьи.
Целуемся. И вот вам разговор.
Лежим и, переругиваясь, курим.
1931
Город, косно задуманный, помнит еще,
Как лобастые плотники из-под Тары
Проверяли ладонью шершавый расчет,
Срубы наспех сбивали и воздвигали амбары.
Он еще не забыл, как в харчевнях кумыс
Основатели пили. Седой, многоокий,
Он едва подсчитал, сколько пламенных лис
Уходило на старый закат над протокой,
Сколько шло по кабаньим загривкам осок
Табунов лошадиных,
Верблюжьего рева, буранов,
Как блестел под откормленным облаком
Рыжий песок,
Кто торгует на ярмарке
Облачной шерстью баранов.
Город косно задуман, как скупость и лень.
Зажигались огни пароходов, горели и тухли,
И купеческой дочкой росла в палисадах сирень,
Оправляя багровые, чуть поседелые букли.
Голубиные стаи клубились в пыли площадей,
Он бросал им пшеницы, он тешился властью.
Он еще не забыл, сколько шло лебедей
На перины, разбухшие от сладострастья.
Пух на крепких дрожжах, а его повара
Бочки с медом катили, ступая по-бычьи,
И пластали ножами разнеженный жир осетра,
Розоватый и тонкий, как нежные пальцы девичьи.
Так стоял он сто лет, разминая свои
Тяжелевшие ноги, не зная преграды,
На рабочей, рыбацкой, на человечьей крови,
Охраняемый каменной бабой форштада.
Мы врага в нем узнали, и залп батарей
Грянул в хитрую морду, рябую, что соты.
Он раскинулся цепью тогда
В лебеде пустырей
И расставил кулацкие пулеметы.
В черной оспе рубли его были, и шли
Самой звонкой монетой за то, чтобы снова
Тишина устоялась. Но мы на него пронесли
Все штыки нашей злобы, не веря на слово
Увереньям улыбчивым. Он притворялся:
«Сдаюсь!»
Революции пулеметное сердцебиенье
Мы, восставшие, знали тогда наизусть,
Гулким сабельным фронтом ведя наступленье.
И теперь, пусть разбитый,
Но не добитый еще
Наступлением нашим – прибоем высоким,
Он неверной рукой проверяет расчет,
Шарит в небе глазами трахомными окон.
Но лабазы купецкие снесены,
Встали твердо литые хребты комбината,
В ослепительном свете электролуны
Запевают в бригадах
Советские песни ребята.
Новый город всё явственней и веселей,
Всё быстрей поднимается в небо сырое,
И красавицы сосны плывут по реке без ветвей,
Чтоб стропилами встать
Вкруг огней новостроек.
Так удержим равнение на бегу —
Все пространства распахнуты перед нами.
Ни пощады, ни передышки врагу, —
Мы добьем его с песней
Горячей, как пламя!
Новый город построим мы, превратив
В самый жаркий рассвет
Безрассветные ночи.
И гремят экскаваторы, в щебень зарыв
Свои жесткие руки чернорабочих.
1932
Коршун, коршун —
Ржавый самострел,
Рыжим снегом падаешь и таешь!
Расскажи мне,
Что ты подсмотрел
На земле,
Покудова летел?
Где ты падешь, или еще не знаешь?
Пыль, как пламя и змея, гремит.
Кто,
Когда,
Какой тяжелой силой
Стер печаль с позеленевших плит?
Плосколиц
И остроскул гранит
Над татарской сгорбленной могилой.
Здесь осталась мудрая арыбь.
Буквы – словно перстни и подковы,
Их сожгла кочующая зыбь
Глохнущих песков.
Но даже выпь
Поняла бы надписи с полслова.
Не отыщешь влаги —
Воздух пей!
Сух и желт солончаковый глянец.
Здесь,
Среди неведомых степей,
Идолы —
Подобие людей,
Потерявших песню и румянец.
Вот они на корточках сидят.
Синие тарантулы под ними
Копят яд
И расточают яд,
Жаля птиц не целясь,
Наугад,
Становясь от радости седыми.
Седина!
Я знаю – ты живешь
В каменной могильной колыбели,
И твоя испытанная дрожь
Пробегает, как по горлу нож, —
Даже горы
За ночь поседели!
Есть такие ночи!
Пел огонь.
Развалясь на жирном одеяле,
Кашевар
Протягивал ладонь
Над огнем,
Смеялся:
«Только тронь!»
А котлы до пены хохотали.
И покамест тананчинский бог
Комаров просеивал сквозь сито,
Мастера грохочущих дорог
Раздробили на степной чертог
Самые прекраснейшие плиты…
Шибко коршун по ветру плывет,
Будто улетает в неизвестность.
Рельсы
Тронув пальцами, как лед,
Говорит начальник:
«Наперед
Мы, товарищ, знали эту местность.
Вся она обведена каймой
Соляных озер
И гор белками,
Шастать невозможно стороной,
У дороги будет путь прямой.
Мы не коршуны,
Чтоб плыть кругами».
А в палатках белых до зари
На руках веселых поднимали
Песню
К самым звездам:
«На, бери!»
Улыбались меж собой:
«Кури, кури,
За здоровье нашей магистрали!»
Мы пришли
К невидимой стране
Сквозь туннели,
По мостам горбатым,
При большой, как озеро, луне,
В солнце,
В буре,
В пляшущем огне,
Счастье вверив песне и лопатам.
И когда, рыча,
Рванулся скреп,
По виску нацелившись соседу,
Рухнул мертвым тот,
Но не ослеп,
Отразив в глазах своих победу.
Смутное,
Как омут янтаря,
Пело небо над огнем привала.
Остывал товарищ,
Как заря
В сумеречном небе остывала.
Коршун, коршун —
Ржавый самострел,
Рыжим снегом падаешь и таешь.
Эту смерть
Не ты ли подсмотрел,
Ты, который по небу летел?
Падай!
Падай!
Или ты не знаешь?
Лжет твоя могильная арыбь,
Перстни лгут, и лгут ее подковы.
Не страшна
Нам медленная зыбь
Всех пустынь,
Всех снов!
И даже выпь,
Нос уткнувши, плачет бестолково.
Мертвая,
А всё ж рука крепка.
Смерть его
Почетна и легка.
Пусть века свернут арыби свиток.
Он унес в глазах своих раскрытых
Холод рельс,
Пески
И облака.
1932








