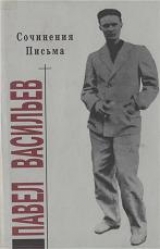
Текст книги "Сочинения. Письма"
Автор книги: Сергей Куняев
Соавторы: Павел Васильев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
12
Спирт был у нас на относительном учете, но якуту удалось каким-то образом выпить. Речь его становилась хвастливее и горячее.
– …Все хуже и хуже у Большого Охотника память. Да и глаз не тот. Только все-таки плохо придется тому зверю, который встретится с Большим Охотником на тропинках охоты.
…Первый снег упал у Яблонового. И такой глубокий снег, что целовать его хочется. Самый хороший снег для следу. Капкан шел осматривать Большой Охотник. Не попался ли соболь сереброспинный или драгоценная куница. Капкан шел осматривать. Только видит след. Тонконогий изюбр прошел. Рыхлый след, недавний. Два патрона в бердане – на изюбра хватит… По следу вперед, вперед. Мелькнула узкая таежная просека, да вдруг покачнулась, заметалась из стороны в сторону. Густым пятном на снегу изюбр, – два тигра над ним седые усы склонили. А третий по поляне – прыжками, прыжками. Играет. Оттого, должно быть, и металась поляна.
Два патрона в запасе, – что делать? А тигр сощурил зеленые свои глаза. И каждый глаз луною всходит. Э-э!
Большой Охотник приклад к плечу – раз! Животом припал к снегу тигр, тыкается вперед мордой. Настигла смерть. А другие отпрянули от добычи. И тот, что крупней и могучей, вдруг взмахнул хвостом и – весь полосатый, пестрый – рванулся навстречу выстрелам. На лету сшиб его Большой Охотник. Только тайга от смелого выстрела вздрогнула и закачалась тяжело и опасно.
Упал зверь на снег, взрыл его глубоко и пошел предсмертными, слепыми прыжками оканчивать путь свой. Отскочил охотник, а зверь широко взмахнул лапой. Стояла рядом белокожая высокая береза. Пополам березу перервал зверь.
А третий тигр – матка седохребетая – в сторону да в сторону, в сопки ушла.
По старым следам бежал к стойбе Большой Охотник. Добрался, – товарищи лица не узнали. Бледнеет человек от страха. Долго караулила тигрица два распластавшихся на поляне застывших тела. Якуты пойти за шкурами боялись. Но потом ушел одинокий зверь…
На дошке Большого Охотника двумя рубцеватыми узкими полосами вшиты тигровые хвосты. Вокруг них – лучистый, мягкий свет соболя.
Трубка давно остыла, остыл рассказ. Брутцкий тяжело обвивает крючковатыми руками колени и смотрит вперед долгим хмурым взглядом.
– Да… опасная жись!..
13
От нависшего чада, от долгих разговоров помутнело в голове. Я выполз сквозь узкий вход на снег. Над мелкой известковой решеткой березняка вздымались черные мохнатые сосны. Казалось, они мерно пошатывались в напоенном свеже-синем воздухе. Солнце висело над самым горизонтом, горячее и багровое, как обливающийся кровью звериный глаз.
Я вскинул через плечо винтовку и надел лыжи. Мороз колол лицо тысячами игл. Лыжи гулко скользнули по горбатому, отдувшемуся насту. Мимо бесшумно проходили темные толпы кустарника. Тайга медленно окружала меня звенящими колоннами пихт и сосен. Снег казался почти голубым. Стояла заколдованная просторная тишина. Нежданно откуда-то сорвалась тяжелая, ширококрылая сова.
Широко расплескалась невыразимая, пьянящая свежесть. Я проносил сквозь мороз разгорячившееся, непомерно легкое тело. Едва потух закат, а уж над тайгой надменно поднималась ясная, окруженная белой каймой луна. Казалось, она неминуемо наткнется на одну из сучковатых веток, протянувшихся в небо.
Луна бренчит, как древняя монета,
Но надписи на ней не прочитать…
Снег пенился нежнейшими, блистающими цветами. Оглушительно звенела ночь.
14
– Закорячивай!
– Злобней над-д-да!
– Чиво рот разинул?
– Хо-хо-хо!
– Эг-г-г-ей!..
Вновь выбегая на равнины, плясала тайга, вновь вздымался ветер, подкашивая собачьи упряжки. Приискатели срывались с нарт и гигантскими прыжками бежали вслед за поездом. Проводники задыхались от радостного и грозного крика:
– Эг-г-г-ей!..
– Гони!
– Обратно! Обратно!
На всем ходу техник высовывает из груды козьих шкур похудевшее, опавшее лицо.
– Однако, какое прекрасное слово «обратно»! Не подозревал. Скажите, любите вы черный кофе с лимоном? Великолепная штука!
В голосе техника – оттенок мечтательности.
– Знаете, хороший борщ, отбивная котлета и за чаем краковская колбаса! А? Это, черт возьми, вам не Кервуд! Это, брат, проза! Да что вы молчите? Человек должен везде говорить. Еще немного, и, мне кажется, я разучился бы говорить. Нет! Меня положительно возмущает ваше молчание! Тьфу ты!
Техник нырнул в джунгли козьих шкур. Было слышно, как он декламирует:
Блеснет заутра луч денницы,
И заиграет яркий день.
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень…
Спустя некоторое время голова его опять поднялась над нартами:
– Всего «Евгения Онегина», слышите вы, читаю подряд! Всего «Евгения Онегина»! Со скукой нужно бороться организованно.
15
Техник заболел. Он лежал в чуме на блестящих лосиных шкурах, в бреду кричал. В неясной мгле его лицо изменилось и походило на бледное, кривляющееся пламя свечи.
– …Лирика, «Евгений Онегин», черт возьми! Отрицаю! Борщ? Отрицаю! К дьяволу – «обратно»!.. Существует только – вперед! Утверждаю!
Он приподнимался и вперял во тьму невидящий полубезумный взгляд:
– Да здравствуют драги! Я покажу вам, чего можно достичь!
Припадок затихал, и техник неподвижно раскидывался худым и неживым телом. На лбу у него выступали редкие холодные капли пота.
Мы дежурили над ним всю ночь, успокаивали, меняли компрессы. Рано утром он пришел в себя, долго, тихо и настойчиво глядел вперед. Потом повернул голову к Брутцкому:
– Что же мы не едем?
– Остановку до выздоровления вашего решили сделать…
– Никаких остановок! Осталось двое суток, а вы – остановку. Не допущу! И потом я здесь могу подохнуть. К доктору! Укутайте меня, в нарты – и дальше.
Мы посовещались и решили ехать.
Кругом уже чувствовалось дыхание приисков. У якутов – ситец и чай. Один за другим стали попадаться знакомые приискатели. Мы попали на утрамбованный нартами путь. Две ночи ночевали еще. Одну – у охотников, в теплых, смолистых избах, вторую – в шалашах смологонов.
А на третью ночь чудесными туманными созвездиями метнулись нам навстречу огни Норского Склада.
16
Утром приехал заведующий приисками Федор Цетлин. Я увидел его возле отделения Госторга. Он стоял среди приискателей и сурово и убедительно о чем-то говорил им. Я накинул доху и вышел на улицу. Тонкая ладонь Цетлина впилась в мою руку крепким пожатием:
– Спасибо!.. Здорово!..
Я взглянул на его покрытое синей тенью волос небритое лицо.
– А техник-то, слышали?
– Уже был у него. Воспаление легких. Но ничего. Мы его поднимем на ноги.
Цетлин опустил глаза и вдруг оживился:
– А у нас, знаете? Школа… Клуб… Две радиоустановки… Организованность. С гордостью утверждаю – пьянка сокращена до последнего минимума. Но еще нужно бороться. Вы – нам неоценимый подарок. Отдохнете с недельку, а потом за культработу.
У Цетлина блестели глаза. Он распахнул доху и вынул тяжелые серебряные часы.
– Ого! Восемь часов. Пора собираться на Майский прииск. Потом расскажете мне подробности.
…Из загона выводили оленей.
17
На койке в углу барака о чем-то сосредоточенно и выразительно шептались демобилизованный красноармеец-комсомолец Моторный и Катовщиков. Я прислушался.
– А вы откуда к нам пожаловали? – тонко шипел Моторный, театрально взмахивая рукой. – Только что с партсобрания?..
– С партсобрания, – внушительно и гулко вторил за ним Катовщиков.
– Однако как у вас здесь хорошо, чисто, опрятно, – поводил головой Моторный.
– Опрятно! – свирепо хмуря брови, рычал Катовщиков.
Я приподнялся:
– Чем это вы, ребята, занялись?
Катовщиков смутился и отвел глаза, но Моторный весело подмигнул мне:
– Репетируем. Катовщиков роль свою готовит.
– Какую роль?
– А вы разве не слышали? На днях спектакль ставим.
– Ответственного коммуниста дали играть, – не выдержав, широко и довольно улыбнулся Катовщиков. – Сам читать-то не могу, так вот он мне и разъясняет.
На приисках кипела упорная работа. Артели целые дни проводили на шурфах, а вечерами собирались в клубе. Под клуб отремонтировали барак. На бревенчатых, грубо обтесанных стенах висел красный плакат с портретом Ленина.
Нужно было собираться в город. За несколько дней до моего отъезда на Майский прибыл выздоровевший техник. Бритый и худой, он выглядел странно-незнакомо. Знакомы были только близорукие глаза да немного ослабевший голос. Он обнял меня за плечи.
– Уезжаете? Жаль! А я на работу. Цетлин просил подождать. Как хотите, – я не могу, не терпится. Берусь за ликвидацию неграмотности. В сущности – легкая работа, тот же отдых.
18
Спустя еще полтора месяца я сидел на балконе владивостокского отеля, пил чай и разговаривал с исследователем дальневосточного края Арсеньевым.
Над острыми крышами каменных кварталов легко покачивался оранжевый закат. Внизу по седому ровному асфальту с ревом проносились багровоглазые длинные автомобили.
Видно было, как стоящие в бухте иностранные корабли зажигают огни на мачтах. Плыл мягкий, пахнущий морем туман.
Арсеньев протянул вперед руку:
– Вот там, где грохочет сейчас Эгершель, когда-то мы зажигали одинокие костры и охотились на диких коз. На месте железнодорожного депо щерились непроходимые трущобные заросли и по ночам выходил на охоту уссурийский тигр. Очевидно, мы завоевываем первобытное…
Я кивнул головой. Мне вспомнилась огромная, торжественно белая пустыня, собачий поезд и кричащий техник:
– Во имя страны! Во имя драг!..
– Вперед!
1929–1930
ЛЮДИ В ТАЙГЕI
Я прибыл на прииски осенью. Мы выехали из Благовещенска на пароходе, название которого я уже успел забыть. Помню только, что подвигался он по рекам со скоростью километра в 3 часа.
Мы шли по Амуру, Зее и Селемдже. Набранные в Благовещенске приискатели пили водку, играли в карты и сотрясали суденышко немыслимой чечеткой «сербиянки» – танца, очень распространенного в этих местах.
Гармоний было много, они трепыхались в огромных руках парней подобно пестрым, раздувшимся индюкам.
Мы высадились наконец на заброшенной среди сопок и ключей пристани Дагмаре – становке старого купца Сафонова, который был когда-то несметно богат, а теперь доживает остатки дней в заслуженной нищете с приемным сыном Санькой Гайдуковым и невесткой. Но о них речь дальше.
От Дагмары до прииска Майского – первой остановки – уже рукой подать. Нас везли на костлявых, вихлястых лошадях по мелкому березняку. Колеса таратаек прыгали, проваливаясь в щели бревенчатого настила.
Шуршала пышная рыжая пена деревьев, и воздух кололся, как лед, от чистоты, густоты, свежести. В сопки не верилось, – казалось, что аккуратно нарисованы они средней руки пейзажистом, а между тем это были те самые таинственные суровые предгорья Яблонова хребта, о которых мы так много слышали, отправляясь сюда.
Если не сказать, что во время нашего приближения к приискам стоял над тайгой закат, вы многого себе не представите. Закат висел тяжелой широкой полосой, как висят обвиснувшие в безветрии кумачовые плакаты. Это был невероятных размеров ярко-красный мокрый вздрагивающий плавник рыбы.
Кончился березняк. Кругом подвивались полносочные величественные растения дальневосточных болот.
Прииски показались внезапно из-за увала.
Так вот они! Несколько зарывшихся в землю тупоносых бараков… Лошади побежали веселее. Бараки, оказывается, выстроены в кольцо и замыкают чисто выметенный и будто утрамбованный двор. Рабочих почти не видать. Они все, как после выяснилось, ушли «на бутары». Нас вышли встречать несколько мужчин и женщин.
Но Рыбникова я отметил среди других сразу же. Он взял меня под руку и повел к одному из бараков.
– Ну что же, – сказал он. – Вот вы и приехали. Вижу, что из вас кое-кто и по культурке будет. Культурку к нам привезли.
Из-под каштановой кубанки выглядывало бледное, одутловатое лицо с серыми ощупывающими вас на скорую руку глазами и висящие табачной бахромой рыжие усы, удивительно к месту посаженные.
На плечах у Рыбникова надета была коричневая кожанка с поясом. Обут он был в сапоги бутылками. Глядя на него, хотелось думать, что человек выкинет сейчас козла и затанцует. Когда Рыбников говорил, он как-то по-особенному раздувал усы… В глазах же его, небольших и рыжевеких, было что-то особенное – они поблескивали, как две бусинки, как два обслюнявленных леденца, и только после я понял, что рыбниковские глаза крепко прополосканы голубым спиртом.
Рыбников ввел меня в барак. Бревенчатые плотно сложенные стены выглядели солидно, твердо, и не в пример им был разбит барак легкими, заклеенными бумагой перегородками. Рыбников усадил меня за длинный сосновый стол и сам сел напротив. Сначала он сидел, сложив руки, и так же настороженно ощупывал меня глазами, как и я его. Потом вдруг неожиданно предложил спирта и тогда сам начал пить чашку за чашкой ухарски, не заедая, кряхтя и посматривая опять же на меня вкось, как бы стараясь угадать, плохо или хорошо отношусь я к тому, что он так много пьет, и, с другой стороны, показать беспечность и неудержимость своей пьянки.
Может быть, это подкузьмило его. Так же неожиданно заговорил он о себе, о скучной «теперешней» жизни, о приисках, о своей работе:
– Пьем. Глушь… Н-н-ооо… пьем и знаем дело. Все здесь направили и пустили на рельсу. Извольте, будет после свободное время, загляните ко мне в амбулаторию… оборудована, первейший сорт – не подкопаешься. Точно, пузырьки собирал, составлял лекарства, делал хирургические принадлежности… У любого спросите, как лечу…
Сразу же во время разговора я заметил (не заметить было нельзя), что Рыбников – большой похабник, – все время подпускал он острого и тонкого сальца и ухмылялся в ус: вот-де как отмочил, вот как подвез – слушайте…
Я не смеялся. Он удивился этому слегка и насторожился еще больше.
Если бы я знал его биографию, я, вероятно, написал бы целую интереснейшую повесть о фельдшере Рыбникове. Но прошлое перед всеми он задернул занавесом полуслов, намеков и кривых улыбок.
Нет, Рыбников не имеет биографии.
Биографию имеет Брутцкий… Он вошел в барак, огромный и застенчивый. Его тяжелые, колоссальные руки все время искали выхода, куда бы спрятаться, куда бы скрыться от человеческих глаз. Брутцкий часто, по-ребячески открывал рот удивленно и спокойно. На черном от солнца, ветра и мороза лице буквально сияли голубые «послушные» мальчишеские глаза; губы были розовые, пухлые, и тем чудовищнее казалась дремучая борода, похожая на искромсанный кусок медвежьей шкуры.
Прежде чем заговорить, Брутцкий еще долго сидел и улыбался, как бы говоря: я – человек непонимающий, так уж извините меня, пожалуйста.
После я видел Брутцкого у медвежьей берлоги с рогатиной наперевес – решительного и непоколебимого. Видел его успокаивающим целую толпу взбунтовавшихся приискателей, видел непогрешимо и уверенно выискивающего золото в селемджинских болотах и спрашивал себя: чем же объяснить в нем обыденную застенчивость, даже робость? В конце концов я понял: Брутцкий робел перед городом, перед городской неизвестной, таинственной силой, которую он угадывал в словах и действиях людей, приезжающих от низовой Селемджи. Брутцкий робел перед городом точно так же, как робеет зверь, неожиданно учуявший дым и пыль железнодорожной линии, ворвавшейся в его заповедные места.
Брутцкий родился и вырос в пределах Яблонова хребта, в селении Уландочка. Он рос среди спиртоносов, охотников и приискателей, он исколесил тайгу на сотни верст вокруг по тропам и без троп, свыкся с ней «нутром», по его же собственному выражению.
Безвыездно 40 лет пробыл он в здешних местах, окруженный снегом, зверьём, голубыми от мороза зимами и ядовитыми комариными вёснами. Для него стало законом то, что спирт нужно пить из горшка, за женщину драться дубиной и ножом, белку бить одной дробиной в глаз, через всякие лишения идти к златоносным жилам… В мире конкретных, достоверно известных ему явлений он чувствовал себя крепко прилаженным. Он чувствовал на ощупь широкие тяжелые кости свои, застрявшие в могучих сплетениях мышц, верил в верность и меткость глаза и руки, у него не было просто названий – все, о чем он говорил, было облечено в мясо, шерсть, кожу, листья, оперенья и т. д.
Но вот вдруг появляются другие названия, для него отвлеченные и таинственные – дыхание города. Если раньше его поражало ружье, вывезенное из города, самовар, завезенный в тайгу, то теперь появились новые предметы, впечатления и новые рассказы, которые покорили и смяли его. Город смял Брутцкого и по технической, и по общественной линии…
Город практически доказал ничтожество его, Брутцкого, перед ним, таинственным и всемогущим. Что стоят его храбрость и меткость и верность его узловатой рогатины, на вилах которой не раз металось окровавленное тело обезумевшего от боли и злобы зверя, если на прииске «Утесном» люди с девическими руками поставили скрежещущее неведомое чудовище – драгу, и она черпает золотоносные пески с самого дна Селемджи? Зачем смекалка таежного разведчика, если «штука» из стекла и железа безразлично шевелящимися стрелками отыскивает золотые залежи?
Город загипнотизировал Брутцкого, и он потянулся к нему всем своим огромным телом, всей кровью. Старые истины пошли прахом, уступив место другим. В его сознание медленно втесывались неизвестные до сего слова: «драга», «красный уголок», «Ленин», «радио», «аэроплан»… Все это было еще не размещено, как следует, а валялось, как имущество, перевезенное на новую квартиру. Но уже не странным казалось то, что Брутцкий сидит и ждет от вас новых слов, что его руки стали работать честно для ворвавшейся сюда молодой эпохи, и то, что он первым и пока единственным из «стариков» – приискателей по-таежному величественно плюнул на драгоценный для него ранее спирт.
Рыбников, подмигнув мне, предложил Брутцкому выпить. Тот потупил глаза:
– Будто смеетесь. Не пью…
– Здорово! – пьяно захохотал фельдшер. – Вот здоро-во-то! Не пью!.. Бочонок в день выпивал – рекорды ставил! А теперь, вон, «не пью»! Единственная, можно сказать, гордость культработника. В красный уголок ходит… Ребят на курсы в город послал учиться. Уж вы обязательно в записную книжечку черкните, уж не откажите, черкните… Брутцкий, а то, может, выпьем?..
Тут я заметил, что Брутцкий рассердился. Он пристально и сурово взглянул на фельдшера:
– Не затроньте. Не скандальте перед человеком.
Рыбников сразу переменил разговор. А через несколько минут он уже лез в окно, опрокидывая бутылки, и кричал:
– Ивонин, сукин сын, иди сюда, тебе говорят, иди сюда!
Я взглянул в окно.
Человек улыбался.
Но улыбался он так, что весь без остатка выражал себя в этой улыбке. Улыбка была центром, к которому стремилось в Ивонине все – от раскрытых будто бы для объятий рук до кончиков сапог, начищенных под «лунный свет».
Еще не перешагнув порога, Ивонин поднял вверх руку и произнес свою, как после оказалось, историческую фразу:
– Все высокое, все прекрасное основано на разнообразных и контрастных фактах.
Он выпустил слова легкими и круглыми, и они покатились куда-то в сторону, не задев нас.
Ивонин повалился на устланную оленьими лоснящимися от крепости шкурами кровать и начал петь и свободно насвистывать «Роз-Мари»:
Цвето-о-ок душистых прерий…
Там-та-ри-ри-ри-ри…
Ивонин приподнялся над кроватью на локтях и пел всё громче и громче, так что сквозь бурый румянец его шеи проступали голубые и плотно скрученные жилы.
После моего приезда многие длинные таежные вечера проводим мы с Ивониным вместе.
Он мне рассказывал, как дрался в краснознаменных частях и под Таганрогом, и под Ургой, и на Камчатке. Он рассказывал, как расправлялся с японцами уссурийский мороз и как после красные части входили в оставленный интервентами город Великого Трепанга. Он сопровождал свои рассказы тихим и всегда довольным смехом. Смех не мешал. О Владивостоке Ивонин вспоминал особенно охотно. Там, на тихой улочке, возле Амурского залива, он оставил девушку, которую любил. При рассказах о ней он особенно напирал на то обстоятельство, что у девушки были мягкие и теплые руки. «Такие хорошие руки», – повторял он и снова смеялся.
Я не встречал более общительных, более приемлемых и более простодушных в общежитии людей. И тем более поразил меня Ивонин своим поведением на работе.
Он работал на приисках горным смотрителем. В его подчинении и под его наблюдением находилась артель китайцев в 18 человек.
Китайцы прибыли на промыслы из Сахо-Ляна, Чи-Фу, Харбина, из северной провинции Хубей. Они даже не могли говорить по-русски. Культработа среди них не велась. Китайцы перевалили русскую границу, чтобы заработать денег и уйти вновь. Контора Союззолота принимает руду по 5 рублей за золотник. У китайцев – тайная мечта, затаенная по-азиатски: принести золото к банкам Харбина или хотя бы к барышникам Благовещенска. Там оплата больше в несколько раз. Драгоценный металл может быть утаен от смотрителя и скрыт в потайных кладницах. Так возникает страшное и позорное для любых приисков слово «утечка». Золото течет, ускользает, и круг выходцев из Хубея по-прежнему безразличен и темен.
Глаза китайцев непроницаемы. Лишь изредка выдают их слабости, привитые им на родине. По вечерам в низких, душных фанзах варится опий и звякают бутылки контрабандного спирта.
Узкая полоска китайских карт ложится на циновки веером, и азарт входит в свои права.
Китайцы звали Ивонина «Капитан Союза».
В первый раз случилось так. Случайно я зашел в общую фанзу артели. «Капитан Союза» стоял на расшатанном столе и, размахивая руками, вразумлял рабочих:
– Товарищи китайцы! Приходится убеждаться, что сознательности от вас ждать трудно. Вы, сукины дети, воруете золото и осуществляете экономическую контрреволюцию полностью через прорыв золотодобычи.
Но, уважаемые граждане китайцы, я вам загну все-таки такие карачки, о каких вам и не снилось. Пролетарские идеи вам чужды, но вы не хотите даже понять, что работаете на социализм, который благоустроит вас. Товарищи китайцы, я самолично сниму с себя сейчас бушлат и покажу раны, которые ношу с гордостью, как полученные в боях за советскую власть. И я хочу заставить вас понять, за что вы работаете, разъяснить… Я уже не впервой разъясняю вам, хоть вы и не слушаете. Получается, товарищи китайцы, так, что я разъясняю, а вы воруете золото, я бы мог прогнать вас, но те, кто придет на ваше место, тоже будут продолжать вредительскую работу.
Так вот, граждане китайцы, я сделаю из вас кровяную кашу, сокрушу вдребезги, но вы не украдете у меня и ползолотника золота. Я вам укажу установку пролетариата к мошенникам в полной форме…
Ивонин говорил грозные слова, сдвигал брови, но все же улыбка то и дело прорезывала его лицо. Китайцы гортанно перекликались и вытягивали шеи, стараясь понять, о чем он говорит, кряжистый, рыжий человек в потертом и продранном бушлате.
Второй раз я был уже непосредственным помощником Ивонина – его заместителем. Солнце стояло высоко над селемджинскими болотами. Еще чувствовался утренний холодок. Китайцы работали, а Ивонин точными, размеренными шагами ходил вдоль их рядов. Вдруг он остановился и уперся взглядом в одного из китайцев.
– Украл, – тихо и горестно сказал он. – Растопырь пальцы.
Китаец растопырил пальцы, и на землю упала крупинка золота величиной в зерно кукурузы.
– Украл… – весь закипая от злобы, побагровев, закричал Ивонин и неожиданно выхватил из-за пояса наган:
– В фанзу!
Китаец покорно поплелся вслед за Ивониным в фанзу. Из открытых окон фанзы было слышно, как надсадно кричал Ивонин:
– Социализм строим, скотина. Индустрию… Через рабочих… Через тяготы… кровь проливали… А ты… Что ты делаешь?.. У кого воруешь, кого обкрадываешь?..
Китаец длинно выл:
– Ка-а-а-иитэн, ка-а-а-питан!
Когда Ивонин вышел из фанзы, лицо у него выглядело похудевшим и осунувшимся. Он не улыбался.
II
Мы однажды в шутку мерили Кирюшатова аршином – вышло аршин и три четверти.
Глаза у него были карие, кроткие и ласковые. Глаза говорили: «Нате меня – возьмите. Вот я какой простой, весь как на ладони. Ну что ж, вы меня можете и обидеть, а я стерплю».
Он запомнился в высокой шапке из беличьих хвостов и полушубке, туго затянутом кушаком. Над толстыми, широкими губами у него обозначались бурые, будто отрубленные усы.
– Его, золотишко-то, кабы знать. Оно здесь ведь кучковое… – говорил он и покачивался из стороны в сторону, выставляя вперед то одну, то другую ногу.
А золото на самом деле было кучковое. На шаг от того места, где только что день работал «бутарь», добывалось полфунта-фунт золота.
Золото проступало то тут, то там… Вдруг приносилось известие, что «Кирюшатов напал на жилу», и Кирюшатов приходил в бараки багровый от спирта и едва стоявши на ногах. Его сопровождала неизменная свита из трех сыновей.
Три сына Кирюшатова сказочно огромны и сильны. Отец был не выше пояса каждого из них. Они стояли сзади него молчаливые и спокойные, откидывая в сторону гигантские лохматые тени. Кирюшатов хриплым голосом пел длинные печальные песни, стучал по столу кулаком и кричал о своем горбе, который, по его словам, «может всё вынести».
Если он начинал буянить больше, чем надо, сыновья брали его на руки и уносили домой при смехе приискателей.
Золото «кончалось» накирюшатовской делянке, и… снова тихий, кроткий Кирюшатов приходил рассуждать о «кучковом золотнике». Так искал Кирюшатов увиливающее от него золото, предводительствуя артелью кряжистых и напористых товарищей. Так на каждом квадрате шахматного поля старатели боролись за добычу распыленных золотников, фунтов, пудов драгоценного металла…
Я раз зашел к Кирюшатову в гости. Артель только что расположилась на обед. В глубоких чашках дымился козулий суп. Красноватые ароматные куски козульего мяса валялись на деревянных тарелках.
Приискатели подцепляли их прямо острыми якутскими ножами и, осыпав крупной хрустящей солью, отправляли в рот.
– Дело, – закричал мне навстречу Кирюшатов. – Дело, Павл Николаевич. Присаживайся с нами.
Я не отказался. Несмотря на еду, все оживленно разговаривали. Разговор вращался по преимуществу вокруг двух тем: о приезде на прииски нового управляющего и о качестве «содержания» последней делянки, занятой артелью.
– Скоро, должно быть, придется бросать бутарку-то да браться за сплошную шурфовку, – многозначительно заявил Кирюшатов.
Его поддержали:
– Именно. Это конешно. Шурфовку-то к левому берегу надо клонить…
Кирюшатов дал поговорить артели вдосталь и снова с прежней многозначительностью продолжал:
– Не знаю, как с новым управителем будет. Насчет барака и дров поговорить бы надо…
Его поддержали. Барак никуда не годится – продувало его со всех сторон, и доставку дров на государственный счет уже давно бы нужно было перевести.
Кирюшатов как бы председательствовал, поднимая вопросы один за другим. Его авторитет и популярность можно было заметить сразу. Чувствовалось, что он был неоспоримой и признанной головой артели.
После, на общих собраниях рабочих приисков, это выступило еще ярче. Рассудительности, хозяйственности и чутью Кирюшатова доверяли. Столь ценные качества эти вынес он еще, вероятно, из деревни, и в противоположность другим – они у него не были уничтожены приискательством, а, наоборот, укрепились. А приискателем Кирюшатов был без малого 20 лет.
Интересно было смотреть, как сходился актив «стариков». Они вспоминали времена амурских, зейских и норских Эльдорадо. Их воспоминания походили на бред, на несвязную экзотическую выдумку. В рассказах они бежали за проголодавшимися собачьими упряжками, замерзали, скитались в непроходимых таежных дебрях, болели цингой, дрались с казачьими охранными сотнями, охотились на рысей, тигров, зубров…
Тогда явственнее проступали на их черных, обветренных лицах следы несчастий и удач, морщины, наложенные голодом, морозом… И я заметил, как они незаметно для нас и для самих себя обнимали друг друга за плечи, тяжело и ободряюще:
– Эх, старина…
В таких случаях Кирюшатов располагался всегда вблизи грозных седых усов Катовщикова. Они были друзьями. У Катовщикова тоже была своя артель. Но, как и сам он, артель резко отличалась от кирюшатовской.
У Кирюшатова люди, все как на подбор, были крепкие и испытанные, «со стажем». Его артель искала золото… напористо, но с оглядкой. Лучше меньше, но все-таки найти.
У Катовщикова, наоборот, артель заполнялась новичками, парнями, приехавшими на Селемджу с Урала, из Казани, Чернигова, В.-Устюга и Астрахани. У них были еще тонкие, неокрепшие шеи и вихлястые, часто прямо мальчишеские фигуры, и они шли за старым волком Катовщиковым, куда тому вздумается. Он отъезжал с ними в сторону и начинал, к ужасу «управления», работать на самых неожиданных местах.
– Опять старина свою сопливую команду в сопки повел, – смеялись приискатели, когда мимо них на двух собачьих упряжках с песнями и гиком проносилась артель Катовщикова. Вопреки всяким ожиданиям, часто обнаруживала «сопливая команда» богатейшие жилы. Были и провалы, но, во всяком случае, у Катовщикова молодежь получала самую прочную закалку.
В 1905 г. Катовщиков жил и работал «при дяде».
Дядя Катовщикова имел на Норской системе богатую золотоносную площадь и каждый месяц отправлял в Благовещенск на оморочках несколько пудов золота.
Дядя богател, и, несмотря на его скупость, соответственно с этим улучшалось существование племяша. Катовщиков-племянник расхаживал в желтой бархатной куртке под красивый пеньковый кушак, в лаковых сапогах бутылками, отращивал синие стрельчатые усы и затевал буйные свадьбы по округе, – а в округе было шестьсот-семьсот верст. Славился племянник норского богача своим уменьем ловко доставлять золото на место назначения, избегая лакомых на него людей, и дядя не раз поручал ему руководство золотыми караванами. Оморочки каравана шли от ключа Уштыма по Норе, по Селемдже, мимо тех мест, где расположена теперь Дагмара, вплоть до пестрых благовещенских пристаней, ставших у впадения этой зеленоватой пустынной реки в великий Амур.
Катовщиков-племяш продавал золото русским и китайским скупщикам, государственным кредиторам, пропивая заранее назначенный ему магарыч в благовещенских кафешантанах, а выручку клал на дядин счет.
Так продолжалось из года в год по заведенному порядку, пока не случилась одна история, или, как выражается сам Катовщиков, пока не случился «перелом жизни».
Привез Катовщиков в город два пуда золота с верховьев Норы, благополучно продал их и шел уже в банк с честным намерением пополнить капиталы дядины, как вдруг попадается ему на пути старый его приятель Кирюшатов.
Ну, встреча как встреча. Приискатели решили зайти в соседний шантан, поболтать в отдельном кабинете и выпить один-другой графинчик водки «под редиску».
Зашли. Официант водки, редиски принес. Начали приятели чокаться и толковать о золоте, женщинах, лошадях. Попросили следующий графин. Показалось мало, давай еще… А дальше, если слово Катовщикову дать, «купецкая гулянка в шантане происходила, купцы пили надсадно, пели студенческие песни и лили шлюхам за блузки шампанское. Вдруг подходит это к нам какой-то купчик в белых манишках и два бокала в руках держит: „Выпейте, – кричит, – господа приискатели, моего угощения“… „Врешь, – отвечаю, – купецкая твоя морда, не будем пить твоего сусла вовеки. А уж если зашел к нам в кабинет, так не смей выходить отсюда, а садись с нами за стол и пей водку“, и с этими словами требую я еще дюжину графинов водки. Купчик испугался да в сторону. А Климентий (Кирюшатов) его – цап. „Стой, – говорит, – не уйдешь. Принимай наше угощенье теперь, а не то ножом“… И на самом деле вынул якутский нож, длинный, не по своему росту. Тут как заорет наш купчик благим матом:








