Сочинения. Письма
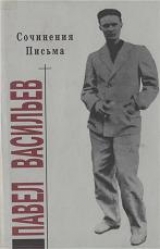
Текст книги "Сочинения. Письма"
Автор книги: Сергей Куняев
Соавторы: Павел Васильев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
48
…На обратном пути от Горлицыных,
В карете качаясь,
Заезжая в настежь распахнутую зарю,
Говорил Синицын:
«В магарычах не стесняюсь!
Продолжай – говорю тебе! —
Отблагодарю!»
Хлыщ в смешок.
(Подсчитал – работать недаром.)
…Еще через день, отстранясь от дел,
Свиделся Артемий Федулыч с товаром
В горлицынской гостиной,
Как захотел.
Чем не кавалер?
Конечно, определенно!
Лучшего отыщешь ли,
Душой не кривя?
За него разговаривали миллионы —
Его золотые,
Родимые братовья.
49
«Как живете?»
(Нету цены товару!)
– «Вы мне привлекательны, хоть и
не льну…»
…В первый раз лет за десять
Взял гитару
И, не торопясь,
Зацепил струну:
«Ты скажи мне, перстень свадебный,
Я кому тебя дарю?
Будь ты крепок, перстень свадебный,
Будь ты крепок, говорю!
Ты свети нам, перстень свадебный,
Помогай слюбиться нам, —
Для того я, перстень свадебный,
Прижимал тебя к губам.
Сорок тысяч перстней свадебных —
Каждый круглый золотой,
Сорок тысяч перстней краденых
И один законный – мой.
Сорок тысяч перстней краденых,
Ты же всем перстням отец,
Круглый пламень, пламень свадебный,
Золотой мой бубенец».
50
Так решился
Торг короткий ладом —
Понапрасну гитар
Синицын в руки не брал.
Он поцеловал мамашу в лоб,
Заплатил что надо
И увез невесту
К себе,
За Урал.
А еще через год,
Весной,
Когда на гагарах
Линяло перо,
В апреле месяце, или возле того,
Зейск съезжался с букетами
На тройках и парах
Поздравлять с рожденьем сына его.
Приискатели фужеры состукнули.
Были
Казахами джигитовки устроены,
И в весеннем снегу,
Раздувая пайпаки, зажиревшие бии
Объявили
В его заздравье
Байгу.
51
Это было весной,
Когда, потрескивая, расходились
Звездою трещины
На речном
Ноздреватом льду,
Когда барсы в Призейском крае
Рыбой плодились,
Это было
В девятьсот девятом году.
Так в великий и долгий
Перелет гусиный,
Когда, накопивший бешенство,
Хлынул разлив,
Начиналось детство синицынского сына
В скрежетанье машин
И пляске лошажьих грив.
Годы шли волна за волной
С тяжелым шорохом,
Шли, стуча сапогами,
В глухих просторах страны…
… Тринадцатый…
… Четырнадцатый…
Ширя напитанный порохом,
Голубой, как разрывы шрапнели,
Воздух войны.
……………………………………….
ЭПИЛОГ
До крестов георгиевских,
До самых плеч
Октябрьского тумана!
……………………………………………
Прячась от партизанщины
В таежный урман и лог,
Прицепившись к степному штабу
Краснолампасного атамана,
Синицын вместе с ним
Бежал на восток.
И когда их оцепили, и – вдруг! – грянули
дали
Широким «ура»,
Повторяя: «Бей! Бей», —
Крепко сжимая стужу
Вороненой стали,
Он засел с товарищами
В дымной избе.
Раз! И еще раз!
Внимательно целясь
По кожаному матросу, бегущему впереди.
Три!
Упал
Молоденький красноармеец
С рваным кумачом
На серой груди.
И еще раз!
Огоньками ненависти и страха
Глаз разжигая,
Точно, без промаха, в них!
…………………………………………….
Но ворвавшийся выборжец
Всем телом,
С размаху
Загнал ему
В заклокотавшее горло
Штык.
1933–1934
1929 г. Разгар коллективизации. Станица Черлак.
1
Люди верою не убоги,
Люди праведны у Чердака,
И Черлак
На церквах, на боге
И на вере стоит пока.
Он, как прежде, себе хозяин —
До звезды от прежних орлов.
И по-прежнему охраняем
Долгим гулом колоколов.
Славя крест, имущество славя,
Проклиная безверья срам,
Волны медные православья
Тяжко катятся по вечерам.
Он стоит, Черлак,
И закаты
По-над ним киргизских кровей.
Крепко сшили купцы когда-то
Юбки каменные церквей.
Он стоит другим в назиданье,
На крещении льда темней,
И в Крещение на Иордане
Крест
На двадцать пять саженей.
И в Крещенье
Голыми в воду
Лезут бабы, пятя зады.
И везут по домам подводы
Бочки синей святой воды.
А на Пасху блестит крестами,
Поднимая гам над гульбой,
Старый колокол с сыновьями
Пляшет, медной плеща губой.
И средь прочих
Под красной жестью,
С жестяным высоким коньком,
Дышит благовестом и благочестьем
Евстигнея Яркова дом.
Люди верою не убоги,
Люди праведны у Черлака.
И Черлак
На церквах, на боге
И на вере стоит пока.
2
Из-под самого Иртышска
Под безголосой дугой,
На залетной Рыжухе – пути не рад —
Прибыл разлюбезнейший, дорогой
Евстигнея Яркова
Родимый брат.
Пылью крашенный, хмуролицый,
Он вошел к Евстигнею в дом,
И погнулися половицы
Под подкованным каблуком.
Он вошел
Сурьезный, не слабый,
Вытер пот со лба рукавом,
И, покуда крестился,
Бабы
Удивлялися на него.
И, покуда крестился,
(– Ми-и-лай!)
Будто мерил
Могутство плеч,
Разлюбезнейший брат Василий, —
Евстигней
Поднялся навстречь.
И покуда бабы, что куры,
Заметались туды-сюды,
Повстречавшись, как надо, хмуро
Прошумели две бороды.
Гость одежи пудовой не снял еще,
А беседа уже пошла:
– Долгожданный, Василий Павлович,
Как дела?
– Хороши дела.
И покуда хлеба крестили,
В пузо всаживая им нож:
– Что ты скажешь мне,
Брат Василий,
Как живу?
– Хорошо живешь.
Из-под самого Иртышска
Под безголосой дугой
Прибыл вовремя в Черлак-град
Столь невиданный, дорог о й
Евстигнея Яркова
Родимый брат.
Темный ситец бабки и красный
Женин ситец
И сыновья, —
Всей семьи
Хоровод согласный,
Вся наряженная семья.
Сыновья ладны и умелы —
Дверь с крюков
Посшибают лбом,
Сразу видимо, кто их делал, —
Кулаки – полпуда в любом.
Род прекраснейший, знаменитый —
Сыновья! Сыны! —
Я те дам!
Бровь спокойная, волос витый —
Сразу видно,
Что делал сам.
Евстигней поведет ли ухом,
Замолчит ли —
Все замолчат,
Даже дышат единым духом —
От старухи и до внучат.
И Василий решает: «Вон как!»
Косы тени Павловичей.
Дом пошатывается легонько,
Дышит теплым горлом печей.
И хозяин думой не сломан,
Слышит лучше всех и ясней —
По курятникам робкий гомон,
В теплых стойлах ржанье коней.
Приросло покрепче иного
К пуповине его добро,
И ударить жердью корову —
Евстигнею сломишь ребро.
Он их сам, лошадей, треножил.
Их от крепких его оград
Не отымет и сила божья,
А не то чтобы конокрад.
Он их сам, коров, переметил
И ножом,
И клеймом,
И всяк,
Никакая сила на свете
Не отымет его косяк.
Никакая на свете пакость,
Ну-ка, выйди, не оробей!
Хошь мизинец,
Хошь телку —
На-кось —
Отруби, отмерь и отбей.
Ну-ка, сунься к амбарам сытым —
Всё хозяйство, вся тишь и гладь
Опрокинет вострым копытом
И рогами начнет бодать.
Дом пошатывается легонько,
Дышит горьким горлом печей,
Понимает Василий: «Вон как!»
Косы тени Павлович е й.
Дышат дымом горькие глотки.
Чай остыл,
И на лбах роса,
И на стол хлебнувшие водки,
Подбоченясь, вышли баса.
И тогда —
Хоть и не по приказу
Водку встретившие в упор, —
По-медвежьи
Ухнув три раза,
Братья начали разговор.
И Василий, башкою лысой
Наклоняясь – будто в хомут,
Сообщает:
– Сестра Анфиса
Низко кланяются и зовут.
Разговор не сходил на убыль.
Он прогуливался как мог, —
Лошадям заглядывал в зубы
И коровий щупал сосок.
Он один ходил
Промеж всеми,
Поклоняясь печи, огню,
Он считал
Поклоны до земи
И по пальцам
Считал родню.
Вспоминал, как ругался деверь,
И нежданно к тому ж приплел
Об одной разнесчастной деве,
Кем-то брошенной на произвол.
Оба брата хмелевой силе,
Водке плещущей – кумовья.
– Брат мой старший.
– Да, брат Василий.
– Во-первых, сообщаю я.
Что —
В соседственном нам Лебяжьем
Вам известный Рябых Семен,
Состоятельный парень, скажем,
Властью выжит и разорен.
И нам видимы те причины,
За которыми шла беда, —
Не оставлено и лучины,
Гибель, скажем, и только.
– Н-да.
– Досемёнился,
Вот-те здравствуй,
Как известно, защиты нет,
И напрасно на самоуправство
Он ходатайствовал в райсовет.
Сеют гибель по всей округе,
Отбирают коров, коней.
Затянули, паря, подпруги.
Как рассудишь, брат Евстигней?
Босяки удила закусили. —
Евстигней раскрывает рот:
– Что тут сделаешь,
Брат Василий,
Как рассудишь – Колхоз идет.
– Что ж колхоз,
А в колхозе – толку?
Кони – кости и гиблый дых,
Посшибали лошажьи холки,
Скот сгубили, разъязви их!
Разгнездилися на провале:
Ты работай – а власть права,
Тот работал, а эти взяли,
Тоже, язви, хозяева.
Мимо сена,
И с ходу в воду.
Нет копыт, не то чтобы грив.
Объявили колхоз народу,
А народ кругом супротив.
Не надейся, паря, на жалость,
Да тебе самому видней.
Что же делать теперь осталось?
Как рассудишь,
Брат Евстигней?
Там,
В известном вам Енисейском
Взяли Голубева в оборот,
Раскулачили, и с семейством —
Вниз, под Тару, в гущу болот.
И не легкое, слышишь, паря,
И не ладное дело, брат:
На баржах – для охраны – в Таре
Пулеметы, паря, стоят.
Не открутишься, как возьмутся —
Выбьют говор и гонор наш.
Наша жизнь – что чаинка в блюдце,
Всё отдашь.
– Ты, значит, пугашь?
– Я что… Может, не согласитесь.
– Может…
– Может… – Встал Евстигней,
Распирая румяный ситец,
Руки лезли вроде корней…
– Дело сказано братом, дело…
Толк известен в его речах. —
Голова спокойно сидела
Рыжим коршуном на плечах.
– Рано нам в бега собираться,
Страх немыслимый затая,
Не один я,
И, кроме братца,
Есть еще, – оглядел,—
Семья.
Сыновья без сумленья встали.
Старший принялся говорить:
– Та ли дядина речь, не та ли, —
Что ты скажешь, тому и быть.
И сказал Евстигней:
– Разлука
С прежним хуже копылий, ям,
И с хозяйством, —
Горчее м у ки
Тихо высказал, —
Не отдам.
3
На красных досках
Божьи лики
Верхненарымских мастеров:
Божьей матери
Соболья, тонкая бровь,
Ангелы
В зарослях ежевики.
И средь всего
В канареечном свете,
С иртышской зарей
Вокруг башки,
В белых кудрях,
Нахмурен и светел,
Крутя одеж
Многоверстный ветер
И ногу в башмачные ремешки,
Босую, грозную,
Вставив, что в стремя,
Расселся
Владетель неба и земи.
И, полные муки святой,
Облак мешки валялись.
Как мельник,
Бог придавил их голой пятой —
Хозяин, владеющий нераздельно.
Он мукомолом в мучной пыли
Вертел жернова в скиту под Яманью,
И люди к нему, как овцы, текли
Хоть полпуда выклянчить за покаянье.
Он мельник.
В мучной столбовой пыли
Стерег свою выручку под Яманью.
Его на трех таратайках везли,
Чтоб въехал пожить в избу атаманью.
И лучший
Из паствы его смиренной
Крестился на стремя его ремней,
И шел от дверей на него поклонно
В грехах и постах Раб Евстигней.
Он верил в него Без отвода глаз,
Воздвиг из икон Резные заборы.
И вот наступил для обоих час
Последнего,
Краткого
Разговора.
И раб,
Молитву гор я сотворить,
Моргнул
На несопричастных и лишних,
И домочадцы на цыпочках вышли,
Двери наглухо притворив.
Тогда Евстигней лампаду зажег,
Темную осветил позолоту.
Пал на колени,
На пол лег,
Снова встал
И начал работать.
Пол от молитвы
Гудел, как гроб.
– Каюсь,
Осподи,
Каюсь. —
Бил, покрывая ссадиной лоб,
Падая тяжко
И подымаясь.
И когда
Тяжелая его голова
Закрыла глаза,
В темень-тревогу,
Тихо
Вознес Евстигней слова
Господу своему,
Единому богу.
Он прорывался,
Потный, живой,
Зреть сквозь заоблачные туманы.
Он не утаивал ничего —
Порченых девок, греха, обману:
«Тыщу свечей спалил тебе,
Стлался перед тобой рогожей.
Сам себя в темной своей избе
Свечой подпалю,
Вседержитель боже.
Мы без тебя
Понапрасну биты.
Дланью коснись
Моей нищеты.
Ищу, твой раб,
У тебя защиты, —
Господи,
Спаси
Мои животы».
Но тлели углем золотым образа.
Дородно, розово божье обличье.
Бог, выкатив голубые свои глаза,
Глядел на мир подвластный
По-бычьи.
Господи, неужто ж
Моленья мало,
Обиды мало?
Но Евстигней
Не оканчивал слов —
Долгим дождем
По вискам стучала
Кровь его прадедов —
Прыгунов и хлыстов.
И вставали щетиной
Леса Тобола
Да пчелиные скиты
Алтайских мест —
Скопидомы, оказники и хлебосолы
Поднимали тяжелый
Двуперстный крест.
И еще раз раб поднялся к богу,
В сердце сомнения истребя:
«Господи,
Ты ли сеешь тревогу,
Господи, рушишь веру в тебя».
И внял.
Из облачного вертограда
Погнал кудрей своих табуны,
И, зашипев,
Погасла лампада
От крепкой и злой
Божьей слюны.
Сидел развалившись,
Губ не кривя,
Голой пятой облака давя.
Не было дела ему до земли.
И наплевать ему, что колхозы
К горлу кулацкому
Подошли…
Он притворялся, сытен и розов,
Будто не слышит…
«Какой ты бог,
Язви!..
Когда мы, как зерна в ступе,
Бьемся, в бараний скручены рог,
Ты через свой иконный порог
Шагу не сделаешь, не переступишь!»
Сидел развалившись,
Губ не кривя,
Грозной ногой
Облака давя.
Да в ответ Евстигней говорил:
«Постой!
Смеешься, мужик. Ну что же, посмейся».
Рванул на мороз,
Косматый, крутой,
Дверь настежь —
И стал собирать семейство.
Встал босой
На снег тяжело.
Злоба крутила
На шее жилы.
…В круглых парах семейство вошло
Хмурое,
Господа окружило.
Огни зажгли.
И в красных огнях
Пойманный бог шевелился еле —
Косыми тенями
Прыгал страх
На скулах его,
И глаза тускнели.
– Вот он, —
Хозяин сказал, —
Расселся,
Столько хваленый,
Моленый тут.
Мы ль от всего
Не верили
Сердца!..
И сыновья
Согласье дают.
– Мы ль перед ним не сгибали плечи?
Почто же пошел он на наш уют?
Сменял человеков своих на свечи?..
И сыновья
Согласье дают.
И тогда Евстигней колун вынул,
Долго лежавший у него в головах,
И пошел, натужив плечи и спину,
К богу —
На кривых могучих ногах.
Загудел колун,
Не ведавший страху,
Приготовясь пробовать
Божьей крови.
Дал ему хозяин
Сажень размаху,
Дал ему еще
На четверть размаху,
И —
Осподи, благослови!
Облако, крутясь и визжа, мелькнуло,
Ангелы зашикали:
– Ась… Ась… Ась… —
Треснули тяжелые божьи скулы,
Выкатилась челюсть вперед, смеясь.
Бабка, закричав в тоске окаянной,
Птицей стала.
Сальник, вспыхнув, погас.
И пред Евстигнеем,
Трясясь, деревянный
Рухнул на колени иконостас.
4
День от лютых песен страшен.
Евстигней в ладони бил,
По полу плясать ходил,
Из глубоких медных чашек
С сыновьями водку пил.
Собирал соседей в гости,
Опускался в темь и блуд,
Сыпал перстни-серьги горстью,
И трещали бабьи кости
От таких его причуд.
5
День второй смеялся: мало!
До смерти гонял коней,
Рвал на части одеяла,
И его душа дышала
Винным паром из сеней.
Гармонист гудел мехами,
Запевал, серьгой бренча.
Евстигней шумел: – Мы сами!
Мял гармонь в комок руками,
И кричала петухами
Пьяная его родня.
6
И на третьи сутки, лая,
Смех вставал над кутежом.
Пахло кровью.
Песня злая —
Ножевая, удалая.
Водка п а хнула – ножом.
Покрутив башкою хмуро,
Грузный, тихий, льда темней,
На седые волчьи шкуры
Повалился Евстигней.
7
И в дохе,
Глухой, хрипящей,
Слаженной для вьюг и стуж,
На которую к тому ж
Восемь шкур ушло собачьих,
Восемь злых собачьих душ.
В сыромятных
Толстых жабах
Однопалых рукавиц
И в сарапулевских р я бых
Валенках, мимо станиц
Урлютюпской и Кобыльей
До Лебяжинских плетней —
К брату младшему Василью
В гости ездил Евстигней.
И когда поземкой бледной
Был закрыт возвратный след —
В среду под вечер последний
Собран был семьи совет.
………………………………………..
8
Сын Димитрий спрашивал отца:
– Почему было иконы бить? —
Кучерявая, золотая овца,
Мямля, в сажень росту:
– Как быть?
Димитрий Евстигнеич,
Старший – страсть
Медленный, не мастер на догадки, —
Двумя жерновами
Ходят лопатки,
И когда друзей катает, борясь,
Кости их гудят
От медвежьей хватки.
– Без иконы лучше ли?
Прямо сказать —
Замучили соседи
Бабку и мать.
Возражу еще, отец мой и братцы,
Что равняться к голи станичной —
Не след…
Прямо сказать,
Так с нами вязаться
Силы покамест у них и нет…
Стоял он, моргая чаще и чаще,
Вдруг растерявшись… пока его
Брат средний, Игнатий, отцов
приказчик,
Места не занял, сказав: – Чего?
Чего нам бояться чего невесть?
Чего нам бог?
Чего нам начальство?
Иконы всегда способно завесть.
Способно ли нам
Уберечь хозяйство?
Опять же,
Что начнут отбирать?
Может, какое и снисхожденье…
Опять же, которых коней загнать,
Барашков прирезать – мое почтенье.
Может, кого на кривой объедем,
Может, декрет как для кого.
Опять же,
Не мы одни, и соседи,
Как кто чего, а я ничего.
А младший, мамкин сынок,
Тонкий, от сладостей гнилозубый,
Начал тянуть:
– Ну, какой там бог…
Может, вам любо, а мне не любо.
Чо вы на сам деле?
А по мне —
Зря мы хомут надели на шею:
Хоть всё хозяйство
Вспылай в огне,
Вот вам ей-богу, не пожалею.
Ежели вникнуть,
Постольку-поскольку —
Нет основаниев никаких…
Волосы, стриженные «под польку»,
И сапоги на скрипах тугих.
Густо расшит маргариткой ворот,
На пояс шит кисет именной…
Он уж давно надумывал в город —
«Басму» курить и чудить в пивной.
Город, сладко дышащий, мглистый,
Сердце тревожил в снах и ночах…
Что ж, для этого
Хоть в коммунисты,
Петр Евстигнеич парень казистый —
Узок в поясе, а не в плечах.
Втягивал щеки свои тугие,
В трубку сворачивая губу:
«Что мы такое,
Кто мы такие
Душно в избе,
Как в прелом гробу».
Он на собраньях больших и малых
Тоже вступал:
«Товарищи, я…»
Сладко ему —
От слов его вялых
Пятится и отступает семья.
Мать под платком:
– Петенька, что ты… —
Бабка «ахти», и братья «н-ну»…
И, лишь разойдясь вовсю с поворота,
Отца увидав, осадил охоту
И на попятную повернул:
– Знамо, высказываю, как разумею,
Что вы рассудите —
Может, глуп…
Очи раскрыв и вытянув шею,
Семья оборачивалась к Евстигнею
Павловичу, не разжимавшему губ,
Силясь открыть потайную думу,
Ждала без выдыха
И до слез.
Встал Евстигней
И сказал угрюмо:
– Надо, должно быть,
Идти
В колхоз.
И покуда ахнула семья большая,
Сбитая в стадо, вся как один,
– Я, – Евстигней сказал, – обнимаю
Тебя, Игнатий, середний сын.
Земля нам дана
На веки веков.
Не ссорься, Игнатий,
Зазря с судьбою.
Хозяйство, поди, разорить легко,
Но толку не будет в сплошном убое.
И стоп, и не надо, и не перечь!
Время покамест еще за нами.
Сумеем и сгинуть, и дом наш сжечь,
И наземь коней покласть топорами.
И не перечь, не хвались, не сбив.
Надо, ребята, размыслить трижды:
Нету возможностей
Супротив —
Значит, возможность наша – выждать.
И смекаю —
Колхоз, ну что ж,
Организуют, как все иные,
И приведут на аркане вошь
Юдины, Митины и Кривые.
Власти милиции
Недалеки,
Власти партейные – слава богу,
Тут же в властях сидят босяки,
И состоятельные мужики
Будут обобраны им в подмогу.
И смекаю —
Надобно нам,
Надо в колхоз идти, не иначе.
Надо. Решусь, ребята,
А там —
Будем за гриву ловить удачу.
Кто его знает. Темна игра.
Если окажемся снова в силе,
Первые в сторону и до двора.
Если придет такая пора,
Вынем поболее, чем вложили.
Молчала семья.
Дышала семья,
Думала семья,
Но мало.
И сразу
Всеми ртами
Сказала:
– Твоя воля.
– Его воля.
– Воля твоя.
9
Приглашенье всем по чести.
Крадучись в неясной мгле,
По одной собравшись вместе,
Кумушки несли известье,
Будто угли в подоле.
И пока мужья дремали,
Всё боялись порешить,
Головой крутя: «Едва ли…» —
Бабы под вечер решали,
Что собранью завтра быть.
И пока мужья: «Однако, —
Думали, прибавив: – Что ж,
Поглядим, бывает всяко…» —
Начиналась бабья драка
И визгливый шел дележ.
10
Федор Стрешнев на полатях
Тараканьих
Ночь не спал,
На худых бобах гадал:
«Что возьмут и что заплатят?
Чем я был и чем я стал?
Что возьмут
И чем заплатят?
Нет коровы,
Конь пропал…»
Федор Стрешнев на полатях
Тараканьих
Ночь не спал.
«Дмитриевна, – думал ночью
И прикидывал, – и пусть!
Всё-таки ж оно…
Как хочешь,
Дмитриевна, не решусь».
11
Сидор Зотин на полатей
Поднебесье в дымный дым
Думал: «Не возьму в понятье —
Что получим? Что дадим?
Стакнуться… Объединиться…
Есть пути – и нет пути».
Запасенная пшеница
Сказывала: не идти.
Утром встал с тяжелой думой,
На окно взглянул —
В снегу…
И на день взглянул —
Угрюмый…
– Как ты хочешь,
Что ни думай,
Федоровна, – не могу.
12
Лысинкой в раю подушек
Искупавшись,
Не разут,
Тек слезой супруге в уши
Сам Потанин: – Настя, душат,
А, Настасья, отберут.
13
Чтобы жить со стужей в мире,
Чтоб весну приворотить,
Надо шубы шить пошире,
Надо печи натопить.
Снежная игла кололась.
Сед косяк, рассвету рад…
Алексашка лисий волос
Гребнем зачесал назад.
Посмотрел в окно – глубокий
Снег, пришедший из степей,
На семь с лишним четвертей.
Ветер вывалил у окон
Полный короб голубей.
И пока клевали сена
Золотой налет они,
Алексашка вспрыгнул и
Затянул возле колена
Сыромятные ремни.
Голуби в сенной полуде
Разобраться не могли.
Алексашка вспрыгнул, и —
Утречком иные люди
К Алексашке в гости шли.
Первым Редников: – Едва ли
С опозданьем. Не забыть —
Бабы загодя гадали,
Что собранью седня быть.
И пока он дорогие
Шубы сбрасывал с плеча —
Нынче стужа горяча, —
Вслед за ним вошли другие,
Сапогами топоча.
Митины и Скорняковы,
Труфанов, Седой, Левша,
Юдин, Зайцев, Митин снова
И сама учительша.
Редников!
Его родословной коренья
Уходят в батратчину,
В ночь ночей…
Из поколения в поколенье
Летел этот хмурый
Ворон бровей.
Жила на лбу
Крутая, как плетка,
Тяжелая, как батрацкая жизнь.
Из поколенья в поколенье
Передавалась походка —
Опасная, вперед плечом: сторонись!
А в юности он,
Когда троицыны травы
Звенели
И, праздничные, ошалев от ветра,
Пели сады,
По полному праву
Получал порученье
От всей слободы.
И входил он в круг широкий просто,
Чуть укорачивая медвежий шаг,
От слободы,
От бедноты —
На единоборство,
Разжигая вкруг тальи красный кушак.
И лишь только под взмахом его
кулачища
На троицыну сырую землю с ног,
Брусничной харей без толку тыча,
Валился первый
Кулацкий сынок,
Смехом недобрую ругань кроя,
Кричало «ура» ему полслободы…
Так он и рос в Черлаке героем,
Редников —
Сын мужицкой нужды.
Когда же в девятнадцатом
Сквозь вьюги глухие
Забрезжил на западе
Красный флаг
И навстречу карательные выслал
Правитель России,
Его белоштанство
Адмирал Александр Колчак,
Редников всё припомнил:
Как били,
Как ему пальцем тогда грозили,
Что ему тогда говорили,
Как отнимали хлеб у него, —
И он уже знал,
Идти за кого.
Он еще не мог разобраться толком
В словах «революция»,
«Советская власть» —
Это было одно чутье, темное,
как у волка, —
Кровная с революцией связь.
Это боль была,
Выношенная годами, —
Рев глухой
Из сердца, издалека…
(Горбыльи века, гнета века.)
И если б он умер,
То под красным знаменем —
Молча, прицеливаясь наверняка.
Это было Разина в душе восстанье,
Мыслей внезапный ледоход —
Так он и стал Вожаком партизаньим,
Добытчиком
Мужицких свобод.
Он скудную жалость
Из сердца выжег,
И его тогда видели
В звездах всего, в снегу,
Впереди отряда, с винтом, на лыжах,
Сохатым мчавшегося
Через тайгу.
Юдин, Левша, Скорняков – матросы,
Каждый в станицах с детства желан…
Матросы! Революции золотая россыпь,
Революции – правый фланг!
Через пурги,
Средь полей России проклятых,
Через ливни свинцовые,
Певшие горячо,
Борясь и страдая,
Прошли в бушлатах
С пулеметными лентами через плечо.
В жизнь свою
Не сдававшихся на милость,
Ах, как щелкали
Наганов курки!
Ах, как матросские
Ленты крутились,
Синие летали
Воротники!
О, Юдин крутолобый,
Золотолицый, —
И нужно же было случиться так,
И нужно же было
Так приключиться,
Чтоб родиной твоею
Стал Черлак.
И нужно же было так случиться,
Чтоб здесь ждала тебя
Мать твоя —
Ты,
Заслуживший высокое званье партийца,
Ты, прошедший жизнь, мир по-иному
кро я .
Но вас, матросы, крестьянские дети,
После битв
От друзей, от морей, от подруг
Потянуло к полузабытой повети,
Как гусей, как гусей на юг…
Быть вам радостными,
Быть счастливыми!
Почеломкаемся – вот рука…
Вы, цемент
И оплот актива
Пробуждающегося Черлака!
К учительше подсел Левша:
– Ну, как живем,
Ну, как поем,
Что нового, учительша? —
Глазами повел на Митиных:
– Не плохо бы постыдить иных.
А?
Левша
Собственно говоря,
Я для гонору, что ли, это
Принял звание секретаря
Черлакского сельсовета?
Нету, Митины, в вас отваги.
Вы сочувствующие, так сказать,
На баклаге да на бумаге,
Извиняюся, как вашу мать?
1-й Митин
Ты, Иван Андреич, зря нас задеваешь.
Сам знаешь, мы люди темные, к секлетарствам не подходим.
2-й Митин
А помочь – почему не помочь?
Присмотревшись, можно.
Левша
Ты присматривайся,
Да не прогляди, —
У Ярковых бываешь, значится?
Знаю, Митин, тебя я начисто.
А поди-ка —
Тож – вожди
Называются середнячества.
1-й Митин
И всё понапрасну. А насчет того, что к Яркову за хомутом ходил…
Левша
Хомут, известное дело, —
Сама на себя
Раба надела.
Учительница
Ты, Левша, неправ, нельзя же сразу.
Надо не ругать, а разъяснять.
Левша
Что ж,
Мы их в активе для показу
Держим, позабыл, как иху мать?
Учительница
Я прошу сейчас же прекратить – в беседе
Этот тон не гож.
Левша
Да почему ж?
Мы ведь с ним
(Указывая на старшего Митина.)
Покамест что соседи —
Он моей свояченицы муж.
(Хлопая Митина по плечу.)
Надо, брат, активней да построже.
Скорняков
(Подходит к учительнице.)
Можно на минутку,
Марь Иванн?
У меня к вам дельце.
Учительница
Отчего же?
(Отходит с ним.)
Скорняков
(Ищет что-то.)
Вот те на!
А положил в карман…
Вот. Нашел.
Левша
(Митиным.)
Ума в башке палата —
К знахарю пошли!
Митины
Всё за грехи…
Левша
Надо было к доктору, ребята…
Скорняков
(К учительнице.)
Вот, Марья Ивановна, – стихи.
(Читает.)
Заря взойдет. Мы клятву не напрасно дали,
И день такой немедленно придет,
Чтоб мы в труде колхозном ликовали
И под винтами уходили кулаки…
Учительница
Мысль правильна.
……………………………….
– Товарищи, начнем! —
И Алексашка встал.
Скользнув по раме,
Остановилось солнышко на нем,
На вожаке, на парне молодом,
На молодости, признанной за знамя.
– Теперь мы главный принимаем бой,
Тяжелый, припасенный напоследок,
Ценой любою, тяготой любой —
Пусть кровью нашей – выкупим победу.
Товарищи партийцы!..
………………………….
Так был начат день.
14-16
С двух крыльев станицы
Пошел народ.
И Чекмарев —
Потанинская подмога, —
Грудь свою вынеся вдруг вперед,
Вывел сквозь зубы
Свиста тревогу.
И, длинный свист подхватив,
Друзья
Дурную показывали отвагу,
На вострых носках по ледку скользя,
Вперед плечом уводя ватагу.
Рубахи с слинявшим красным разводом
Кавказским поясом перехватив,
Ломая – разъязви тя – спесь и моду,
Едва по единой чарке испив,
И тут же,
Срамоты не пужаясь,
Закутав усердье
В тулупчик злой,
О ржавые шомполы
Опираясь, —
Женатые
С гирьками под полой.
А што,
Ежли драка…
А либо што…
Их бабы сбирали —
Да разве ж можно…
И гирьки за пазухой,
И зато,
И в случае ежли,
Дак понадежней.
И возле потанинского двора
Встретились:
– А, Алексаша, что же
Знати-то сколь с ним,
Давно пора
Нам поклониться,
Ну что же, можем.
И Чекмарев – Весь в сощур —
И сам
Шапку снял:
– Александр Иваныч!
Колхозники, партия,
Наше вам,
Завтра к нам в гости
Пожалте, на ночь.
Митины зашептались:
– Вон как! —
И в матросы уходивший Юдин
Ласково посмотрел на кулак.
– Что ж, полюбовное дело —
Будем.
И вдруг подались
Навстречу без шума,
Как будто ветер
Прошел меж них, —
В дубленках рваных,
Держа угрюмо
Равненье
На Алексея Седых.
Прошли,
Раздвинув тень Чекмарева,
Туда, где, огрубелый в ветрах,
Над избами распластавшись сурово,
Падал и рвался красный флаг.
17
Махорка изо ртов
Сначала чинно
Падала дымом круглым к ногам,
Смутная, легкая, ползла по овчинам
По сарапулевкам и сапогам.
У подбородков
Росла кустами
И дальше шла
Клубами двумя,
Чадные бороды вырастали,
Плыли головы, головнями дымя.
И только
Под потолком прогорклым
Вставала
Во весь девичий рост,
Юбки расправляла махорка
И не жалела синих кос.
И не скрипели под ней качели,
Была она стройна и легка,
И медленно
Под нею горели
Лучшие головы Черлака.
В пожаре этом неслышном было
Много тоски, сомненья и зла.
Не разобрать:
Что корни пустило
И что собиралось
Сгореть дотла.
Каждая девка
Начисто знала
В лицо
Пшеницу, рожь и пшено,
Сколько засыпано их в подвалы
И сколько на завтра отделено.
Здесь взвешены
Радости и потери,
И не зазря рассуждать пришли
От старой веры
К новой вере
Своего хозяйства короли.
И мало что кто
Ходил в партизанах,
И мало что этот,
В двенадцать труб,
Купецкий лабаз
Обратили в клуб.
Не у одного,
Трясясь на гайтане,
Крест прикрывал
Втихомолку пуп.
И в первую очередь,
В первый ряд
Прошел и сел,
Как будто бы в сани,
Друзьям раздаривши
Умело взгляд,
С теми, что покрепче, —
Потанин.
С теми,
Которых любой сосед
Встретит без поклона едва ли,
Которых двенадцать с лишним лет
Церковными старостами
Выбирали.
Они – верховоды хозяйств своих,
Они – верховоды земли и хлеба!
И шапку снимали,
Встречая их,
С почтенья кося
И вздыхая: «Мне бы…»
И тыщи безвестных, глухих годов
Стояли они в правоте и силе,
Хозяева хлебов и скотов
И маяки мужицкой России!
На пагубе,
На крови,
На кости.
И вслед им мечтали:
Догнать, добраться,
Поболее под себя
Подгрести,
Поболее —
Осподи, нас прости!
И не давать
Другому подняться.
В первых рядах,
Об стул локотком
Опершись, оглядывая собранье,
Сидел, похохатывая шепотком,
Лысину прохлаждая платком,
С теми, кто покрепче, —
Потанин.
А дальше —
Лбы в сапожную складку,
Глотая махорочный дым густой,
Всё середнячество
По порядку,
Густо замешенное
Беднотой.
В задах, по правую руку,
С рубцами у глаз, чернобров,
Средь хохота
И каблучного стука
С робятами Чекмарев.
И к нему робята
Уже не раз
Подходили, шепча: «Впорядке».
И косил он черные щели глаз,
Алексашку ища украдкой.
И нашел, и, как из-за куста,
Долго метился узким глазом,
Губы выкривил: ни черта,
Рассчитаемся, парень, разом.
И гармонисту мигнул,
И тот
Вывел исподволь «страданье».
И басы на цыпочках
Сквозь народ
Вдруг прошли,
Подумать, вперед,
Подговаривая собранье.
Банда висла,
Трясла башкой
Над отхлынувшими мужиками,
Зажимала кистень рукой,
Чуть притопывая
Каблуками.
Но под двумя знаменами стол
Уплывал, в кумач наряженный тяжко,
И всё шире и шире шел
Шум улыбчатый
Вкруг Алексашки.
Алексашка смеялся:
– Федоровна,
«Утверждаю»
– Должна сказать,
«Утверждаю…» —
И смущалась зотинская жена,
Краской смутною
Залитая.
– Не могу, Александр Иваныч.
– Должна.
– Неспособна, ей-богу…
– Но-ка.
И когда кивнула людям она,
Прокатился ладошный рокот.
Уже на стол налег
Предсельсовета,
Бумаги в щепоти держа,
И секретарь залистал газету,
Глаза очками вооружа.
И остановился
Плывущий стол
Под знаменными кистями.
Когда по рядам
Говорок прошел:
– Евстигней Ярков,
С сыновьями…
Зашелестело в рядах:
– Ярковы… —
Встали,
Место давая им.
Но Евстигней отстранился:
– Что вы, сограждане,
Постоим.
Он стоял
С потупленным взглядом,
Гражданин
Ярков Евстигней,
И придерживал, тихий, рядом
Сыновьев,
Будто кобелей.
И стояли три дитяти
Возле тихого
На приколе,
На аршин боясь отойти
От отцовской любви
И воли.
18
Потушили цигарки,
Смолкнул шум,
И предсельсовета,
Пол обминая,
Качнулся:
– Товарищи, начинаю,
Выдвигайте
Пре-зи-ди-ум.
Кто-то встал:
– Предлагаю зачесть —
Поскольку клуб
Беднячеством полон
И также постольку, поскольку
Есть
Список от партии
И комсомола…
Но сзади крикнули:
– Это что ж?
Мненьям не дозволяете ходу?
В карман его список!
В карман положь!
Дайте высказаться
Народу!
И в ответ вспыхнуло:
– Стервы,
Чекмаревцы! Гоните их! —
И голос
Промеж остальных:
– Во-первых,
Предлагаю
Алексея
Седых!
Вверх пятерни полезли —
Нате!
Уверенны, суровы, темны,
Вверх бесстрашно, —
Считай, председатель,
Честные руки
Своей страны.
– Сорок.
– Довольно! Довольно!
– Мало!
Кой-где, не выдержав, тяжела,
Рука, задрожав, в темноту ныряла,
Но новая
Вместо нее росла.
– Прошел! —
И снова
Сквозь долгий шум:
– Юдина!
– Чекмарева!
– Учительшу!
И вот оно вдруг
Раскачалось, слово,
Плечом выдвигаясь
Из темноты:
– Требуем
Провести Чекмарева —
Представителя от бедноты!
Встал Потанин,
От смеха икая,
В дрожи весь,
Слезою давясь:
– Когда без желанья народу,
Какая
Такая будет Советская власть? —
И сквозь слезу,
Торопясь, считал
Руки приспешников и подлипал.
Так Чекмарев
В табачном дыме
Прошел к столу,
Веселый да злой,
Чтоб сесть
Под знаменами
Меж другими
Под крики:
«Да здравствует» и «долой».
19
Хмурый лоб,
Веселые брови,
Руку заложив
За кушак,
Слово схватил
Михаил Петрович
Редников —
Партизан и бедняк.
20
– Товарищи,
Призываю вас,
Бросьте,
По краю, покамест память жива
О том,
Как белели наши кости
На черных знаменах
Анненкова.
И хоть о костях тех
Слава плохая
И край
От разбойных войн полысел,
Сабли через хребты Урянхая,
Должно быть, увел
Атаман не все!
В правде
И супротивстве повинных,
У партизанов, бойцов,
У нас,
Цел на задницах и на спинах
Дареный атаманский лампас.
И знаем счет
Всем старым знакомым.
Боролись, товарищи,
Кто как мог,
И помним,
Что над потанинским домом
Летало на знамени:
«С нами бог!»
Потанин на цыпочки встал:
– Да что ты,
Немысленная клевета,
Боже мой! —
Но слово державший
Бил с разлета,
Тяжелый, как маузер,
И прямой.
– …И помним…
(Свист из задних рядов
И крики:
– Крой, Редников!
– Брешет даром!)
…Как дядюшка твой,
«Бедняк» Чекмарев,
Рубил нас в оврагах
Под Павлодаром.
И скажу как умею —
Мразь, кулачество,
Прошлогодняя сила,
Которую наша
Советская власть
Всё же
До времени
Пощадила,
Против колхоза
Вооружена!
Знаю,
Затеи у них какие, —
Саблю в руки,
Сапог в стремена
И на рысях —
Вымогать Россию!
Но я, Редников,
Бывший в боях,
Я говорю:
Не допустим этого.
На нашей любви,
На их костях
Да здравствует
Власть Советов!
И мы теперь…
(– Не из тучи гром!
– Правильно!
– Призывают к разбою!)
…Слушай, Потанин,
Всё отберем
За век награбленное тобою.
Всё отберем,
Потому – кулак.
И не противься,
Слышишь, Потанин?
Жить будет, слышишь,
Колхоз Черлак,
Имени
Ленинского восстания.
21
Шум…








