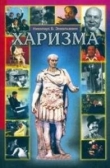Текст книги "Ливонское зерцало"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
За этим вдохновенным монологом отца прекрасная Ангелика явно заскучала. Заметив перемену в её настроении, барон Аттендорн велел дочери отправляться спать, ибо время, сказал он, уже позднее, и юным девицам бодрствование во время оно вредно; у мужчин же, сказал, ещё найдутся важные темы для продолжения разговора. Ангелике не очень хотелось уходить, но, послушная воле отца, она безропотно поднялась со своего места. Поднялся и Аттендорн. Взяв со стола графин с вином и два кубка, он пригласил Николауса проследовать за ним на хозяйскую половину.
Глава 15
Бойся, брат-немец, бойся!
 переди двинулся старик-слуга с двумя подсвечниками в руках, за ним – Аттендорн и Николаус. Такой же лестницей, что и по другую сторону от камина, они поднимались на галерею, откуда, похоже, был вход в покои хозяина замка. Краем глаза Николаус видел, как из полутьмы, со стороны кухни, вышли несколько слуг с большой тележкой и стали переставлять на неё со стола блюда.
переди двинулся старик-слуга с двумя подсвечниками в руках, за ним – Аттендорн и Николаус. Такой же лестницей, что и по другую сторону от камина, они поднимались на галерею, откуда, похоже, был вход в покои хозяина замка. Краем глаза Николаус видел, как из полутьмы, со стороны кухни, вышли несколько слуг с большой тележкой и стали переставлять на неё со стола блюда.
Проходили мимо окон; синеватый свет позднего вечера едва пробивался внутрь и тут же угасал. Поэтому мраморную статую Мадонны, поставленную в нише на повороте лестницы, статую, о которой говорил накануне Хинрик, Николаус не успел рассмотреть. По холодному мраморному лицу Девы Марии только слегка скользнул свет свечей, и тёмная грузная фигура барона заслонила обзор. Николаусу показалось, что барон, проходя мимо статуи, почтительно и печально, на краткий миг склонил голову – получилось, как будто кивнул.
В покоях барона Николаус увидел всё те же массивные резные панели, старинные выцветшие гобелены. В углу было установлено вишнёвого цвета знамя барона на крепком, отполированном руками знаменосцев древке. Слегка склонённое древко давало возможность полотнищу развернуться. На потемневшем от времени шёлке был изображён герб Аттендорнов – каменная крепость с тремя зубчатыми башенками и два ангела, трубящие над ней. Между ангелами искрился и переливался вышитый бисером девиз «Suo loco» – «На своём месте»; сильный девиз, словно клятва рыцаря, которому всегда можно довериться как человеку чести, на которого всегда можно опереться в трудное время, ибо он непременно и хорошо исполнит то, что обязан исполнить, поскольку он на своём месте заслуженно и навсегда, и он здесь лучший, избранный, он здесь – рука епископа и глас Божий. По краям знамени Николаус рассмотрел бахромы, а на противоположном древку крае – язычок-schwenkle. Знамя это говорило о высоком положении Ульриха фон Аттендорна среди других рыцарей. Старый Аттендорн был рыцарь-баннерет, имевший древнюю привилегию вести во время битвы своё воинство под собственным флагом. У рыцарей рангом пониже, у рыцарей-бакалавров, такой привилегии не было.
Слуга поставил подсвечники на стол и тихо покинул покои.
Сев за стол и отодвинув в сторону книги и грамоты, что на нём лежали в беспорядке, барон наполнил кубки вином и один подал Николаусу.
– Вот ты вспомнил про язычников сегодня... Ах, Николаус, признаюсь тебе, как я уже от них устал. Эти подлые крестьяне все как один язычники. Хотя мы и обязываем их ходить в церковь, и они ходят, но сидят они там с отсутствующим видом, крестятся вяло, молятся без веры в глазах. Зато видел бы ты их глаза, когда они в лес смотрят. Это волчьи глаза. Работать не хотят, приходится розгами, кулаком выколачивать из них всё, что прописано в вакенбухе[42]42
Происходит от шведского wacke — смета и немецкого Buch — книга. В Остзейском краю в вакенбухе определялись и перечислялись все хозяйственные повинности крестьян. Самый древний из сохранившихся вакенбух датируется первой половиной XIV столетия.
[Закрыть]. Кубьяс, который их порет на конюшне, жалуется иногда – руку от натуги не может поднять. Я устал управлять замком, хозяйством. Андреас в Риге, у него своя жизнь, свои заботы, и в Радбург он наезжает всё реже. Удо ещё слишком молод и легкомыслен. Приходится ждать, пока он повзрослеет. Но, похоже, повзрослению его я порадуюсь не скоро. Разве только мне удастся его пораньше женить. Однако пока о женитьбе он и слышать не хочет. Только и помогают мне управляться Фелиция и Ангелика.
Потом барон опять вернулся к старой теме: очень тревожился он из-за того, что Николаус задержался в пути.
Но Николаус заметил ему: не стоило так сильно волноваться; пока ещё они объехали все свои фактории в Литве – собирали товар, подсчитывали его и упаковывали, затем отправляли обозы в Ревель и Ригу, потом проверяли записи в книгах (ах! надеюсь, я не наделал ошибок и не оставил лазейки для лукавого конторщика!); пока ещё пережидали грозы и ждали, что дорога просохнет; пока ещё дожидались, что в полноводных речках после гроз вода спадёт, иначе не переправиться; пока ещё... да что говорить! кто часто путешествовал, тому известно, сколь много непредвиденных задержек может быть в пути – считай, за каждым поворотом таится какая-нибудь задержка: то лошадь захромает, то сломается ось, то треснет дышло, то простуда уложит в постель... С гружёным обозом ехать – это не верхом налегке.
– Однако не всё ещё я исполнил поручения отца, – Николаус достал из-под полы камзола грамоту в кожаном чехле; вынул грамоту из чехла и передал её в руки барону. – Вот, дядя Ульрих, вам послание от немецких полоцких купцов. Содержание этого послания мне известно только в общих чертах. Я не участвовал в его написании. В нём говорится: бойся, брат-немец, нового вторжения царя Ивана; всё у Ивана к тому готово. Кто что знал из купцов, к этому посланию руку приложили.
Фон Аттендорн сломил печать и погрузился в чтение. Пока барон читал, Николаус ещё осмотрелся в его покоях. Внимание его привлёк большой ковёр на стене. На ковре этом красовалось оружие Аттендорна: аркебуза с колесцовым замком, украшенная гравированными пластинами серебра, старинный двуручный меч – цвайхендер, а рядом – фламберг – такой же длинный меч, но с клинком волнистой формы; рукояти мечей посверкивали гранёными рубинами и изумрудами, цену которым Николаус не смог бы назвать, ибо таких чудных и крупных камней отродясь в руках не держал; была здесь и алебарда с игольчатым гранёным остриём, с остро заточенным лезвием и с лилиевидным изящным обухом; под алебардой висел русский бердыш – оружие попроще, но не менее надёжное и грозное; с одной стороны ковра развешаны были несколько клевцов с изогнутыми остриями, напоминающими клювы птиц, – страшное оружие, легко пробивающее щиты и любые доспехи; с другой стороны ковра клевцы уравновешивались шестопёрами, какие впервые были наварены хитроумными кузнецами где-то на Востоке, шестопёрами, незаменимым оружием ближнего боя, оружием – символом власти; иные из шестопёров так же, как и мечи, выделялись блеском драгоценных каменьев... Под ковром рядочком стояли прислонённые к стене щиты, и первый из них тевтонский – на снежно-белом поле чёрный крест. В тёмном углу на специальной скамейке лежали доспехи Аттендорна – шлем, латы, как будто изрядно помятые, но явно очень дорогие, наплечники и корпус посеребрённые и с золочёным гербом на груди, также лежали здесь доспехи из сыромятной кожи... но Николаус в точности эти последние не рассмотрел, ибо лежали они далеко от стола, от света, и поглощались тьмой.
Барон положил послание перед собой на стол:
– Как точно всё подсчитано! Сразу вижу, что имею дело с купцами, для которых пять – это пять, а десять – это десять, – он покачал головой. – Если же допустить, что в грамоте этой нет ни одной ошибки, и если предположить, что хотя бы четверть от этих сил пойдут мимо Радбурга, то нам, уверяю тебя, Николаус, очень несладко придётся. А помощи по нынешним временам ждать неоткуда. Каждый крепит своё гнездо.
– Есть у меня, дядя Ульрих, ещё одно послание – для старого магистра Фюрстенберга в Феллин. И это послание нужно поскорее отвезти. Я и так немало задержался.
Но барон отсоветовал Николаусу ехать в Феллин непременно завтра или послезавтра; сказал он, что дней семь-восемь ещё нужно подождать, ибо старого Фюрстенберга всё равно в Феллине нет. Совсем недавно Аттендорн с Феллином сносился и знает точно, что старый магистр сейчас в Ревеле. Принимая во внимание это обстоятельство, юный Смаллан может в Радбурге со спокойным сердцем погостить, как уже гостил однажды. И барон будет Николаусу очень признателен, если тот хоть немного развлечёт Ангелику, которая скучает без хорошего общества. В прежние годы Аттендорны часто ездили в гости в соседние поместья и у себя нередко принимали гостей. В Радбурге было людно и весело. А сейчас из-за войны с московитом ездить по Ливонии опасно, и Ангелика это вынужденное затворничество переносит тяжело.
– Погостишь немного, Николаус, а там и Удо вернётся, и, придёт срок, вы вместе доставите грамоту в Феллин.
Николаус не мог с этим не согласиться.
Фон Аттендорн продолжал:
– Да, и в прежние – лучшие – годы небезопасно было путешествовать по Ливонии в одиночку; тем более опасно это сейчас; особенно после того, как царь московский взял зимой Мариенбург. Волнуются простолюдины, а на дорогах немало российских лазутчиков, соглядатаев и просто разбойников: и из своей бедноты промышляют, из эстов, и из пришлых – из русских, литовцев. Война многих сорвала с насиженных мест, добродетельных сделала ворами и убийцами, законопослушных – дерзкими преступниками, богобоязненных – богокощунственными. И не на что доброму ливонцу опереться: от прежней веры уже отвернулись, к новой вере ещё не пришли; подорванная вера – что крепость с разбитыми воротами, она уже не крепость. В том нет ничего удивительного, ибо идёт война, но всё равно этот хаос никак не укладывается в голове.
– Я не в одиночку добирался, дядя Ульрих, – возразил Николаус. – Со мной были надёжные люди, господа Гуттенбарх и Вреде...
– Ты приехал без оружия, – перебил его барон. – Я бы назвал это легкомысленным.
– Но я же купец, не воин.
– Не суть важно – кто. В нынешние времена я и купцу не посоветую выходить за ворота замка без меча. Давно ли ты в последний раз брал уроки фехтования?
Николаус развёл руками и промолчал.
– Вот видишь! Наверное, сразился пару раз с холопами на палках... – Аттендорн довольно едко улыбнулся. – Когда приедет Удо, я велю ему поучить тебя немного, как ловчее держать меч.
– Конечно, дядя, пусть поучит, – кивнул Николаус. – Любая наука мне будет впрок.
– Так много случаев разбоя. Пропадают люди. Потом их находят порубленными или повешенными в лесу. Случается, вырезают целые семьи. Слабо защищённые усадьбы горят. Понятно, русские «охотники» наведываются с Псковщины. Это враги. Чего иного от них ждать! Но стало появляться всё больше своих охотников до лёгкой наживы; их называют мызными людьми. Рыцари, некогда являвшие собой славу и доблесть Ливонии, рыцари, на знамёнах которых писала девизы сама Честь, собирают вокруг себя всякий сброд и кормятся от грабежей, рыцари пьянствуют и водят дружбу с последним отребьем, направо и налево они щупают девок, а тех, что приглянутся им, укладывают к себе в постель. Горько видеть, Николаус, как летит в преисподнюю гордое орденское государство...
Рыцарь Ульрих фон Аттендорн подливал себе и Николаусу доброго вина.
О, такие тяжкие пришли времена!..
Русские войска, словно по своим вотчинам, ходят по ливонским землям.
Барон рассказал о хитрой повадке русских: не хотят они брать города и замки – не хотят тратить время на осады, терять людей при штурмах; они грабят окрестности, выжигают деревни, угоняют скот и людей; и, причинив много зла, уходят. Царь московский Иван самых гордых казнит, а остальными пленными ливонцами заселяет свои вотчины, на благородных рыцарях он ездит по палатам верхом и воду на них, смеха ради, возит, баронов посылает чистить свинарники, он благородных женщин на пирах пускает по рукам.
Тяжкие, тяжкие времена!..
Мимо Радбурга уже дважды московское войско проходило. Воинов – тьма! Сбились со счёту, считая всадников и пеших со стен. Русские проходили мимо с хоругвями и песнями, тянули пушки и обозы, русские, оглядываясь на замок, кричали что-то насмешливое и всем войском свистели и смеялись...
– Мы пробовали сделать вылазку. Но, увы, у меня так мало людей!.. Юнкер – которого ты, Николаус, уже видел, ибо он вместе с нами встречал тебя, и который, как ты заметил, давно уже не юнкер[43]43
Здесь барон каламбурит; юнкерами называли молодых рыцарей.
[Закрыть], я тебе его ещё представлю, – ударил по проходящему войску в хвост. Мы поддержали его пушками. Но у Юнкера под началом было всего две сотни человек – хоть и отборных, хорошо обученных и вооружённых. Тебе, Николаус, сыну купеческому, может, неведомо: двести хорошо подготовленных воинов, защищающих замок, – это сила; но двести воинов в поле против многотысячного войска – малая капля; только шума они и могут наделать, безумной храбростью угодить своей чести... Так вот, несмотря на то, что Юнкер опытный воин, наши едва ноги унесли; мы потеряли два десятка пеших и дюжину всадников. Русские даже не все развернулись, как будто не все и заметили вылазку. Они просто отмахнулись от нас, как отмахиваются от назойливой мухи. Они, считай, огрызнулись только, а я потерял лучших из лучших. Когда русские ушли, я послал людей подобрать тела погибших доблестных. Русские сняли с них все доспехи и зачем-то отрезали головы. Какой варварский обычай!.. Кто-то говорил потом, что головы ландскнехтов и рыцарей видели: головы болтались у стремян татарских всадников... Радбург потерял в этой схватке восемь рыцарей. Что мы с тех пор имеем... Я и четверо рыцарей, включая Маркварда Юнкера, а также Удо – вот и весь конвент[44]44
Орденские владения в Ливонии разделялись на несколько областей, центром управления каждой области был бург. В каждом бурге заседал конвент, состоявший из 12-20 рыцарей; возглавлялся конвент командором, или иначе комтуром, или иначе фохтом. Конвенты осуществляли судебную власть, хозяйственное и финансовое управление, руководили действиями войск.
[Закрыть]. А дороги – ни та, ни другая – не заперты. Замок не в состоянии сдержать таких многочисленных войск. И получается, что защищаем мы здесь не Ливонию, а только себя.
Николаус с сочувствием покачал головой:
– Даже мне, купеческому сыну, понятно, что Радбургу требуется пополнение. Наверное, вы уже писали о том епископу или магистру, дядя Ульрих?
Но барон словно не слышал его:
– Я не стар ещё, я полон сил, однако мне уже больше хочется спокойной жизни, чем состязаний и сражений. Такова природа человека: меняться со временем. Когда-то ветер в лицо меня радовал, ныне он раздражает... Я прекрасно владею всем этим, – он кивнул на ковёр, увешанный оружием, – и не раз побеждал в поединках, и воинскую науку не только по книгам изучал, но с течением лет, с появлением седины в бороде я стал более склонен договариваться, нежели сражаться. Особенно если враг намного сильнее... Всегда можно договориться. Чтобы обе стороны остались довольны. И этой войны, этой разрухи, всей этой гнусности, что творится вокруг руками людей, можно было бы избежать, будь наши епископ и магистр в своё время умнее и уступчивее, будь они прозорливее.
Допив вино, барон отпустил Николауса, дал ему большую зажжённую свечу:
– Засиделись мы с тобой. А мне ещё надо наведаться к сестре.
Глава 16
В темноте легко говорить тайком
 иколаусу не спалось. Гнали сон голоса ландскнехтов, пировавших далеко заполночь. Разговоры то и дело прерывались смехом, потом смех вдруг выливался в песнь, но песнь, не допетая до конца, рассыпалась на восклицания, какие-то окрики; стукались кружки, и опять слышался нескончаемый многоголосый гомон. Однако пришло время, когда пирующие, похоже, увидели у бочат дно, когда по дну этому грустно заскребли кружки... Николаус ворочался с боку на бок, тревожимый теперь впечатлениями дня, тревожимый вопросами, какие появлялись ниоткуда и стучались в сознание, в тёмную дверь, требуя ответов. Он искал ответы, приоткрывал эту дверь, поднимая повыше свечу, но не находил их, ибо сразу за дверью натыкался на стену – глухую, неодолимую, необъяснимую. Дверь открывалась в никуда, и он затворял её. Ему становилось жарко, и он сбрасывал стёганое покрывало, у него затекала шея, и он отбрасывал в стороны многочисленные подушки...
иколаусу не спалось. Гнали сон голоса ландскнехтов, пировавших далеко заполночь. Разговоры то и дело прерывались смехом, потом смех вдруг выливался в песнь, но песнь, не допетая до конца, рассыпалась на восклицания, какие-то окрики; стукались кружки, и опять слышался нескончаемый многоголосый гомон. Однако пришло время, когда пирующие, похоже, увидели у бочат дно, когда по дну этому грустно заскребли кружки... Николаус ворочался с боку на бок, тревожимый теперь впечатлениями дня, тревожимый вопросами, какие появлялись ниоткуда и стучались в сознание, в тёмную дверь, требуя ответов. Он искал ответы, приоткрывал эту дверь, поднимая повыше свечу, но не находил их, ибо сразу за дверью натыкался на стену – глухую, неодолимую, необъяснимую. Дверь открывалась в никуда, и он затворял её. Ему становилось жарко, и он сбрасывал стёганое покрывало, у него затекала шея, и он отбрасывал в стороны многочисленные подушки...
Потом, отчаявшись заснуть, Николаус поднялся и распахнул окно. Вместе с ночной прохладой проникли в комнату бесконечные, звонкие песни сверчков, хозяев ночи; и наплывали эти песни волна за волной. Набежала тучка на небо, прикрыла звёзды. Смотрел Николаус в ночь и почти ничего в ночи не видел – только несколько бледных огоньков были видны в деревне за полем. Где-то там старая крестьянка, похоже, лучину жжёт, пряжу прядёт, напевает монотонную древнюю песнь, которую напевали в здешних местах и тысячу лет назад. А там, может, молодка с похожей песнью укачивает проснувшееся дитя, сокровище своё держит на крепких руках; и сладенький ротик ребёнка привычно находит материнскую грудь. Или старик-пастор зажёг там над пюпитром свечу, он пишет к завтрашнему проповедь; скрипит о бумагу перо...
Прикрыв окно, Николаус опять лёг. Но всё ворочался; не спалось, не лежалось; не находило покоя его юное богатырское сердце. В замке царила тишина. Наконец усталость стала брать своё. Дремотные бессвязные мысли опять посещали его, и стучались в тёмную дверь, и становились они всё бессвязнее, отвлечённее; они обращались в некие смутные образы, которые сами собой появлялись и, непознанные, ускользали; они проходили перед внутренним взором чередой, таинственными тенями, они приоткрыли тёмную дверь, за которой уже не было стены, и падали, падали в бесконечность, в бездну или уносились высоко в заоблачные небеса...
Николаус вздрогнул и приоткрыл глаза.
Или чуткое ухо уловило некий тихий звук, шорох? Или лёгкое движение воздуха потревожило его?.. Или кто-то стоял рядом, и Николаус почувствовал его присутствие?..
Кто-то стоял и смотрел на него и не дышал, бесплотный... стоял совсем рядом и смотрел, смотрел... Николаус повернул голову и увидел женщину над собой. Печальный лик. Её можно было бы назвать бледной тенью, или призрачной тенью, или голубоватой тенью, – если бы тень могла излучать свет. Женщина смотрела на него, женщина любовалась им, как любуется мать собственным сыном; у женщины двигались губы, будто она говорила что-то. Но эта женщина любовалась им и хотела что-то сказать ему не из этого мира, а из того мира, до которого за жизнь не дойти и на самом сильном коне не доехать. Хотя была она близко-близко. Обладай она плотью, Николаус услышал бы её дыхание, не то что голос...
Наверное, слишком часто барон подливал вина... Подумав так, Николаус закрыл глаза.
А когда он вновь открыл их, призрачной женщины уже рядом не было. Да и не могло быть. Почудилось. Привиделось в полудрёме, в полусне. В этой тишине, царившей в замке, были бы слышны даже самые лёгкие шаги.
...Но теперь эта женщина стояла в проёме двери. Между тем Николаус ясно помнил, что закрывал дверь. В темноте он видел только смутный силуэт этой женщины в светлых одеждах. Она стояла без движений – как статуя, про которую говорил Хинрик и которую Николаус видел накануне мельком. А ещё, припомнил Николаус, Хинрик рассказывал сказку про призрак Эльфриды, который будто бы многим в замке уже являлся и будто бы сам Хинрик видел неясным пятном. Николаус всё смотрел на эту женщину. Уж можно было «Pater noster»[45]45
«Отче наш» (лат).
[Закрыть] трижды прочитать, а она всё стояла и не двигалась и смотрела на него. Лицо её во тьме дверного проёма виделось мертвенно-бледным. Николаус всматривался в её лицо, и ему показалось, что это лицо Фелиции, сестры барона. Впрочем, он не был уверен, ибо видел баронессу совсем недолго и почти не запомнил её.
Так они могли смотреть друг на друга очень долго; у призраков времени много – целая вечность. Но наконец почудилось Николаусу, будто что-то изменилось. Или выглянула из-за тучки луна, и свет её, пусть и слабый, сделал видение яснее, или переменилось выражение лица у этой ночной гостьи – только что холодное, оно будто бы стало теплее; или это улыбка озарила лицо...
Николаус услышал тихий шёпот:
– Отик?..
Он всё всматривался в темноту. Ему казалось, видение вот-вот исчезнет.
Где-то рядом чуть слышно прошелестел шёлк:
– Ты не Отик?..
Здесь луну опять прикрыла тучка. Николаус смотрел в темноту и уже, кроме темноты, ничего не видел. Так тяжелы были веки, так необоримо клонило в сон... Не было никакой женщины в проёме двери, и дверь вроде бы была закрыта.
Может, это ночь тишайше прошелестела в крыльях летучей мыши:
– Отик...
Нет, всё Николаусу послышалось. Или же был шёпот?..
Николаус повернулся на другой бок и засыпал уже, когда на краткий миг ему явилось озарение: нет, не Эльфриды дух бесплотный посетил его ныне, и не Фелиция то была, и не причуды это были сонного разума, а был то сам Морфей, сын Гипноса, который и принял форму красивой женщины, ибо в обыкновении у него принимать разные формы, когда он является к уставшему человеку. И как это Николаус не разглядел у него за спиной крылья?.. Это же его крылья шелестели, а вовсе не крылья летучей мыши и не шёлк.
Кто-то махнул тёмным плащом, затмил звёзды...