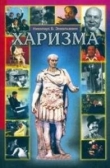Текст книги "Ливонское зерцало"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Глава 36
Попойки, как и долги, часто кончаются ужасно
 ато на следующий день, по дороге домой Удо не долго терпел муки от того огня, что выжигал ему нутро. Он повернул коня к ближайшей придорожной корчме, хотя ещё далеко было до конца дня и можно было ехать и ехать, и, несмотря на все уговоры Николауса, сел за широкий стол, крепко сел, основательно, в предвкушении удовольствия весело грохнул по столу кулаком и заказал себе выпивку. Он гулял до утра, потом весь день беспробудно спал, а к вечеру снова напился. Трудненько было Николаусу оттащить его от пьяного стола и уложить в койку. И только обманом удалось справиться с Удо. Сговорившись с корчмарём, Николаус сделал вид, что заказал питьё в комнату, Удо поверил и, распластавшись на ложе, без сил уснул.
ато на следующий день, по дороге домой Удо не долго терпел муки от того огня, что выжигал ему нутро. Он повернул коня к ближайшей придорожной корчме, хотя ещё далеко было до конца дня и можно было ехать и ехать, и, несмотря на все уговоры Николауса, сел за широкий стол, крепко сел, основательно, в предвкушении удовольствия весело грохнул по столу кулаком и заказал себе выпивку. Он гулял до утра, потом весь день беспробудно спал, а к вечеру снова напился. Трудненько было Николаусу оттащить его от пьяного стола и уложить в койку. И только обманом удалось справиться с Удо. Сговорившись с корчмарём, Николаус сделал вид, что заказал питьё в комнату, Удо поверил и, распластавшись на ложе, без сил уснул.
Утром Николаус вытащил его из корчмы едва не силой. Целый день Удо, поклёвывая носом в седле и бодрясь, благодарил друга, что тот заботится о нём и столько возится с ним. И смотрел Николаусу в глаза с искренним раскаянием. Но уже к вечеру Удо застрял в другой корчме. Так путь до Радбурга мог растянуться на недели. Николаус грозил оставить Удо одного, но тот не страшился сей угрозы. Николаус запрещал хозяину корчмы наливать Удо хмельное, а корчмарь, соглашаясь с Николаусом, однако, подливал пива или вина, едва Николаус отворачивался, и потом прятал корчмарь в кошель очередную звонкую монету.
Пробовал добрый Николаус и уговорами добиться своего:
– Ты, помнится, стихи мне недавно читал. Стихи хорошие. Тебе бы, Удо, нужно бросить пить и начать писать стихи. Из тебя вышел бы замечательный рыцарь-поэт.
– Я подумаю над этим, – пьяно улыбался Удо, польщённый похвалой, и тут же сдвигал брови. – Но пить не брошу. Пил и буду пить. Ибо мне это нравится...
Он прикладывался то к пиву, то к вину. И улыбчивый корчмарь, всегда готовый угодить, был его лучший друг. И снова к вечеру Удо надрался изрядно, едва держался на ногах, и Николаусу опять пришлось тащить его до постели. Это было сущее проклятие – пристрастие Удо к выпивке. Сломленный усталостью, Николаус спал долго и крепко, проснулся поздно. А когда проснулся, обнаружил, что Удо уже в комнате нет. Николаус, схватившись за голову, наспех оделся, сбежал по лестнице и нашёл друга сидящим внизу, за столом, и опрокидывающим, как и вчера, и позавчера, кубок за кубком.
Однако уже изменилось настроение Удо. Ему, кажется, опостылела эта корчма, не лучшая в ряду подобных – с истёртыми порогами и скрипящими дверьми, с грубо сколоченными лавками и столами, с заплёванными полами, с коптящими дешёвыми свечами на люстре, тележном колесе. И опостылел жадный корчмарь. И Удо уже не хвалил корчмаря, а ругал его последними словами и придирался к нему. Отодвигал сковороду с мясом и говорил, что это, не иначе, вонючая ослятина. Корчмарь клялся и божился, что это, напротив, отменнейшая свинина, и самая свежая – свежайшая, – поскольку только утром закололи свинью на заднем дворе, и собаки даже ещё не успели всю слизать кровь с травы.
– Нигде поблизости вам не подадут столь отменной свинины, господин. Я считаю...
Удо грубо его перебивал:
– Считай – не считай, а у задницы всего две половинки. И еда твоя – задница!..
– Но как можно, господин! – едва не плакал обиженный корчмарь; должно быть, он, и правда, старался на совесть.
– Это разве вино? – гневно восклицал Удо и плескал остатками вина из кубка в побледневшее лицо хозяина корчмы. – Это было вчера вино. Но ты сегодня развёл его водой, жадная скотина! Или ты думаешь меня обвести вокруг пальца? Ты думаешь, я не отличу настоящего вина от пойла?
– Это самое настоящее вино, господин, – кланялся испуганный корчмарь. – Но это молодое вино. Оно ещё не нагуляло крепости, господин.
– Твои работники косятся на меня! – всё придирался Удо. – Прогони их с глаз, не то я задам им трёпку.
– Они не косятся на вас, господин, – вступался за работников корчмарь. – Они лишь посматривают, не нужно ли вам чего.
– Мне нужно... – и Удо снимал с пояса изрядно отощавший уже кошель и брался перечислять, что ему нужно, но взгляд его останавливался на кубке, и Удо, пригубив вина, забывал, что только что хотел сказать.
Николаус, сев к Удо за стол, помог – он просто велел принести лучших закусок.
Запуганный насмерть корчмарь поторопился на кухню, и не успел Удо покончить с кубком, как стол перед ним был накрыт. Конечно, это был не изысканный радбургский стол, но и тут быстрый глаз видел немало всякого, отчего мог возрадоваться пустой желудок. Окорока и колбасы, бараньи рёбрышки и свиные уши, печёная репа и свежий хлеб, варёные бобы и горох, рисовая каша, яйца, рыба из местной речки, печёные морковь и коренья, приправленные жареным на сале луком, мёд и сыр.
Целый день пировал Удо и рассказывал Николаусу всякие байки про женщин и про любовь, про детей своих, детей его сладкого греха, его минутного удовольствия, которых в каждой деревне, должно быть, по дюжине (причём ни угрызений совести, ни тем более отчаяния, похоже, не испытывал он при мысли о том, что где-то по деревне – этой, или той, или третьей, – бегают его дети, его семя, его кровь, не признанные им, даже ни разу не представшие перед ним, им не обласканные, в бедности, может, в нищете, в болезнях, в коросте, в голоде и страхе, среди иного быдла благородное потомство баронов Аттендорнов).
Потом Удо взялся рассказывать про выволочки, какие он делал всяким недостойным, попадавшимся время от времени ему на жизненном пути, и, понятно, во всех сих байках он выглядел справедливым героем, неутомимым рыцарем любящего сердца и добра. А поскольку говорил Удо довольно громко, то повествования его слышал не только Николаус, но и другие принуждены были слышать, кто был в это время в корчме. Так и трое мужчин в чёрных опрятных одеждах, по виду господ, что сидели за соседним столом, у окна, задёрнутого занавеской, освещённые тусклыми огоньками сальных свечей, не могли не слышать некоторых историй Удо, порой неправдоподобных, а порой совершенно бахвальных. И Николаус, который в этот день ограничился одной кружкой пива и был трезв, видел недоверчивые улыбочки, что прятали те господа, переглядываясь между собой, в молчании ожидая заказанного ужина.
Как видно, заприметил те улыбочки и Удо.
Глядя прямо перед собой потемневшим от негодования взором, глядя на запотевший глиняный кувшин с пивом, Удо повысил голос. Хотя к тем троим в чёрных одеждах он даже не повернул голову, обращался он именно к ним:
– Мне совсем не нравится, как вы на меня смотрите, господа.
Только глухой сейчас не услышал бы угрозы в его голосе. Но на тех троих его угроза не произвела ровно никакого впечатления. Никто из троих даже не оглянулся на Удо.
– Мы никак не смотрим на вас, господин, – заметил негромко один из них, заметил спокойно и равнодушным тоном. – Нам до вас дела нет.
– Вы косо смотрите на меня, – настаивал Удо, играя желваками и скрипя зубами.
Те трое переглянулись и сделали вид, что только сейчас обратили на Удо внимание. Один из них с весьма едкой улыбочкой сказал:
– Пиво в голове – ум в кувшине.
А другой издал очень даже обидный смешок:
– Радуйтесь, что мы только косо глядим на вас. Потому что если мы посмотрим на вас прямо, вам худо придётся, господин.
Удо расплылся в улыбке. Ему как будто того и надо было:
– Я не ошибся! Вы ещё и дерзкие. И не знаете, как вести себя в хорошем обществе, потом он добавил, обратившись к Николаусу: – Они осмелились угрожать мне, барону. Мерзавцы!
У одного из незнакомцев, что сидел к Удо ближе всех, уже разгорались глаза, но этот человек как будто подавлял ещё в себе гнев. Он заметил:
– Быть может, вам это не понравится, но мы далеко не мерзавцы, а благородные люди. А если вежливо спросить, то, возможно, выяснится, что и среди нас есть бароны...
Едкая улыбочка уже сползла с лица говорящего, и в голосе отчётливо слышалось нескрываемое раздражение.
Впрочем незнакомцы явно не хотели ссоры, понимая, что имеют дело с пьяным. И они не продолжали бы сей бессмысленный спор, если бы промолчал Удо. Однако тот не промолчал. Унизительным для мужского достоинства, посчитал он, было бы сейчас уступить им.
Удо поднялся из-за стола и наполовину вытащил меч из ножен:
– Я – барон Аттендорн. Назовитесь и вы.
– А я – Папа Римский Пий IV[71]71
Римский Папа Пий IV, в миру Джованни Анджело Медичи. Занимал папский престол с 25 декабря 1559 года по 9 декабря 1565 года.
[Закрыть], – засмеялся кто-то из троих.
Удо вскипел:
– Благородный человек, которого обозвали мерзавцем, уже бы схватился за оружие, – он пошатывался и глядел на незнакомцев очень грозно.
Но никто его не боялся. Один кивнул Николаусу:
– Согласитесь: трезвый благородный человек не станет связываться с пьяницей. Уймите своего друга, сударь.
Другой сказал:
– Человек сам наказывает себя соответственно своему неразумию. Ваш друг уже наказан Господом, напрочь лишён разума, и мы не горим желанием наказывать его ещё сильнее.
Доводы этих людей были понятны Николаусу. Он и сам уже до чрезвычайности намучился с Удо. И не мог не согласиться с ними:
– Да, конечно. Оставь их в покое, Удо. Ты же видишь, господа никого не хотят обижать, – Николаус придерживался вежливого, примирительного тона; и тем троим сказал: – На друга моего не держите зла. Он выпил сегодня немного лишнего. Вино сейчас говорит за него.
Однако напрасны были его старания...
– Мерзавцы! – вскрикнул Удо, покачиваясь и задевая головой колесо-люстру. – Ты слышишь, они многословны, как трусы, и прибегают к переговорам, когда давно пришла пора драться. Только трусливые собаки много брешут и не кусают; и он плеснул в тех троих вином. – Может, их следует в воротах повесить?
Этого было достаточно. Меч одного из незнакомцев прямо-таки взвился над столом, блеснул холодной молнией. Остриё его было нацелено прямо в глаза Удо. И если бы не Николаус...
Стремительным и неожиданным для всех, мастерским ударом добрый Николаус отбил меч, и тот отлетел в сторону, ибо незнакомец, не ожидавший решительного отпора, выронил его. Тут и другой меч пошёл в дело, но и его быстрым ударом клинка снизу отбил Николаус. Этот меч, также вырвавшись из руки хозяина, вонзился в дубовую перекладину на потолке, почти над самой головой у Удо.
Слегка отведя в сторону свой клинок, Николаус стоял лицом к незнакомцам, между Удо и ими, стоял, готовый к борьбе, со спокойным, уверенным лицом:
– Я же сказал: он выпил немного лишнего, господа...
Те трое молчали, выглядели растерянными. Ловкость Николауса их весьма впечатлила.
И Удо молчал, был он поражён не меньше их; пьяными глазами смотрел на всё ещё покачивающийся меч. Николаус, коего он знал с детства не весьма смелым мальчиком, представился Удо в эту минуту непобедимым великаном, скалой несокрушимой, заслонившей его от смертельной опасности, и себя увидел Удо как бы со стороны – как он слаб и даже жалок и убог со своей пьяной кружкой в тени этой скалы, за плечами друга широкими и надёжными. Удо мертвенно побледнел – как видно, протрезвел на несколько мгновений и до сознания его дошло, что могло бы произойти, если бы не своевременное вмешательство Николауса. И наконец Удо, совершенно расстроенного, развезло – так, что он даже не в состоянии уже был держаться на ногах. Потому он рухнул на лавку, упёрся грудью в край стола и глядел куда-то вперёд осоловелыми глазами, беспомощно и бессмысленно.
Один из незнакомцев наконец обрёл дар речи:
– Вы похожи на купца, молодой господин, но, сдаётся мне, вы вовсе не купец.
Другой с уважением заметил:
– Удар ваш хорошо поставлен и точен, искусный удар.
– Я сожалею, господа, – Николаус подхватил Удо сзади под мышки, поставил его на ноги и увёл наверх, в комнаты.
Более они этих троих людей в чёрных платьях не видели. Должно быть, те уехали ночью или рано утром.
...На следующий день Удо как будто подменили. Он, пробудившись довольно рано, вышел во двор и велел одному из работников окатить его холодной колодезной водой. Потом другому работнику велел нацепить ему шпоры, взял хозяйского коня и проскакал на нём с добрый десяток миль – ибо когда он вернулся, конь был весь в мыле, а шенкели у Удо мокрые от конского пота. Всё утро Удо был молчалив и тих, раздумывал о чём-то и взглядывал на Николауса виновато. Как видно, даже после весьма обильных вчерашних возлияний Удо всё происшедшее хорошо помнил. И он сам заговорил о вчерашнем за завтраком, во время которого не притронулся ни к пиву, ни к вину:
– Я должен поблагодарить тебя, Николаус, мой добрый друг. Я помню, как ты отбил меч, нацеленный мне в лицо. Хороший удар...
– Как-то случайно вышло, – заскромничал Николаус, отведя глаза.
– Случайно можно ударить один раз. Но я видел два мастерских удара.
– Не знаю, как это получилось... – пожал Николаус плечами.
– Я вёл себя скверно, я был несправедлив к тебе, – словно не слыша его, признавался Удо. – И заслужил, понимаю, хорошую выволочку. И ты можешь сказать сейчас всё, что думаешь обо мне. Я не обижусь, так как даже не имею на это права.
– Ничего я не могу сказать, видя твоё искреннее раскаяние, Удо.
– Мне показалось в тот миг, что я заглянул в лицо смерти, – глаза Удо, произносившего эти сильные слова, как будто обратились внутрь него, в память, во вчера. – Поедем сейчас домой. Достаточно уж я помучил тебя, мой друг. Прости!..
Глава 37
Дерево узнают по плодам, человека —
по поступкам
 статок пути они проехали быстро. Если и останавливались наши путники в какой-нибудь придорожной корчме или в деревне, то только ради того, чтобы дать необходимый роздых лошадям. А пищу они принимали, сидя в седле. Удо по-прежнему был молчалив, смирен, как агнец Божий, вздыхал, без интереса поглядывал по сторонам, на вопросы Николауса отвечал односложно либо вообще не отвечал, занятый думами.
статок пути они проехали быстро. Если и останавливались наши путники в какой-нибудь придорожной корчме или в деревне, то только ради того, чтобы дать необходимый роздых лошадям. А пищу они принимали, сидя в седле. Удо по-прежнему был молчалив, смирен, как агнец Божий, вздыхал, без интереса поглядывал по сторонам, на вопросы Николауса отвечал односложно либо вообще не отвечал, занятый думами.
Зато по приезде в Радбург Удо так разговорился, что речей его, казалось, было не остановить. Он всем рассказывал о героическом поведении Николауса – в мельчайших подробностях, а иногда и в лицах, и в жестах, будто заправский лицедей из бродячего театра; и картина, которую он представлял, вставала перед глазами слушателей правдивая и ясная; впрочем правдивая и ясная она была лишь от одного момента до другого – от начала перебранки с незнакомцами в корчме до ухода Николауса и Удо в спальню; всё, что было до и после, либо выглядело в его изложении расплывчато, приблизительно, либо опускалось вовсе. И даже самому внимательному слушателю, каким, без сомнения, являлся барон Ульрих фон Аттендорн, было непонятно, почему же всё-таки незнакомцы придрались к его сыну Удо и почему его сын Удо, как будто сам всегда неплохо фехтовавший, не успел вытащить из ножен свой меч, почему рыцарь отдался под защиту купца...
Удо, повествующий о Николаусе, был громок:
– Он ударил всего два раза. И когда только успел извлечь меч из ножен!.. Он отразил нападение тех троих дьяволов в чёрном, и они быстро сообразили, что с нами им не справиться, – и пошли на попятную... – всякий раз, рассказывая о случае в корчме, Удо делал нажим на это «с нами». – Николаус весьма неплохо для купца обращается с мечом. Я теперь с ним хоть в Риту, хоть в Ревель, хоть на край света могу...
Кажется, никто в замке не обратил внимания на то, как повествование Удо воздействовало на сестру его Ангелику. Когда Удо рассказывал о неожиданном воинском мастерстве Николауса, когда он по сути живописал его подвиг, лица слушающих были обращены к нему, к Удо, и, понятно, никто в это время не видел Ангелику, никто не видел, как от некоей мысли, посетившей Ангелику, в какой-то миг зарделось её милое лицо. Девушка явно была довольна тем, что говорил её брат. Прячась за спинами других слушающих, она скрывала свой восторженный взгляд. И только от двоих Ангелика не сумела скрыть своего восторженного чувства – от Мартины, которая искренне, всем сердцем любила добрую молодую госпожу и постоянно поворачивала лик свой к ней, как цветок поворачивается к солнцу, и от самого Николауса, новоиспечённого героя, которого рассказы Удо волновали мало, в то время как во всяком появлении вблизи него Ангелики он видел как бы прекрасное начало нового дня – чудесного солнечного дня, дарованного миру Богом.
Смелый и благородный поступок Николауса обговаривали в замке на все лады. Особенно старалась и преуспела в этом деле прислуга; иные из прислуги, дабы усилить впечатление от своего рассказа, приукрашали то, что слышали от молодого господина Удо, домысливали сильные подробности и выдавали свои выдумки за правду. С их подачи выходило, что доблестный Николаус расправился в той корчме не менее чем с дюжиной подлых разбойников, вздумавших обобрать молодого барона; разбойники-де, одетые во всё чёрное, целая шайка, ломились в запертую дверь спальни, господин Николаус резко дверь распахнул, разбойники ввалились в спальню гурьбой и попадали на пол, а Николаус Смаллан с ними бился самоотверженно, как лучший из рыцарей, – и кого-то он сразил мечом на месте, кого-то спустил вниз по лестнице, а кого-то, имени не спросив, выбросил в окно; кровища ручьями там текла, много мебели в драке переломали, пришлось также потом чинить лестницу и стеклить окна... Что же делал в это время Удо? А Удо в это время, утверждали знатоки, бился с самым главным из разбойников – с тем, который был выше и сильнее всех и одежда на котором была всех чернее...
Фантазии прислуги скоро дошли до радбургских рыцарей и кнехтов. Хотя те, люди опытные и побывавшие во всяких передрягах, не очень-то верили россказням слуг, они хорошо понимали, что не бывает дыма без огня, и если замок полнится слухами о геройском деянии юного Смаллана, значит, некое геройское деяние, конечно же, имело место. Рыцари и кнехты всячески выражали Николаусу уважение: заговаривали с ним, кланялись ему, звали к себе разделить с ними трапезу или принять участие в их молитве. И когда Николаус из скромности отказывался, они начинали уважать его ещё более, поскольку знали, что порой скромность украшает героя больше, нежели само геройство.
Наверное, на второй день после возвращения Удо и Николауса из Феллина рыцари затащили-таки их к себе в Восточную башню на пирушку. И им, старым друзьям своим (многие из которых не видели ничего зазорного в лишней кружке пива или вина и считали, что мужчина не может зваться настоящим мужчиной, если не испытал в жизни всего и если он ни разу не напивался до блевоты и до самого скотского состояния, когда ему уж всё равно – на кровати ли он лежит или под кроватью в обнимку с ночным горшком), Удо рассказал о ссоре в корчме всё от начала до конца без утайки. Рыцари одобрительно качали головами, поглядывая на Николауса, и говорили ему многие приятные слова. Николаус посидел с ними немного и хотел уходить, поднимался из-за стола, но они не отпускали, тянули его за локти обратно, подливали в кубок ещё вина. И всё говорили, что Николаус совершил достойный поступок. Оказалось, кое-кто из них слышал уже о тех троих в чёрных одеждах, с которыми не побоялся сразиться Николаус. Те люди, и правда, были благородного звания. О двоих из них, о рыцарях, ходила весьма дурная слава – слава о людях, ставших на путь разбоя, обратившихся в преступников; они – когда-то доблестные рыцари – отказались от главных обетов, пожелали обогатиться под шум войны и собрали вокруг себя мызных людей без совести, без чести. Жили они от насилия, убийства и грабежа, оружием владели мастерски, и потому удивления достоин этот случай: как Николаусу удалось их остановить; видно, вступился за него и за Удо сам Господь Бог.
Старый барон Аттендорн выказал Николаусу свою благодарность в признании: он до последнего времени всё не мог отделаться от сомнения, что Николаус (ах, прости, мой молодой друг! не я сомневаюсь, а мой опытный ум) – есть Николаус. И только ставший уже далеко известным геройский, самоотверженный поступок окончательно убедил его в том, что Николаус – достойный сын своего отца Фридриха Смаллана; отец его Фридрих – хоть и купец, а знатного рода и хорошей родословной; великий предок его ходил в сражения под знамёнами Ордена тевтонов, и много совершил славных подвигов, и многих язычников он в христианство обратил. Мужество и сила веры у Смалланов в крови.
Удо после того памятного случая потихоньку бросил пить. Только сильнейшего притяжения к женщинам он не мог пересилить, и все мысли его, как и прежде, денно и нощно блуждали на ниве сладкого греха. То у одной местной красавицы он пропадал, ночевал и развлекался с ней в свежем, душистом сене, то другую осаждал, угощал лакомствами, коими запасся на кухне, и затейливыми историями, кои придумывал на ходу, оглаживал бело-сахарные бёдра, то третью поджидал на опушке, осыпал ласками и сулил несметные богатства; под ласки и угощения, под щедрые посулы, под песни нежные и под грустные или озорные стихи, напористый, он обычно скоро добивался своего. Однажды Николаус случайно обнаружил Удо в каком-то чулане с Мартиной. Николаус проходил мимо, услышал некий шорох и, привлечённый им, открыл чуланную дверь... Мартина убежала, скрывая одной рукой лицо, а другой оправляя юбку. Удо же натянуто засмеялся.
Но пить Удо всё-таки бросил, и отец его Ульрих был тому несказанно рад. А Удо, отлучивший себя от кубка, бывало очень скучал, не находил себе места. И если не занят он был девицами, то слонялся всюду с довольно унылым видом. От той же Мартины Николаус узнал, что Удо, всегда выражавший пренебрежение к книгам и к учению, как-то, заглянув на женскую половину, молвил Ангелике: «Ах, сестра! Так скучно. Что посоветуешь прочесть?..» Похоже, к учению иной человек может прийти и со скуки.
А Николаус... Что же наш Николаус?
Добрый Николаус сказал как-то за обедом, что пора ему и честь знать, что пришло время собираться домой в Полоцк. Однако барон и Удо (первый с достоинством и благородной сдержанностью, второй – с искренним юношеским жаром) просили его остаться, погостить ещё в славном Радбурге до конца лета. Николаус был полон решимости поступить так, как намеревался, но хозяева замка его настойчиво упрашивали и говорили, что дом их опустеет без него и не с кем будет интересно время провести, не с кем будет переброситься умным словцом. «Ты так хорошо вписался в нашу семью!» – заметил барон Ульрих. Николаус колебался, не зная, что им возразить. А когда же просьбу отца и брата повторила Ангелика, Николаус сдался и обещал пользоваться радушием Аттендорнов, как они и просили, до осени. Николаус сказал, что постарается не быть докучливым.
Каждый вечер, запершись в покойнике своём, Николаус с ясным сосредоточенным лицом рисовал на холсте город и замок Феллин – высокие стены и квадратные башни рисовал с флагами и пушками, Замковую улицу с отрядами всадников, скачущими по ней, с купцами, выставляющими свой товар в окнах, и церковь со шпилем, и колодцы, неприступные форбурги, восходящие в гору ступенями орденской власти, и кастеллу, гордо возвышающуюся надо всем, словно орлиное гнездо...