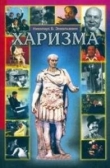Текст книги "Ливонское зерцало"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
В последние два года, как начал московский государь войну с Ливонией, Николай частенько, тайком от отца, ходил «на ту сторону» уж не с ватажкой своей, а с мужами постарше, с «охотниками»[11]11
Так называли людей, промышлявших в ливонских землях разбоем и грабежами, предпринимавших продолжительные рейды вглубь страны. Иные из «охотников» отличались большой жестокостью, поэтому население Остзейского края очень боялось их. Правители Ордена регулярно собирали отряды рыцарей и посылали их на поиски «охотников». В числе «охотников» были, главным образом, псковичи и новгородцы.
[Закрыть]. Однако по природе своей человек справедливый и не злой, он не свирепствовал там, где другие свирепствовали, не чинил расправ над ни в чём не повинными людьми, не грабил чухонцев-беженцев, ищущих спасения на Псковщине, в глуши, и даже имущество, какое отнимал у зажиточных немцев, не брал он себе, а, вернувшись домой, отдавал беднякам, большей частью тем, у кого ливонцы что-нибудь отняли. Случалось, Николай и вступался за ливонцев; бывало не только кулаком осаживал чрезмерно злого и жадного «охотника», но приходилось и скрестить с таким мечи; быстро освоил юный Репнин непростую науку поединка...
Всю дорогу рассыльному в спину глядя, так и не решил Николай, как поступить. Уже стены и купола московские видел, уже многолюдные, шумные посады проезжал, а всё не знал, чего ему ожидать, к чему готовиться – к терниям или милостям. Оглядываясь на стрельцов, натыкаясь на их уверенные, холодные глаза, более склонялся он к мысли, что проделал с ними путь к плахе, а не к хлебосольному столу. Вин за собой он знал – по пальцам не перечесть, а дел великих, за которые в Москву к столу зовут, как ни старался, что-то припомнить не мог. Однако ясно это понимая, ничего не мог и изменить. Оставалось ему положиться на Господа и надеяться на Его доброе промышление.
Глава 4
Каков хозяин, таких и гостей ему посылает Бог
 ни с горы спускались в долину к широкой и полноводной реке, и вся Москва была у них как на ладони. Николай впервые оказался в Москве и так был поражён видом сего города, что о сомнениях своих – почти уж горестях – позабыл; смотрел и смотрел на неприступные красные стены Кремля, что всё более открывались его взору, на грозные зубчатые башни с высокими шпилями, на изящные золотые и звёздные купола бесчисленных храмов, на посады, застроенные плотно белокаменными хоромами с высокими крылечками и украшенными резьбой галереями, на мосты и корабли вдали, на гуляющий московский люд, разодетый в шелка и бархаты, на розовощёких красавиц, на бойких купцов, торгующих на площадях прямо с возов и на пристанях – прямо с кораблей... Не раз бывал Николай Репнин в Новгороде-господине, в Дерпте бывал, в Нейгаузене, однажды под видом подмастерья-немца пробрался в комтурию Феллин, разглядывал город и замок издалека, ближе к воротам подойти опасался – уж очень строга была стража; также издали видел он славный Мариенбург и с «охотниками» доходил до предместий Ревеля. Самые крупные города Остзейского края были сравнимы разве что со Псковом и Новгородом, но никак не сравнимы с Москвой – городом поистине огромным, городом державно-величественным и сказочно богатым.
ни с горы спускались в долину к широкой и полноводной реке, и вся Москва была у них как на ладони. Николай впервые оказался в Москве и так был поражён видом сего города, что о сомнениях своих – почти уж горестях – позабыл; смотрел и смотрел на неприступные красные стены Кремля, что всё более открывались его взору, на грозные зубчатые башни с высокими шпилями, на изящные золотые и звёздные купола бесчисленных храмов, на посады, застроенные плотно белокаменными хоромами с высокими крылечками и украшенными резьбой галереями, на мосты и корабли вдали, на гуляющий московский люд, разодетый в шелка и бархаты, на розовощёких красавиц, на бойких купцов, торгующих на площадях прямо с возов и на пристанях – прямо с кораблей... Не раз бывал Николай Репнин в Новгороде-господине, в Дерпте бывал, в Нейгаузене, однажды под видом подмастерья-немца пробрался в комтурию Феллин, разглядывал город и замок издалека, ближе к воротам подойти опасался – уж очень строга была стража; также издали видел он славный Мариенбург и с «охотниками» доходил до предместий Ревеля. Самые крупные города Остзейского края были сравнимы разве что со Псковом и Новгородом, но никак не сравнимы с Москвой – городом поистине огромным, городом державно-величественным и сказочно богатым.
Ещё издали бросился в глаза почти достроенный уж несказанно красивый храм со множеством разноцветных главок-луковок. Спросил у стрельцов, что за храм. Ответили: «Троицкий»[12]12
Храм Василия Блаженного, или Покровский собор, до XVII столетия в народе чаще называли Троицким, так как стоявший прежде на его месте деревянный храм был посвящен Святой Троице. Собор строился в 1555—1561 годах по велению Ивана Грозного в память о победе над Казанским ханством и взятии Казани.
[Закрыть]. На чудный храм налюбовавшись, Николай опустил глаза и увидел Лобное место, святое место, с коего, знал, оглашались царские указы, с коего вершились великие – державные – дела. При виде этого высокого места вдруг успокоилась у него душа. Город красивый и людный властно овладевал сознанием, крепкой невидимой рукою брал за сердце.
Спешились на мосту у Фроловской башни[13]13
Фроловской первоначально называлась главная из кремлевских башен – Спасская. Название это бытовало в связи с тем, что неподалеку в пределах Кремля располагалась церковь Фрола и Лавра. Спасской башню стали именовать после указа царя Алексея Михайловича от 16 апреля 1658 года; это было связано с тем, что над воротами со стороны Красной площади помещалась икона Спаса Нерукотворного.
[Закрыть]. Оставили лошадей конюшим и дальше пошли пешком. Перед воротами сняли шапки, поклонились образу Спасителя. Стрельцы с бердышами пропустили их без досмотра, только на Николая взглянули строго.
А внутри Кремля – опять храмы, храмы, самые красивые храмы, какие Николаю доводилось видеть. И палаты стояли кругом белокаменные, с высокими оконцами, забранными дорогим цветным стеклом. Отрада очей. Палаты попроще жались к стенам, иные – деревянные ещё. Приказы. А стены кремлёвские были высоки и внушительны, возле них стоя, их взором не обоймёшь. Такие, кажется, никакими пушками не взять, никакими лестницами не достать. Не было таких высоких стен во Пскове; и в Ливонии не видел Николай таких высоких стен.
Насмотревшись на кремлёвские красоты, Николай вспомнил о себе, стал снова озираться по сторонам, но уж не благолепием любоваться, а плаху искать. Он ясно представил её себе – просторную, обильно присыпанную опилками. И будто стояла плаха на возвышении, дабы издали была видна – во устрашение, в назидание...
– А плаха-то у вас где?
– Зачем тебе плаха? – удивился рассыльный Ярослав.
Николай не ответил.
Рассыльный махнул в сторону реки:
– Там, на Болоте[14]14
Имеется в виду Болотная площадь, которая в XV—XVII веках была местом народных гуляний и развлечений, местом кулачных боёв, публичных наказаний преступников и смертных казней.
[Закрыть] плаха.
Но были скоропреходящи тревожные мысли в ясный солнечный день. Не знал Николай за собой крупных вин, из-за которых стоило его в самую Москву везти и прилюдно на этой плахе, в виду этого прекрасного города и величественных кремлёвских башен казнить. А за мелкие вины можно было и во Пскове наказать – на пороге родного дома выпороть. И за что? Дружбу с «охотниками» водил. Вот и весь грех!.. Однако ведь война. Коли со стороны Москвы поглядеть, так, пожалуй, делал Николай Репнин доброе дело. Многие воеводы, что в Ливонии стояли, поощряли «охотников», даже показывали, куда лучше пойти, где вернее разорить и взять добычу... Разве что оговор? Будто на государя московского хулу возводил, как многие псковичи и новгородцы возводили, слышал. Но такое низкое дело – оговор... Николай перебирал в уме всех, кого знал, – и друзей, и врагов. Не было среди знакомых его подлецов.
...Дядя Дементий, подьячий, сразу развеял тревоги Николая и обещал, что ещё до Троицына дня[15]15
Троицын день – день Святой Троицы, празднуется в пятидесятый день после Пасхи.
[Закрыть] Николай сам будет во Пскове и успокоит встревоженного родителя, а рассыльному Ярославу сделал жёсткий выговор, чтобы впредь добрых людей без нужды не пугал. Ярослав, ни слова в своё оправдание не сказав, быстро убрался с глаз. За ним куда-то исчезли и стрельцы.
Далее дядя Дементий, обойдя Посольский приказ, повёл Николая к себе в покои; по пути всё приглядывался к нему и как будто чему-то тихо радовался.
В покоях налил ему для умывания воду в лохань, положил на лавку чистое платье. Умывался Николай, а сам думал: зачем он в Москве понадобился. Но дядя Дементий, всё на него как-то оценивающе поглядывая, о деле не говорил. Потом трапезничали долго, перепробовали с дюжину вкусных московских блюд. Говорили о том о сём: о жизни псковской, о делах московских, о войне ливонской – то само собой, – потом ещё о нравах и обычаях немецких и чухонских, об ихних городах и мастерах, об оружии и доспехах. И, к удивлению Николая, дядя Дементий в разговоре часто переходил на немецкую речь, как бы подвигая юного собеседника отвечать ему по-немецки. А слыша в ответ немецкую речь, опять чему-то будто радовался, даже вроде руки потирал... Всё думал Николай – кому же понадобился он в Москве?.. А дядя Дементий разное вкусное – студни, пироги да разносолы – ему щедро подкладывал, о деле не говорил. Ещё заговаривал хитрый подьячий о книгах немецких, о вере католической и о принятой ливонцами вере новоизобретённой, о гимнах церковных, о колоколах, о рыцарях-монахах, о наёмниках ландскнехтах. Голову чуть на бок склонив, внимательно выслушивал ответы... В конце концов велел ему отдохнуть, указал место на широкой лаве под залитым солнцем стрельчатым окном. Укладываясь, думал Николай, зачем же его всё-таки доставили в Москву, но не спрашивал, а дядя Дементий не говорил; видно, про дело хотел сказать вечером. Уставший за долгую дорогу, разморённый обильными блюдами и питием, разомлевший от солнечного тепла, быстро уснул Николай.
Хорошо пели за окном птицы...
Вечером совсем в другом покойчике принимал его дальний родственник, подьячий Дементий. В покойчике принимал просторном, но было в нём собрано столь много книг и свитков, что казалось тесно. До двух сотен книг размещались на полках и лавках – книг малых и больших, а иных столь толстых, что уж, верно, и неподъёмных. Горками лежали всюду тысячи свитков, перевязанных тесьмами – красными, зелёными, синими, – свитков с вислыми печатями и без. Вдоль стен стояли сундуки, сундучки, ларцы, поставцы... Какие-то и раскрытые. И в них тоже – книги, книги, свитки[16]16
В середине XVI столетия еще не было шкафов в привычном нашему современнику понимании этого слова. Книги хранились в сундуках или на полках, подоконниках, на столах; шкафы, или шкапы, появились позднее. Самым первым в истории шкафом был, не иначе, тот сундук, который хозяин – возможно, за неимением свободного места в помещении – поставил на торцовую стенку, и крышку этого сундука он открывал уже не вверх, а в сторону.
[Закрыть]. Книгами же и свитками был завален огромный стол, занимавший едва не треть покойника. Там и сям лежали писчие перья, стояли склянки с чернилами. В красном углу теплилась лампадка перед ликами Святой Троицы в серебряном окладе.
С гордостью говорил подьячий Дементий, что этот его стол для него – престол, смысл его жития, середина его Вселенной. Отсюда он счёт ведёт – и вперёд, и назад. Здесь ему покойно, ибо здесь родина его. Не там за дверьми, не за кремлёвскими стенами, не за московскими горами, а здесь, где он сидит в книгах и чернилах, где ему всегда хорошо, где ему высоко и мысленно, где круг воображения его ограничен мудростью мудрейших, а круг возможностей – властью сильнейших и славнейших, и где ему бывает дозволено Вседержителем угадывать ход времён, и оттого на душе становится торжественно и на сердце сладко.
– Тайность тайны открою тебе, Николай: всё, что делается в этом безграничном мире – и у нас, и за рубежами, и даже далеко за морями-океанами, – всё замышляется и начинается здесь, в пределах стен кремлёвских, в таких вот приказных покойниках, с ведома и произволения государя, верного слуги Божьего, любящего господина над человеками, могущественного из могущественнейших, избранного из избранных...
– Когда же о деле, дядя Дементий? Не томи. Подьячий усмехнулся, спрятал хитрые глаза.
– Какой ты скорый, однако! Всему своё время, соколик, всему своё время... Потерпи. Вот завтра представлю тебя... самому. Покажешься ему – тогда двинется и дело.
Глава 5
Православие должно быть с мечом, сказал государь
 азавтра после заутрени пошли в приказ. Дядя Дементий по дороге наставлял Николая:
азавтра после заутрени пошли в приказ. Дядя Дементий по дороге наставлял Николая:
– Ты, парень, знаю, гордый и упрямый. Писали мне про тебя добрые люди. Знаю также, любишь делать всё наперекор; даже вздорным бываешь и неуживчивым. Всё сие есть большей частью плоды молодости. Пройдёт это, как сама молодость проходит.
– Не пойму, дядя Дементий, к чему ты речь ведёшь, – отводил глаза, прятал досаду Николай.
– А вот к чему, любезный... У Ивана Васильевича нрав, – ты уж слышал, конечно, – премного крут. А тут ещё государыня-матушка Анастасия Романовна хворает[17]17
Царица Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева тяжело заболела в 1559 году; умерла она 7 августа 1560 года. Доказана версия отравления. Исследование останков Анастасии Романовны имело место в 2000 году. В сохранившейся косе, в остатках погребальной одежды и в собственно тлене были обнаружены в значительной концентрации ртуть, мышьяк и свинец. Предполагают, что отравителями были советники государя, считавшие Захарьиных причиной своих неудач.
[Закрыть]. Раздражён государь. Он, как сухая трава по осени, от малой искры вспыхивает. От громкого слова может сорваться и возгореться неукротимым пожаром. Тогда уж за голову бойся, его скоро не остановишь, не погасишь. Поэтому, юноша, не раздражай его. В глаза ему прямо не смотри, ни о чём его не спрашивай. Только отвечай коротко, когда он сам спросит. Да не гляди, что он просто одет, не обманывайся. Простой снаружи, нравом он не прост. И упаси тебя, строптивого, Господь что-то против сказать. Этого Иван Васильевич мало от кого терпит.
– Я понял, дядя. Лучше смолчу.
– И на будущее дам тебе наказ: каков бы ты ни был в мыслях, будь, как угорь, вёрток в речах, будь в делах, как налим, гибок, и жизнь проживёшь долгую, успешную, поднимешься высоко и будешь людям приятен. Наказ этот очень скоро тебе пригодится.
– Буду, дядя, – обещал Николай, хотя и не понимал вполне, где ему очень скоро может пригодиться сей мудрый наказ.
Думный дьяк Иван Висковатый был в отъезде, и дядя Дементий, войдя в приказ, повёл Николая в покой дьяка. Николай замечал, что другие подьячие уважали и как будто немного побаивались дядю Дементия. Когда тот по приказу проходил, они, если не были чем-то сильно заняты, поднимались из-за столов и ему слегка кланялись. А какой-то молодой подьячий не заметил, что дядя Дементий вошёл, – так ему свои же подзатыльник дали, и он, увидя Дементия, немало испугался. Верно, дядя Дементий был у Висковатого в любимцах и временщиках, наделённых властью.
Ждали Ивана Васильевича.
В покое Висковатого сидели вдвоём. Дядя Дементий, заметив, что Николай волнуется, что часто поглядывает на прикрытую дверь, предложил ему побаловаться пером. Дядя читал, а Николай за ним записывал. Дядя заглядывал через плечо и не скрывал, что рука Николая ему по нраву. Занятые этим делом, подьячий Дементий и Николай не заметили, что вдруг стало тихо в приказе, что ни говора, ни стуков и шорохов обычных, какие всегда доносятся из палат, в коих много людей, уже не было...
Чуть скрипнула дверь, и в покой Висковатого вошёл государь. Неслышно он вошёл – верно, мягкие на нём были сапожки. Но Дементий и Николай обернулись на скрип. Замерли оба: один с книгой в руках, другой – с писчим пером над бумагой. Иоанн, словно не замечая их, первым делом перекрестился на иконы в углу, проговорил полушёпотом краткую молитву; потом только обратил взор на присутствующих.
Николай, прежде не видевший Ивана Васильевича, сразу понял, что это вошёл государь. Хотя и одет тот был просто. По глазам понял. Спокоен и значителен был взгляд государя; не тяжёл, не самовластен, как говорили, он показался Николаю – прозорлив; подумалось в этот миг: как будто, все тленные оболочки минуя, заглядывал государь сразу в мысли, и как будто насмотрелся уж он в других подлых мыслей, глядел с некоей готовностью к разочарованию – одному из бесконечной череды разочарований, – но, причины для разочарования не найдя, подлой мысли не прочтя, всё более полнился удивлением и приязнью во взоре... Больше ничего не успел Николай разглядеть в серых глазах Иоанна (но и того было довольно), ибо склонился в поклоне и только сапожки государевы видел обувистые[18]18
Обувистый – просторный, удобный.
[Закрыть] – и в самом деле, должно быть, мягонькие, сшитые из тончайших кож искусным обувщиком-татарином.
Покончив с поклоном, выпрямился Николай и стал с Иоанном лицо в лицо, глаза в глаза, ибо высок был государь, но отвёл глаза Николай, как наказывал ему накануне дядя Дементий.
Иван Васильевич ступил к оконцу, тем самым вынудив Николая повернуться лицом к свету. Голос государя был негромкий, но сильный и приятный:
– Слышал уже, что доставили тебя. Пришёл взглянуть. Повернись-ка, юноша...
Пока Иоанн рассматривал Николая, и Николай осторожно рассматривал Иоанна.
Был высок и худощав московский государь. Кабы не некоторая сутулость, – будто от давления на плечи тяжкого бремени, – можно было бы сказать, что государь хорошо сложен, и можно было бы мысленно даже поставить его в ряд древних греческих атлетов, соревнующихся друг с другом в виду обиталища богов – Олимпа. Были у Иоанна длинные волосы, ниспадающие на широкие плечи, и начинающее лысеть чело, были усы и короткая рыжеватая бородка, крупноватый, с высокой горбинкою нос византийских правителей.
Чуть улыбнулся государь:
– И верно – похож.
– Похож, похож, – отозвался с живостью дядя Дементий. – Только немец послабже будет. Но там его не видели уж много лет... Никому и в голову не придёт, что...
– Но как заговорит он, так и придёт им в голову, – усомнился Иоанн.
– Я второй уж день испытываю его, – мягко возразил подьячий. – Говорит хорошо. Оно и понятно – едва не среди немцев живёт. А ещё взгляни, государь: им писано по-немецки со слов моих. Из этой вот книги... – дядя Дементий с лёгким поклоном протянул государю листок.
Иван Васильевич только взглянул на листок, но не взял. Оглянулся на книгу, лежащую на столе:
– Знаю её: полезная книга обычаев немецких, как с демонами совладать[19]19
По всей вероятности, подьячий Дементий диктовал герою из весьма популярной в XVI веке в Европе книги «Hexenhammer» («Молот ведьм»), или по-латыни «Malleus Maleficarum», написанной во второй половине XV столетия двумя инквизиторами, членами доминиканского ордена Яковом Шпренгером и Генрихом Крамером (более известным под латинизированным именем Инститорис) и являющей собой руководство для охоты на ведьм. До 1520 года книга переиздавалась не менее тринадцати раз.
[Закрыть]. И что?
– Всего две ошибки, государь.
Иоанн взглянул на Николая с одобрением:
– А узника он тебе ещё не показывал?
Николай отвёл глаза:
– Я даже не знаю, о чём здесь ведётся речь.
– Всё скрытничаешь, Дементий? Молодца женил, а он о том и не знает?.. – государь бросил на подьячего насмешливый взгляд, потом на Николая посмотрел серьёзно: – Дементий всё объяснит... Дело тебе важное хочу поручить. Если сделаешь, как того от тебя жду, многих православных убережёшь от гибели. Считай: святое дело поручаю...
А Дементий все поклоны бил, и спина у него не скрипела:
– Вот сейчас, Иван Васильевич... Вот сейчас и покажу... Что было прежде времени-то показывать? Прежде разговора что было-то в узилище вести?..
Иоанн, прохаживаясь по покою, продолжил:
– Православие должно быть непременно с мечом, иначе православному миру не выстоять перед лицом многочисленных врагов. Ты во Пскове живёшь и хорошо знаешь, что Ливония – постоянная угроза. Чаще с немцами воюем, чем дружим. И ещё Ливония – прибежище врагов. Чем хуже будет ливонцам, тем лучше будет нам, православным. Этой истине много лет. Нужно разрушать их строения, портить их урожаи, угонять людей и скот; нужно вернуть то, что их епископы у наших предков отняли, нужно взять то, что они не смогут удержать, нужно выйти к морю и закрепиться там. И ты в этом можешь помочь, юноша. У тебя, похоже, светлая голова...
Выходя из покоя, государь взглянул на подьячего уже строго:
– Доложишь потом.
Глава 6
Предусмотрительность предотвращает хлопоты
 рямо из приказа подземным коридором подьячий Дементий и Николай отправились к узилищу.
рямо из приказа подземным коридором подьячий Дементий и Николай отправились к узилищу.
Дементий со свечой – впереди, Николай следом. Вначале Николай вроде представлял направление, в котором они шли, но, поскольку коридор то и дело слегка поворачивал – и в одну сторону, и в другую, – очень скоро Николай поймал себя на том, что не смог бы уже сказать, к какой из башен кремлёвских или к каким каменным палатам вёл ход. Дементий всё прикрывал рукой огонёк свечи, боясь, что дуновение сквозняка погасит его и придётся двигаться вперёд на ощупь. Время от времени дядя Дементий предостерегал Николая: тут поворот, за стену держись, здесь приступок, не споткнись, а вот – не упади, любезный, – яминка... Наконец кончился коридор. Дементий толкнул деревянную дверь, и они оказались в некоей темнице, слабо освещённой несколькими свечами, где у другой двери стояли двое рослых стрельцов с бердышами в руках и большими ножами на поясе. Стрельцы кивнули Дементию; один из них услужливо отворил перед ним дверь. За дверью Николай разглядел в неверном свете свечи ступени каменной лестницы, круто уходяшей вниз.
Пока спускались в узилище, дядя Дементий рассказывал Николаю о деле. Долго рассказывал, ибо глубоко было узилище и лестница длинна; важных обстоятельств не упустил, не поскупился и на околичности. Так узнал Николай об остановленном весной обозе немецких купцов из Полоцка, о тайных грамотах, обнаруженных при юном кауфмане[20]20
Kaufmann – купец
[Закрыть] Николаусе Конраде Смаллане, о том, как мудрый воевода Мстиславский велел спешно доставить Николауса Смаллана в Москву и как допрашивал его думный дьяк Висковатый, а после и сам государь стал заходить, удивлённый точностью сведений, указанных в грамотах. Особо описал подьячий облик узника-немца и заметил, что на Николая Репнина похож этот Николаус Смаллан, как бывает похож брат на брата. Он-де о том дьяку и государю сказал и поделился с ними предерзкой мыслью: а ну как поменять татя на честного, отраву – на целительное зелье, злодея – на праведника; иными словами: вместо Николауса Смаллана послать к комтуру и к старому магистру орденскому Николая Реннина скрытным дозорщиком. Сия дерзкая мысль пришлась государю по душе. И вот Николай Репнин здесь – спускается к полоцкому узнику в узилище. А далее, сказал подьячий, – всё в руках Божьих и в счастливой планиде юного псковского удальца.
Не очень-то хотелось Николаю соглашаться на такое дело. За лазутничество и в родных землях, и в Остзейском краю наказывают жестоко...
Кабы его сейчас спросили, чего он хочет, сразу бы ответил: вернуться подобру-поздорову во Псков, в милый сердцу отчий дом и жить прежней простой жизнью со спокойной душой. Но его о желаниях никто не спрашивал. Хорошо «псковский удалец» понимал, что возможности выбора он не имел. Всё уже заранее решил дьяк и утвердил государь. И куда теперь заведёт его «счастливая планида», одному Богу было известно...
В тёмном и сыром, в душном и зловонном каменном узилище стояли с десяток железных клеток. Возле одной из клеток подьячий остановился и, передав Николаю свечу, стал снимать замок. Николай смутно видел в клетке человека, забившегося в угол, скорее даже не человека, а тень его. Что-то блестело. Николай вгляделся: это искорками отражался свет в глазах узника. В двух или трёх клетках сидели ещё какие-то люди, но Николай во тьме не мог их разглядеть – слышал только шорохи, тихие стоны, бормотание, вздохи. Остальные клетки были как будто пусты.
Справившись с замком, дядя Дементий отворил дверцу – с неприятным, пронзительным железным скрипом – и вошёл внутрь клетки. За ним вошёл и Николай со свечой.
Узник заслонился от света рукой – как будто от ожидаемого удара он привычно заслонился. И сидел так в углу, в жалкой позе, сжавшись в комок, довольно долго. Николай рассмотрел его. Босой, грязный, в видавшем виды, явно не немецком платье, почти уж обратившемся в лохмотья, очень худой. Когда узник отвёл наконец руку и поднял глаза на вошедших, Николай поразился, увидя... себя. Или так показалось ему в бледном свете свечи. Николай поднёс свечу ближе к узнику. Покачал головой: очень похож тот был на него, удивительно похож... Увидел, конечно, и отличия: волосы чуть длиннее, рот несколько больше, бледное было лицо от долгого пребывания во тьме, впалые щёки и остро выступающие скулы – это от худобы. А глаза у Николауса Смаллана были совершенно его – Николая Репнина – глаза. Явилась безумная мысль: родной брат его перед ним сидел, которого у него никогда не было; или это он сам перед собой сидел – завтра сидел, год спустя сидел и видел себя из прошлого, и видел испуг у себя в глазах и дрожащие губы. Испуг в глазах у узника вдруг сменился недоумением. Он тоже узнал себя в человеке, вошедшем в клетку со свечой. Он не мог понять, что происходит, что это значит, и от непонимания устрашился ещё более: изогнулись у узника губы и прорвалось рыдание. Но он быстро взял себя в руки и справился с рыданием. Бросил взгляд на подьячего, потом опять обратил взор на Николая:
– Что будет со мной?
Ему ответил Дементий:
– Потом переведут тебя в острог. Говорят, хрен редьки не слаще, но ты хоть свет божий увидишь и чистого воздуха глотнёшь...
К узнику Николаусу Смаллану приходили в клетку три дня. Всякий раз приносили ему мясо и хлеб и немецкое вино, чем не только весьма поддержали силы несчастного, но и расположили его к себе. Он быстро понял что к чему и, с одной стороны, всё ещё страшась за свою жизнь, а с другой стороны, из благодарности – оказывал своим нежданным благодетелям в их исканиях всяческое содействие. Благодаря искренности и усердию Николауса Конрада узнали много важных подробностей. Кроме, как у него, у кого бы они ещё могли спросить о его дальнем родственнике, управляющем замком Радбургом, о рыцаре-командоре, бароне Ульрихе фон Аттендорне?.. Спешно, почти не жуя, поедая мясо и хлеб, запивая эту немудрящую снедь вином, узник рассказывал всё, что помнил. И хотя в последний раз бывал он в Радбурге давно, лет десять назад, в детстве ещё, помнил он немало. Помнил он несколько башен, из которых не раз гонял птиц, помнил и высокие стены, с которых бросал камушки в ров, и перекидной мост надо рвом помнил, по которому каждый день бегал на луга собирать цветы, ловить жуков и бабочек, и широкие, залитые солнцем галереи на стенах помнил, на которых играл с другими детьми... Дементий дал ему уголёк и сдвинул солому на полу, и Николаус нарисовал на камне замок Радбург – как бы с высоты на него взглянул, как бы посмотрел на него глазами пролетающей птицы. Николай, глядя на рисунок, вспомнил этот замок; несколько лет назад, во время одного из набегов, он видел его издалека в сумерках; до сих пор он представлял замок очень смутно, но вот рисунок увидел и вспомнил – да, именно такой был замок Радбург.
Барона Ульриха, красивого и статного, с короткой бородкой и каждодневно подстригаемыми усами Николаус описал так ясно, что Николаю и Дементию тот представился будто живой. Хорошо помнил Николаус и четверых детей его: старшего сына Андреаса, среднего – Удо, ровесника Николауса, младшего сына Отто, что был на два-три года Николауса моложе, и дочь Ангелику – совсем ещё тогда девочку. Жену Ульриха Николаус никогда не видел, ибо к тому времени, как он приезжал в Радбург погостить, она уже умерла. А сестру Ульриха – Фелицию – он почти не помнил, поскольку Фелиция всегда предпочитала затворничество, и видел он её редко... Сколько в замке пушек, где хранятся ядра и порох, где содержатся лошади, где в замке колодец, есть ли в замке цистерны, значительны ли запасы еды, сколько в Радбурге рыцарей и ландскнехтов, как рыцари и ландскнехты вооружены, в каких помещениях замка живут, что едят и пьют, в какой церкви молятся... – ничего этого Николаус Смаллан не помнил, ибо, будучи мальчишкой, вникал он совсем в другие вещи, более соблазнительные в его возрасте; и устремления его тогда были совсем просты: рыбку бы выловить в пруду или в речке покрупнее, чем взрослому Андреасу удавалось вылавливать, похитрее бы смастерить силки и поскорее, чем сорванец Удо, поймать в них зайца в лесу, ущипнуть бы сонливую эстонскую девку, пасущую овец и от нечего делать сплетающую веночек, запустить бы камнем в крестьянина, скосившего траву и вырезающего из чурочек новые зубцы для грабель, сдёрнуть бы штаны с пьянчуги, выброшенного из деревенской таверны...
Особо выспрашивал Николай, не посылал ли Николаус Конрад грамот барону, не знают ли в Радбурге его руку. Но Николаус ответил, что грамоты в Радбург всегда отец его писал, поскольку не хотел доверять Николаусу столь важного дела – может, напишет не то, что нужно написать, а того, что нужно, вовсе не напишет, может, где-то по юношескому неразумию приврёт, преувеличит или, по неопытности, недооценит, приуменьшит, не на то слово сделает нажим и не подведёт влиятельного командора под нужную мысль; отец предпочитал сам дело делать, чем на кого бы то ни было полагаться и дорогую бумагу изводить попусту.
За несколько дней Николаус Конрад привык к посещениям гостей, привык к незатейливой снеди, что давали ему гости вместо той болтушки, вместо того отвратительного жидкого месива, какое приносили для него и других узников молчаливые равнодушные стражи, вместо того гадкого, дурного на вкус, скотского пойла, от которого подводило живот и мучили тошноты. Николаус понимал, что ежедневные гости его перестанут приходить, когда выведают всё, что им нужно. И, страшась этого, страшась опять остаться в полной тьме, в одиночестве и с плошкой вонючего, закисшего варева из ботвы и лебеды, он всё говорил, говорил гостям о том давнем лете, что провёл в ливонском замке, рассказывал и о своей полоцкой жизни, о родне, о друзьях, о торговле, о договорах, что заключали с полочанами, с охотниками, какие продавали купцам шкурки, с лесными пчельниками, какие приносили на подворье мёд и воск. А гости слушали, но видел Николаус, что речи его всё менее их занимают, и, понимая, что завтра они могут уже не прийти, не в силах сдерживаться, начинал плакать Николаус; тогда от стыда закрывал лицо ладонями, отворачивался, ложился в угол клетки и лежал без движений. А гости молча уходили.
И настал-таки день, когда гости не появились в узилище. Страж принёс обычную плошку с вонючей баландой и поставил её на солому в углу. Сказал Николаусу с издёвкой:
– Плошечка невелика, а кормит сладко, – но потом как будто пожалел его. – Радуйся, немец, жить будешь. Завтра переводим тебя в острог.