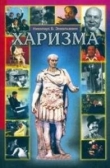Текст книги "Ливонское зерцало"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Ливонское зерцало

Он отличался мощью духа и тела... он терпел голод,
бессонницу и холод с невероятной выносливостью;
смелый, коварный, изменчивый, умевший притворяться
кем угодно и скрывать что угодно... Его необузданная
душа всегда жаждала безмерного, невероятного, недоступного.
«Заговор Катилииы», Гай Саллюстий Крисп
ПРОЛОГ
Глава 1
Добрая песня украшает поющего
Лето 7068-е от Сотворения мира (лето Господне 1560-е)…
 ту романтическую историю из старых времён можно было бы начать с представления нашего героя, как обычно и поступают авторы, начиная свои истории, однако мы подумали, что будет много лучше подвести начало её под тот момент, когда отчаянные люди московские, – коих иные склонны были бы назвать татями и шишами, а другие видели в них героев, – промышляя в богатых ливонских землях, остановили на глухой лесной дороге немецкий купеческий обоз, следующий из славного города Полоцка в ганзейский город Феллин. Повезло дерзким московским людям, обоз они остановили богатый; везли немцы воск отменный, не Swin[1]1
ту романтическую историю из старых времён можно было бы начать с представления нашего героя, как обычно и поступают авторы, начиная свои истории, однако мы подумали, что будет много лучше подвести начало её под тот момент, когда отчаянные люди московские, – коих иные склонны были бы назвать татями и шишами, а другие видели в них героев, – промышляя в богатых ливонских землях, остановили на глухой лесной дороге немецкий купеческий обоз, следующий из славного города Полоцка в ганзейский город Феллин. Повезло дерзким московским людям, обоз они остановили богатый; везли немцы воск отменный, не Swin[1]1
Swin – низкопробный сорт воска. (Здесь и далее – примечания автора).
[Закрыть] какой-нибудь, и меха – бобровые и куньи, везли кожи и сало, дёготь, лён и пеньку. Даже если за полцены весь товар в Нейгаузене[2]2
Город в восточной части современной Эстонии; ныне носит название Выру. На старинных немецких картах город и крепость Нейгаузен обозначался и как Nyenhusen, и как Niehaus.
[Закрыть] купцам сбыть, тем же немецким купцам, – немалые деньги получатся; а даже если и за треть цены; а даже если русскому воеводе нейгаузенскому за грош отдать – и то прибыток, и то ладно. Дело обычное в военное лихолетье: ограбили бы и отпустили купцов с миром; ежели бы кто за оружие взялся – того бы жизни лишили или, отняв оружие, по рукам и ногам спутав, отвезли бы к ближайшему воеводе в плен или какому боярину продали немца в слуги; в последние годы так часто бывало. Здесь же пошло иначе...
Один из немецких купцов, совсем молодой человек – Николаус Конрад Смаллан, сын Фридриха Смаллана, весьма известного в Ганзе торговца, имевшего большое подворье в Полоцке, – оказалось, кроме товаров, вёз в Livland[3]3
Livland– немецкое название Ливонии. В Ливонское орденское государство входили территории современных Латвии и Эстонии.
[Закрыть] две тайные грамоты с подробными сведениями о пограничных с Ливонией российских землях, ивангородских и псковских, о войске русском, об укреплениях и пушках. Грамоты обнаружили в кожаной суме. Одна грамота – для комтура[4]4
Комтур – то же, что командор.
[Закрыть] в Радбург, другая – для старого магистра орденского Иоганна Фюрстенберга в Феллин. Когда печати сламывали, когда грамоты раскрывали, собирались посмеяться – думали, увидят сплошь купеческую цифирь. Оказалось, цифирь была – да... но не та. С купеческими тщанием и точностью многое было подсчитано: воевод у Ивана Московского столько-то, рейтаров[5]5
Всадников.
[Закрыть] столько-то, пешего войска в городках вблизи границ стоит – видимо-невидимо; сколько в войске русских, сколько татар, сколько черемисов – всё в грамотах указано; сколько пищалей русских, сколько аркебуз немецких и итальянских, фитильных и колесцовых, какие у воинов латы – всё в грамотах оказалось весьма ясно прописано.
Сразу смекнули лихие люди, что дело – важное. Немецких купцов и слуг их и того Николауса Смаллана с его грамотами, как и сам обоз с товарами, немедля доставили в Нейгаузен к воеводе – к князю Ивану Мстиславскому, который как раз там оказался. А тог, разобравшись в содержании грамот, сложил их обратно в сумку, человек опытный, только головой покачал: «Всё написано верно» и тех людей, промышлявших разбоем, весьма щедро наградил. В спешном порядке отправил воевода «соглядатая» Смаллана с отрядом стрельцов прямиком в Москву, в известный приказ...
В Москве юного немца Николауса Смаллана, перепуганного насмерть и прощавшегося уже в мыслях с жизнью, сдали приказному подьячему Дементию. Этот Дементий, человек не старый ещё, но и не молодой, грамотей и умница, прочитав перехваченные послания, удивлён был весьма точности и обстоятельности указанного в них, доложил о пленнике высокому начальству – посольскому думному дьяку Ивану Висковатому. Тот, быстро в суть дела вникнув, сам взялся с тщанием допрашивать Смаллана. И Дементий присутствовал при допросах всякий раз. Но с какой бы стороны пленника ни спрашивали, всё выходило, что он, Николаус Конрад Смаллан, – человек маленький и к написанию грамот, к сбору сведений точных и обстоятельных никакого отношения не имеет. Он был голубь всего, переносящий на лапке весточку.
Станет ли разумный вымещать на голубе обиды свои на его хозяина?
В который раз спускались думный дьяк и подьячий Дементий к Смаллану в узилище, выпрашивали про хозяина. Смаллан, бледный и с дрожью в членах, называл имена полочан – причём не только немцев, но и русского племени, – многих называл имена, желавших ход войны Москвы с Ливонией переломить не в пользу хитрого московского государя. Но названные имена ни Ивану Висковатому, ни Дементию ничего не говорили. Кое-что следовало проверить через своих лазутчиков в краю литуанском, в славном Полоцке-граде и тогда уже решать, как быть со Смалланом. А это требовало времени, которого у посольских не было.
Совсем иначе думал государь, которого соседи – ливонцы, литовцы и поляки – боялись и ненавидели и называли не иначе как «тираном московским». Был государь хоть и молод, тридцати лет всего, но дела вершил великие – царства брал, царство строил, двигал не только многие войска, но и целые народы, города возводил и крепости, дороги торил, русским именем к западным морям пробивался и к восточным горам уверенно шёл, к непролазным, но сказочно богатым дебрям. Одного маленького человека, Смаллана, одно что птичку, отправить в мир иной ему ничего не стоило, судьба «соглядатая» ливонского его мало тревожила. А вот дело его, грамоты злосчастные, составленные, похоже, по словам многих литовских подлых лазутчиков, очень заинтересовали – настолько, что стал государь вместе с посольскими тоже спускаться в узилище к Смаллану.
Сначала Иоанн не вмешивался, молча вникал в суть допросов. Но потом отодвинул дьяка и подьячего, сам – без толмача – с юным полоцким узником говорил. Да тесно показалось государю в узилище, велел он Николауса Смаллана в пыточную комнату отводить – скорее для простора, понятно, но и для устрашения; орудий разных там стояло много, при виде их не только у малых птиц вроде Смаллана, но и у матёрых зверей – у волков и медведей – языки развязывались изрядно. А Иоанн сидел на троне простом, без позолот и сафьяна, сидел под крепким арочным сводом, одетый просто, в серую льняную рубаху и подпоясанный кушаком, сидел и слушал, слушал и глядел; и взгляд у него был острый, как нож. Наведывался он сюда, видно, часто в гости.
Жаровни и дыба, гвозди и обручи, ножи и клещи и среди всего этого – кат, заплечный мастер[6]6
Палач.
[Закрыть] – дюжий молодец лохматый, бородатый, рыжий, как сам огонь, и безмолвный, ибо лишился когда-то языка, в рыжем же от пролитых кровей холщовом переднике на голом мускулистом теле... Да ещё напротив царского трона другой трон – для испытуемых, для строптивых, какие не хотят говорить то, чего от них хотят услышать; у трона этого сиденье всё в железных шипах, и спинка его вся в шипах, и даже подлокотники утыканы шипами, и – сплошь ремни сыромятной кожи, чтобы испытуемых к сему трону покрепче привязывать... Всё это приводило юного Смаллана в трепет, хотя лежало на своих местах, на столах и полочках, и огонь горел в жаровнях, и никто не брал из них угольев, и на трон «ежовый» никто его не усаживал пока, и заплечный мастер, готовый на всё, недвижной медной статуей стоял в углу. Смаллан говорил путано, то сбиваясь на жалобный крик, то переходя на шёпот, сказанное по многу раз повторял и всё озирался, озирался...
Царь на троне сидел. Его Смаллан боялся больше ката. То на колени вставал перед ним, то вообще ложился ниц. Дьяк Висковатый поднимал пленника, подьячий Дементий пленника за плечи придерживал, но тот не долго стоял – или ноги не держали, – скоро снова был ниже травы. Про государя московского много всякого страшного слышал Смаллан: и что горячий нрав у него, потому вскипает быстро; и что в гневе бывает необуздан, и даже за малые вины подвергает большим карам; и что под горячую руку государеву бывало и безвинные попадали, и гибли ни за что десятками. Правда, и другое про Иоанна говорили: что, вскипев и расправу учинив, он быстро остывает; что зачастую жалеет о тех наказаниях и испытаниях, каким подверг провинившихся; что, человек набожный, тогда он больше, чем обычно, молится и иногда со смирением просит прощения у чрезмерно наказанного. Но что наказанному от того? Что ему смирение и прощение государево, если уж выжжено око и вырван язык?.. Как смерти самой, боялся «тирана московского» юный Смаллан, боялся «кипения» его.
Пальцем не шевельнул Иоанн, потому так и остался стоять рыжий кат в углу, и погасли уголья в жаровнях. Не «вскипел» государь, вник в мольбы полоцкого пленника и поверил, что Николаус Смаллан не знает больше, чем говорит. Уже уходить собирался государь, поднялся с трона, затянул покрепче кушак, да всё что-то медлил – верно, не решил ещё, в какой из городков русских сослать на жительство сего молодого немца.
Предложил думный дьяк:
– Может, кого-нибудь из наших пленных на Смаллана выменять?
В сомнении покачал головой Иоанн:
– Разве что рядового стрельца за эту мелкую птаху...
Тут Дементий к ним с мыслью одной и подошёл, с позволения Висковатого обратился он к Иоанну, к уху государеву потянулся (высок царь, низки подданные его) и стал нашёптывать что-то. Каждое слово подьячего слышал и дьяк, и с жадностью ловил отдельные слова Смаллан, понимал, что решается его судьба, да плохо знал он по-русски, не понял из сказанного ничего. Заплечный мастер недалеко стоял, много слышал, но, безъязыкий, никому об услышанном не смог бы сказать. Мы слышали несколько слов. Нам придётся читателю поведать, а уж он как-нибудь обрывки свяжет, что-нибудь да поймёт.
Дементий, хитрый подьячий, нашёптывал:
– Есть человек один... сходство... не сразу я и понял, вижу только... и даже имя почти то же – Николай... а если попробовать?.. поменять татя на честного, отраву – на целительное зелье, злодея – на праведника... разумный он... справится...
Иоанн с Висковатым переглянулись, царь посмотрел на Дементия с одобрением, кивнул:
– Делай, как говоришь. Ты сам и делай. Потом – с тебя спрос.
Глава 2
Люди государевы у ворот, жди перемен
 о Пскове на подворье у Репниных был с утра переполох. Сенные девушки, прачки и кухарки, накинув в спешке сарафаны, выбегали из горенок; слуги, работники – те в исподнем, нечёсаные – выглядывали со складов и конюшен. Домочадцы у Репниных всегда рано встают, а тут, едва развиднелось, и уж гости нежданные их стуком будили, властно и громко ударяли в ворота; кто-то снаружи хриплым голосом кричал:
о Пскове на подворье у Репниных был с утра переполох. Сенные девушки, прачки и кухарки, накинув в спешке сарафаны, выбегали из горенок; слуги, работники – те в исподнем, нечёсаные – выглядывали со складов и конюшен. Домочадцы у Репниных всегда рано встают, а тут, едва развиднелось, и уж гости нежданные их стуком будили, властно и громко ударяли в ворота; кто-то снаружи хриплым голосом кричал:
– Открывай, Репнин! К тебе добрые люди государевы, – и стучали нетерпеливо, и толкали створы ворот.
Дмитрий Иванович Репнин, разбуженный суматохой, сидел в постели, надевал впотьмах шёлковую горничную рубаху, да всё не попадал в рукав, с тревогой поглядывал на иконы в красном углу, освещённые лампадкой:
– Добрые люди так в ворота не стучат...
Выглядывала прислуга из хором в окна; да не видали ничего за высокими воротами.
И на соседних подворьях уж был переполох. Тоже в окна смотрели хозяева и чадь. И видели на узкой улице перед воротами Репниных троих всадников на горячих злых конях. Нарядные всадники, в чугах[7]7
Чуга – кафтан для верховой езды.
[Закрыть] из тонкого сукна и бархата. По груди и по спине на тех чугах были вышиты золотою нитью звёзды и полумесяцы. В свете алеющей зари звёзды и полумесяцы вспыхивали ярко.
Всадники на месте не стояли, гарцевали. Стучали в ворота кнутовищем:
– Отворяй ворота, Репнин! Спишь?.. – скалились друг другу в улыбках.
Видно, торопились государевы люди, даже ночью гнали коней. У тех крупы лоснились от пота, блестели морды.
Соседи украдкой выглядывали из окон, сочувствовали Репниным. Знали: когда вот так спозаранок приезжают, когда так зло в ворота стучат, когда глазами вдоль улицы посверкивают и скалятся – жди беды. Не подарки, не пряники из Москвы привезли, а недобрые вести. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы знать: во времена тяжёлые из Москвы редко привозят добрые вести. Думали-гадали: за кем государевы люди приехали? за старшим Репниным или за младшим? где старший не угодил, или где опять наозоровал младший, горячая кровь, – на сей раз так наозоровал, что даже до государя дошла молва?.. За косяками прятались соседи, шептались: государь нынче зол, всюду ищет измены; и находит; было – за тем приезжали, сказывали – того увезли, и уж живыми ни тот, ни другой не вернулись, расстались, видать, с головами.
Крестились: заступись Богородица!..
Наконец распахнулись ворота, и всадники въехали во двор. Дмитрий Репнин встречал их на высоком крыльце. За ним из хором вышел сын – Николай. А там и другие домашние выглядывали. Расторопные слуги уже несли меды, сбитни и квас, протягивали всадникам ковши:
– Добрые люди, попейте с дороги.
Дмитрий Репнин поглядывал хмуро, исподлобья, готовился к худшему, и перед этим худшим не желал достоинство ронять. А Николай... глаза его глядели будто весело, губы же – сомкнуты жёстко, словно каменные; не понять – может, насмехается, или радуется какой-то мысли, или за весёлыми глазами прячет тревогу; парень был не прост.
Старший из всадников принял ковш. За ним и другие утолили жажду.
Хороший знак. Оттого на сердце у Дмитрия немного отлегло; кабы приехали государевы люди руки вязать, меды-сбитни расплескали бы ногами, а слуг погнали бы плетьми прочь.
Вернув ковш, старший подъехал к самому крыльцу, назвался приказным рассыльным и имя назвал – Ярослав, молвил:
– Велено: Николая, сына Дмитриева, Репнина незамедлительно доставить в приказ.
Дмитрий Репнин глаз не отвёл, смотрел прямо, хотя скребли на сердце кошки: худшего он и предположить не мог, ибо в последние годы при государе с крутым нравом, о котором молва за тридевять земель ушла, – что в приказ было, что на дыбу – всё едино; но спросил:
– В какой приказ-то?
– Всё, что сказать велено, – сказано, – отрезал Ярослав.
Боясь за сына, Дмитрий Репнин плечи опустил, его взор погас.
Приказный рассыльный сжалился:
– Не бойся, отец, не по делам разбойным. В Посольский приказ... А сбитень у вас хорош, псковичи! Плесните ещё.
Сразу слуги набежали, опять с ковшами окружили государевых людей.
Дмитрий Репнин воспрял духом, сыну шепнул с надеждой:
– Подьячий Дементий, хоть и дальняя родня, но своих помнит. Если что... если какая беда – поможет. Дементий человек надёжный. И псковских Репниных никогда не обижал.
Немного повеселев, старший Репнин улыбнулся стрельцам:
– Что ж вы, и с коней не сойдёте?
– Сойдём. Посидим у тебя на ступеньках – пока сборы. И в обратный путь. Велели – незамедлительно.
Спешно собирались в дорогу Дмитрий и Николай. Думали-гадали: что да почему. Тихо переговаривались. В открытое окошко тревожно взглядывали на .поджидавших стрельцов. Всё более думали о худом. Вряд ли они для какого-то дела понадобились государю. Или, может, он в целой Москве нужных людей не сыскал? Или, может, в приказах у него нет сметливых, нет толковых? Или поближе к Москве не мог поискать – из далёкого Пскова потребовал людей?..
Смутно и страшно становилось от подозрений. Нигде как будто не провинились, на власти хулы не говорили; скорее, кому-то в делах торговых дорогу перешли и стали жертвами подлого навета. Именно так – быть беде... быть беде, а не радости. Скорее плохо, чем хорошо, ибо много в мире зла, мало добра, много страдания, мало радости, сплошные горе и боль, а счастья – крохи...
Быстро Репнины собрались. По-походному одетые вышли к государевым людям. Старший Репнин было хотел их ещё расспросить, но наткнулся взором на холодные, непроницаемые лица. Сделалось небо с овчинку: с такими лицами только тянуть из человека душу.
Конюшие между тем вывели осёдланных коней; сумки с припасами уж были приторочены к сёдлам.
Но приказный рассыльный заступил старшему Репнину путь:
– Велено: Николая, сына Дмитриева... незамедлительно доставить в приказ. Про Дмитрия нам не сказано ничего.
– Как я могу помешать? – настаивал старший Репнин.
– Нет, любезный, не звал тебя государь...
Глава 3
С тревогой в сердце и сомнением в душе
 хали быстро. Дорога была далека, а время коротко. Часу лишнего нигде не теряли. Если где случался затор на наезженной версте или видели столпотворение на переправе, именем государевым народ стращали и хлёсткой плетью расчищали путь.
хали быстро. Дорога была далека, а время коротко. Часу лишнего нигде не теряли. Если где случался затор на наезженной версте или видели столпотворение на переправе, именем государевым народ стращали и хлёсткой плетью расчищали путь.
Тревожно было на сердце у Николая. Хоть бы слово о деле сказал рассыльный Ярослав, хоть бы намёком развеял тревоги. Нет. Только спину его Николай всю дорогу и видел. А спина его ночь тёмная с шёлковыми звёздами и полумесяцами. Всю дорогу одним порядком ехали: рассыльный впереди, Николай за ним, а стрельцы постоянно держались сзади. Стрельцы за Николаем зорко следили. Он оглядывался и всегда натыкался на холодный взгляд. Караулили его государевы люди; ни разу такого не бывало, чтобы забыли про него; днями сзади подгоняли, ночами были бдительны, в оба глаза приглядывали – то один, то другой сидели у костерка.
Часто бывало: с дерзкой мыслью поглядывал Николай Репнин в лес. Повернуть коня в чащу и – поминай, как звали! Не догонят стрельцы. Тяжелы они, медлительны. Таким только по дорогам ездить да на заставах стоять. Плечами широкими на проезжих страх нагонять, животами неподъёмными – на голодных уважение. Пока свои пищали-самопалы из-за спины выхватят, он уж далеко будет. По ливонским лесам он и ночью устраивал скачки; ни разу такого не случалось, чтобы ветка выбила его из седла. А тут днём по русскому лесу гнать коня... Для него – это дело пустяшное. Оглядывался Николай на хмурых стрельцов, и уж напрягалась рука узду вправо потянуть – вон в тот тёмный ельник коня послать или в тот редкий ольшаник, а потом под раскидистый дуб... Но остужала горячую голову холодная мысль: ты сейчас схоронишься в дремучем лесу, а они завтра за отцом твоим вернутся или другую родню накажут. И расслаблялась рука, ложилась покорно и мягко на луку седла...
Пока герой наш, терзаемый тяжкими мыслями, в Москву едет да поглядывает с тоской на лесную чащу, мы расскажем немного о предках его и о нём самом, дабы доброму читателю стал он понятней и ближе.
Дед у Николая был весьма известный на Руси человек – последний из московских наместников во Пскове князь и боярин Иван Михайлович Репня-Оболенский по прозвищу Найден, потомок славных черниговских князей. Иван Михайлович родословную от самого Рюрика вёл, мог всех после Рюрика предков своих назвать по именам, а был Иван Михайлович от того легендарного Рюрика в восемнадцатом колене. Это значит, что Николай наш, внук Ивана Михайловича, от Рюрика – колено двадцатое. Этот Иван Михайлович был известным и влиятельным воеводой в княжение великих князей Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича. Он участвовал в приснопамятных героических походах против Большой Орды, а также против шведов и литовцев, ходил на Казань; человек мудрый, дальновидный, принимал участие в заключении мира с ливонцами в Новгороде; как один из самых надёжных воевод был назначен наместником великого князя в сохранявший самостоятельность Псков. Но нрав у Ивана Михайловича был тяжёл, и был посадник «до людей крут», потому псковичи постоянно жаловались на него московскому князю. Последний ловко, в угоду престолу своему, использовал несогласие вольных псковичей с посадником; лично явившись во Псков с большим войском, великий князь вече разогнал, вечевой колокол – святыню вольницы – снял и в Москву отослал, а Псков именовал своей вотчиной. Боярина прилюдно лишил власти, представление устроил для строптивых, потешил понятливых. Так псковской самостоятельности пришёл конец. Боярин Репня-Оболенский уехал с великим князем в Москву, и во Пскове, свободолюбивые граждане которого этого последнего наместника не любили, он более не показывался.
Но помимо недоброй памяти, оставил боярин в древнем торговом городе и другой след...
Дочь из одного купеческого семейства зачала от него и спустя примерно полгода после отъезда Ивана Михайловича родила ему сына коего назвала Дмитрием. Князь Репня-Оболенский о появлении своего внебрачного сына знал – добрые люди, как это обычно бывает, доложили, – но в течение долгого времени ничего не предпринимал. Молодая мать и младенец просто-таки бедствовали и если на папертях не побирались, то лишь благодаря всё тем же добрым людям, что из сердобольности женщине с ребёнком тайно пособляли то куском хлеба, то копеечкой. Псковское семейство, из которого она происходила, было небогато и к тому же в большой обиде на девушку за то, что спуталась в недобрый час с московским посадником, да ещё с каким! которого весь Псков ругал! и честь уронила, без венчания с ним спала, для плотских утех ему служила... Но вдруг из Москвы разные случайные люди стали привозить подарки. От кого? Говорили, что сказывать не велено. Однако понятно было, что это Иван Михайлович подарки слал, младенца своего – кровь от крови, плоть от плоти – не хотел боярин оставлять совсем без опоры, грешок свой замасливал щедростью.
Подарки бывали разные: то ларец с серебром кто-нибудь привезёт, то пояс с золотыми монетами, то стадо коров приведут, то табунок лошадей пригонят, то... а раза два – так обозы подарков боярин присылал – со всякой утварью, в хозяйстве необходимой и с предметами дорогами, с коврами и тканями, с заморскими винами, с мехами, иконами и книгами. Молодая мать все подарки принимала, рада была им, ибо очень они её поддерживали и в обидах на ближних утешали. Трудненько ей пришлось бы без щедрых московских подарков в то время, когда вся родня от неё отвернулась.
Двенадцать лет князь Иван Михайлович подарки слал. Потом умер. И больше не было подарков. Но Дмитрий Иванович к тому времени уже подрос, близко сошёлся юный Репнин с многими псковскими родственниками, хотя иные, самые злобные, и шипели ещё ему в спину – боярский выблядыш... Сам потихоньку приторговывать начал, в деле этом непростом накапливать опыт (но, по правде сказать, не особенно он процветал, поскольку человеку честному, добросердечному и сострадательному в торговле, где всяк норовит прибегнуть к обману, тесен путь, и путь этот чаще ведёт не к успеху).
...Много минуло лет, вдруг опять стали подарки приходить. Случайно узнали – от Петра Ивановича, от сына Ивана Михайловича. Достойный совестливый сын взялся платить за грех отца. Но уж Дмитрий Иванович, сам к тому времени отец семейства, возвращал подарки обратно, ибо был он человек с гордостью и честью. И всё выспрашивал посланных людей о своей московской родне. Узнал, что есть у него по отцу три старших брата – Василий Большой, Пётр Иванович и Василий Меньшой. Все они были весьма влиятельные люди – бояре, воеводы. Стало известно Дмитрию Ивановичу, что Василий Большой Иванович Репнин принял иноческий сан в Корнильеве монастыре[8]8
Введенский Корнильево-Комельский монастырь в нескольких десятках верст от Вологды; основан преподобным Корнилием Комельским в 1497 году.
[Закрыть] под именем Вассиана. В вере был крепок и в совершенствовании духа своего он достиг больших высот. Пример духовного мужества и самоотречения, какой явил старший брат, поразил Дмитрия Ивановича, и он, человек набожный, добропорядочный, с глазами премного честными, и себе бы желал такой судьбы. А как всякий отец желает лучшего сыну, так и Дмитрий Иванович желал – Николаю бы, юноше непокорному, своенравному, дерзкому даже, такую стезю, такую жизнь в смирении и в неколебимом покое крепкой веры.
Нравом своим Николай наш пошёл не в отца. Пример иночествующего дяди Василия Ивановича нисколько не вдохновлял его на духовные подвиги. И не в псковскую родню он удался – к торговому делу сердце не лежало, не тревожила его страсть монету складывать к монете. Хотя Дмитрий Иванович отца своего не знал, он всё же очень точно представлял его по рассказам матери и иных близких псковичей, чуть не воочию видел этого человека, московского наместника – властного, деятельного, умного, хитрого, изворотливого и нрава крутого, – представлял человека, умеющего добиваться своего. Все эти черты Дмитрий Иванович рано угадал в своём сыне. Едва Николай стал обращаться из мальчика в отрока, высокородный дед его московский воевода отчётливо проглянул в нём.
Детство Николая проходило то во Пскове, то в маленькой деревушке вблизи границы с Ливонией. Сметливый был мальчик. Приезжая на лето из Пскова, он среди деревенских детей верховодил. Когда он, сидя на печи долгими дождливыми днями, рассказывал сказки и были, на печь к нему много набивалось детворы. Когда он шёл куда-то, деревенские за ним шли. Когда он что-то затейливое мастерил, и они за ним повторяли. А когда отрок незаметно обратился в юношу, он уже оброс ватагой друзей, таких же юношей, как сам, – рослых, крепких, верных, готовых друг другу подставить плечо...
Дед Иван Михайлович, воевода, всё сильнее проявлялся в юном Николае. Парень выдался высок ростом и широк плечами, был горазд на выдумки, и за какое бы дело ни брался, в нём всегда верховодил. Про таких в русских землях говорят: по овцам пастух, по ватаге атаман. На печи уж давно не сидел Николай Дмитриевич, сказок и былей не рассказывал. Живя во Пскове, развлекался он кулачными боями, что в каждый праздник затевались на берегу реки Великой – там, где по старинному обычаю прилюдно сжигали воров; когда по улице проходил, иные соседские парни, его злопыхатели, прятались за заборами и за крепкими дверями. Живя в деревне, он с ватагой друзей частенько совершал ночные набеги на ливонские хутора и деревни – на конях, с дубинкой или цепом; не грабежа ради, а ради забавы. Бывало кутили в ливонских корчмах, искусно выдавали себя за немцев, ищущих работу, ищущих мастера. Развеселив кровь вином или пивом, задирались с бауэрами и купчиками, схватывались на кулаках с вольными мастерами, с гезелями-подмастерьями или с кнабе-слугами. Веселились. Несколько раз похищали девушек. Впрочем... кто за чем в Ливонию ходил.
Будет здесь к месту заметить, что иные лихие псковичи всерьёз разбойничали на ливонской земле. И немало содеяли зла. Чудь и немцев грабили одинаково, не делали различий. Но большинство тех, кто искал лёгкую добычу, жалели чудинов – народ, приневоленный немцами, – и делали для них послабление: бедные подворья их чаще обходили стороной, а разоряли подворья немецкие, богатые; малых и худых чудинских лошадёнок не трогали, а уводили на продажу больших немецких коней; чудинскими телегами-развалюхами не соблазнялись, а гнали во Псков огромные немецкие фуры, груженные всяким добром.
Не грабежи и похищения прельщали Николая, но сами вылазки. Любил, когда прохладная, полная тайн ночь окутывала его, когда над головой блистали и мерцали далёкие друзья его звёзды, когда от волнения, от куража неуёмно стучала в голове кровь, когда под ним горячий, легконогий конь, мощь, послушная его руке, мчал и мчал во тьму, едва не наугад, и он доверял ему, дьяволу, свою жизнь, на чутьё его дьявольское положась, и тот нёсся вперёд, вперёд, сотрясая землю, сминая кусты и травы, рассекая крепкой грудью воздух, вытянувшись в стремительную волшебную стрелу, полёту которой не было конца, а там, во тьме, в чужих деревнях и городках, кто-то просыпался, слыша громоподобный топот и разбойничий посвист, и трясся от страха за тремя дубовыми дверьми...
Немцы ливонские тоже приходили пограбить русскую землю. Кто в отместку грабить приходил, кто за счёт награбленного добра и уведённого скота хотел поправить дела, а кто, подобно Николаю, любил покуражиться-поразвлечься со скуки. Бывало случайно и встречались с такими, сшибали с коней, схватывались с ними где-нибудь в поле, в свете луны проливали чёрную кровь и сами кровью обливались; хотя крайне редко бывало, чтоб дрались до смерти; лица один одному в кровь разобьют, носы друг другу свернут набок – на том и разойдутся каждый в свою сторону. Многих ливонцев, промышлявших разбоем, знали по именам и где живут знали; иным приходили ночью отомстить. А те на Псковщину в другую тёмную ночь приходили. Ночами в полях, намяв друг другу бока и пустив из носу кровь, заключали перемирия, ударяли по рукам; впрочем не надолго: едва луна, свидетельница договора, на убыль шла, уж те и другие с зарею вечерней вскакивали в седло и затемно рыскали по чужим сёлам; с зарею утренней возвращались – с добычей или с синяками и ранами. Если кого из своих оставляли в плену, потом того выкупали или обменивали на пленённого разбойника-немца... Так, за годом год с немцами из соседних деревень и городков то враждовали, то дружили. Ночами бились, днём с ними торговали, хитро им подмигивали. Порубежные немцы неплохо понимали по-русски, известны им были русские обычаи, а псковичи знали эстонский и немецкий языки, были хорошо знакомы с ливонскими традициями.
Всякую зиму отец забирал Николая во Псков. Не оставлял отец мысли направить сына на высокий, на благородный – на духовный – путь, обязывал его часто посещать псковские церкви и монастыри. Бывало неделями жил отрок Николай в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре[9]9
Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь основан в 1485 году среди болот недалеко от Пскова преподобным Саввой Крыпецким. Название монастырь получил от поселка Крыпецкого, вблизи которого был построен.
[Закрыть] и под неусыпным присмотром монахов, достойных учеников преподобного Нила Столобенского, читал он в монастырском книгохранилище книги русские, польские и немецкие. Очень дорогие это были книги: и рукописные, и печатные, книги в сафьянах были, книги в окладах серебряных и бронзовых, в топазах и изумрудах, с застёжками и замочками. Вековую мудрость берегли. Иные из книг по-гречески были написаны, иные на латыни. И греческий, и латынь Николай разумел – научили монахи. Многие тексты на память знал. Читать он любил, но с собою, с природой своей ничего поделать не мог – просилось на волю юное сердце.
А воли-то монахи и не давали.
Говорили, показывая на окно, что не там воля, где птицы поют, а там, где разум смирен и покоен, и показывали они перстами на чело. Вздыхал, в светлое окошко с тоскою глядел отрок – на далёкие поля и леса, на близкие болота, на небо необъятное, в которое сейчас же воспарил бы из четырёх стен, имей он крылья... но лежал перед ним «Conjuratio Catilinae»[10]10
«Заговор Каталины» – историческая монография Гая Саллюстия Криспа (86—35 гг. до н.э.).
[Закрыть], раскрытый на главе со скучными рассуждениями о нравах общества. Ему нравился герой, но ввергали в серую скуку пространные и отвлечённые рассуждения автора. Юный Николай переворачивал страницы, вчитывался в новые главы, воображение уже ясно рисовало ему образ героя... но духовные отцы возвращали его к странице с рассуждениями и говорили, что деяния всякого героя – лишь забава и пример, а вот мысль автора – это самое ценное, это то, ради чего весь труд писан, это пища, дающая уму насыщение, а мышлению совершенствование. Видя непонимание и тоску в глазах отрока, отцы всё новые книги ему подкладывали, ногтем отмечали, откуда читать, а откуда заучивать. Потом, дабы унять гордость и страсть, унять боярина московского, неистребимо живущего в нём, обязывали отрока переписывать книги. Рука у него была хороша, написанное им радовало глаз: буквица к буквице, как зёрнышко к зёрнышку предлежали, строчечка к строчечке выстраивались, как колосок к колоску в поле; странички ровные и красивые выходили у отрока, грех было такое умение не использовать. И призывали Николая к смирению; после молебна подавали ему новое гусиное перо, большую свечу ставили рядом, упорно выдавливали из отрока властный и строптивый нрав. Кабы не книги, какие Николай читал и переписывал, кабы не описания деяний древних героев, милых сердцу, жизнь в монастыре угнетала бы его, а послушание, возложенное на него, подавляло бы. Но он – хотя и внук деда своего – не противился воле отца.