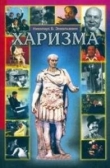Текст книги "Ливонское зерцало"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Глава 25
У всякой птички свои радости
 иколаус проснулся в весьма ранний час – проснулся оттого, что кто-то опять довольно громко вздыхал и бормотал что-то у него под дверью. Но кто мог вздыхать и бормотать у него под дверью в ранний час? Конечно же, это снова был добрый малый Хинрик. Ещё сквозь сон Николаус разобрал, что Хинрик сам себе втолковывает разумную мысль о вреде пьянства. Да и всякого иного излишества, какое за пьянством, словно привязанное, следует, всякого иного греха, какое за пьянством в очереди стоит. О Господи, Господи! Вдоль дороги в ад стоят колодцы, и в каждом из них – сладкое вино... Окончательно пробуждаясь, Николаус решил, что это Хинрик себя воспитывает, что себе он пеняет за лишнюю кружку пива, которую, должно быть, хватанул накануне вечером, но, прислушавшись, понял, что вовсе не себя, а какого-то господина слуга укоряет за то, что тот всем винным бочкам знает счёт и дно и невероятно падок на женщин.
иколаус проснулся в весьма ранний час – проснулся оттого, что кто-то опять довольно громко вздыхал и бормотал что-то у него под дверью. Но кто мог вздыхать и бормотать у него под дверью в ранний час? Конечно же, это снова был добрый малый Хинрик. Ещё сквозь сон Николаус разобрал, что Хинрик сам себе втолковывает разумную мысль о вреде пьянства. Да и всякого иного излишества, какое за пьянством, словно привязанное, следует, всякого иного греха, какое за пьянством в очереди стоит. О Господи, Господи! Вдоль дороги в ад стоят колодцы, и в каждом из них – сладкое вино... Окончательно пробуждаясь, Николаус решил, что это Хинрик себя воспитывает, что себе он пеняет за лишнюю кружку пива, которую, должно быть, хватанул накануне вечером, но, прислушавшись, понял, что вовсе не себя, а какого-то господина слуга укоряет за то, что тот всем винным бочкам знает счёт и дно и невероятно падок на женщин.
Впустив Хинрика к себе, увидев его свежим и бодрым, готовым со всей преданностью служить, Николаус дал ему талер – для слуги, даже для немца, это были деньги немалые. Хинрик, округлив глаза, некоторое время рассматривал талер у себя на ладони – рассматривал не столько удивлённо и радостно, сколько недоверчиво, будто пребывая в уверенности, что есть какой-то подвох в этом нежданном фарте, будто ожидая, что монета вот-вот исчезнет, как исчезает без следа сладкий и счастливый сон.
– Вы мне целый талер дали, господин. Разве я заслужил столько? Как я могу принять такие деньги?
– Да уж прими как-нибудь, – обронил Николаус, одеваясь.
Хинрик, едва не пуская слюнку от радости, всё вертел монету у себя перед глазами.
– Давно я не держал в руках своего талера. Даже разменивать жалко. Пожалуй, отложу я этот талер на чёрный день, – в мгновение ока монета исчезла в кармашке пояса, и преданные глаза Хинрика теперь обратились к Николаусу. – Мало того, что вы красивы, господин, как молодой греческий бог, так ещё и безмерно щедры. Я ради вас на многое готов.
– Что ты там бормочешь, Хинрик? – не расслышал Николаус.
– Я говорю: молодой господин сегодня в ночь приехал...
– Удо приехал? – оживился Николаус.
– Поздно ночью приехал господин Удо. Страх, какой пьяный он приехал. Поперёк лошади едва не бездыханный лежал. Барон в расстройстве топал ногами и поносил его последними словами... совсем не баронскими словами поносил его – с позволения сказать, нерадивого сына... Уж не выдавайте меня, юный господин, что я так выразился. Обидно бывает слуге: молодой барон возвращается пьяный, старый барон костит молодого почём зря, сравнивает его с ослом и кобелём, а зло срывает на слуге, что, готовый быть полезным, оказался рядом и под руку подвернулся, оделяет верного слугу пребольными тумаками; оно известно – тяжела рука у старого барона.
– Сожалею, – посочувствовал Николаус. – И пусть тот талер послужит тебе утешением. Но что же Удо?..
Хинрик всё почёсывал спину и рёбра, какие, видно, и пострадали вчера от горячей руки старого Аттендорна.
– Барон велел никому не говорить, что Удо был мертвецки пьян. А я и не говорю. Только вам, господин, по секрету открыл. Хинрик всё исполняет, что ему велят, – он вздохнул, и глаза его стали тяжёлыми, свинцовыми, будто о чём-то очень неприятном он подумал, будто вспомнил о некоем своём грехе, какой однажды непременно затянет его в преисподнюю, какой самыми искренними и долгими молитвами замолить нельзя. – Господин Удо всем винным бочкам знает счёт и очень охоч до женщин, ни одной юбки не пропустит. И с демонами своими он не хочет бороться. Как ему живётся, так и живёт; как грешится, так и грешит. Кто его хорошо знает, говорят: до беды недалеко. Уж многие благородные мужи и отцы на нашего Удо кинжалы точат... Только не выдавайте меня, юный господин.
– Не выдам, – обещал Николаус. – Считай, что это ты не мне секреты доверил, что это ты филину сказал. А от филина, кроме «угу», ничего не услышишь.
– Целый талер не пожалел – надо же! – всё бормотал себе Хинрик. – Хоть бы не скоро уезжал такой щедрый гость!..
– Вот что, Хинрик, – окликнул слугу Николаус, – отведи-ка меня в покои к Удо.
– А мне не нагорит? – встревожился Хинрик.
– Не нагорит. Отведи меня к Удо и можешь быть пока свободным.
Они прошли полутёмным коридором в сторону Срединной башни и спустились винтовой лестницей на этаж ниже. Хинрик указал Николаусу нужную дверь.
Николаус вошёл.
В покоях Удо было холодновато в этот ранний час. Глянув в одно из раскрытых окон, Николаус увидел знакомый уж дворик с псарней. Свежий воздух, вливающийся внутрь комнаты, боролся с густым пивным перегаром. Удо лежал на неразобранной постели в одежде и сапогах. Влажное полотенце перетягивало ему голову. Из-под полотенца выбивались длинные спутанные локоны тёмных волос. Полотенце, сжимавшее голову, как бы подчёркивало крупноватый с горбинкою нос. Ярко-синие глаза выделялись на бледном лице.
– О, Николаус! Ты ли это?.. – едва не простонал Удо.
– Вот видишь, – улыбнулся Николаус и присел на краешек постели. – Много лет прошло, а ты меня узнал.
– О, добрый друг... – слабым голосом молвил Удо. – Тебя мне сам Господь послал. Скажи, Хинрик с тобой? Где он? Где Хинрик?
– Сидит, наверное, под дверью. Где ему ещё быть?
Удо с неожиданной силой вцепился Николаусу в руку:
– Вели ему: пусть сбегает на кухню и притащит мне кружку пива. Я умираю.
Николаус обернулся к двери:
– Ты слышал, Хинрик?..
Слуга завозился с той стороны двери:
– Один момент, господин.
Удо устремил к Николаусу полный приязни взгляд:
– Прости, что я встречаю тебя так... В голове у меня сейчас колокол гудит, а грудь и живот иссушает пустыня. Я вчера перебрал, как будто. Не помню даже, как доехал домой... А это полотенце... Мне кажется, если затянуть узел покрепче, колокол перестанет гудеть. Затяни узел, Николаус.
Склонившись над страдающим Удо, Николаус крепче затянул узел.
– О, стало лучше! – отметил Удо. – А я тебя сразу узнал, Николаус, едва ты вошёл. Ты был мальчишкой, стал мужчиной. Но узнать легко... Ох, я вчера перебрал, как будто!
Здесь в проёме двери возник Хинрик с большой кружкой на подносе.
Удо схватился за кружку обеими руками и жадно припал губами к её краю. Влив в себя половину кружки, взглянул на Николауса веселее, затем покосился на слугу:
– Благодарю, Хинрик. Ты спас мне жизнь... А теперь – пшёл вон, мерзавец! И не вздумай в следующий раз отпивать из моей кружки.
– Я не отпивал, – смутился Хинрик. – Только пену слизнул. Слишком полно налито было.
– Впрочем нет, погоди. Жди там под дверью. Может, ещё придётся сбегать за кружкой.
Николаус поднялся:
– Я тебя оставлю. Приходи в себя. Встретимся позже...
Они встретились спустя час на галерее каминного зала, где Николаус, сидя у раскрытого сундука с книгами, перелистывал римских авторов. Николаус отметил, что Удо высок ростом и статен, его отличала юношеская худоба. Волосы Удо уже были расчёсаны, лицо порозовело, а в глазах так и играли бесики.
Удо подошёл быстрым шагом и обнял Николауса.
– Едва только птицы мне напели, что ты приехал, Николаус, так я и поспешил домой. Но, как это часто случается с путешествующими людьми, попалась мне на пути корчма, и не в силах я оказался её объехать, – он обратил внимание на книгу в руках друга. – Что ты тут листаешь? Пустое, – он отнял книгу и бросил её в сундук. – Всё это мёртвый хлам, пыль веков. Не убивай на ученье время, друг Николаус, и голову никчёмной наукой не забивай. Жизнью живи: пей вино и щупай девок, глупых и тёплых... Я этого, – он пренебрежительно покосился на сундук, – уже перевидел много; года два держал в руках, да вовремя опомнился, послал всех менторов к дьяволу...
Здесь Удо, позволяя себе изредка выражения ещё более крепкие, чем «послал к дьяволу», а иной раз и вовсе непристойные, поведал другу детства о том, как пару лет учился в Ревеле на богослова.
– Ха! Ты можешь представить меня богословом?.. Это сказалось тлетворное влияние Андреаса. Ты помнишь моего старшего брата? – однако не дав Николаусу рта раскрыть, продолжил: – Он уж несколько лет живёт в Риге. Мы с тобой, Николаус, непременно съездим к нему в Ригу. Сам посмотришь. И славно... славно покутим.
Всем своим поведением Удо показывал, что очень рад приезду Николауса. И радость его была искренней. Уже через минуту общения с ним Николаус понял, что Удо, любящий выпить и приударить за девицами, вряд ли в скором времени женится, и расчёт барона на скорую женитьбу сына и на толк, что из него, возможно, выйдет, несостоятелен.
– Да уж, мы с тобой теперь пошалим, – продолжал развивать мысль Удо. – Помнишь, как в детстве шалили? Вообще в здешних местах такая скука! Народ – ограниченный и тёмный и без меры пьёт; девки дурно пахнут, как будто не моются годами, и залезть к такой под подол можно только изрядно набравшись или при сильном насморке, когда запахов не различаешь. А у иных местных девок «друзей» полно. Если ты знаешь верный способ быстро излечиться от чесотки или умеешь лучше других гонять вшей, можешь, конечно, смело забираться к такой под одеяло. Но чесотка и вши – наименьшие из зол... Я уже лечился дважды от зла покрупнее...
В это время мимо них проходила Мартина, и Удо, продолжая свой рассказ, ущипнул её. Мартина вскрикнула и бросилась от него по галерее бегом. Только на лестнице она испуганно оглянулась и перешла на шаг.
Удо усмехнулся:
– Мартина – чистоплотная девушка. Не такая, как другие крестьянские девки. Я её затянул к себе однажды и запер дверь. Поверь, под платьем она хороша: беленькая, как снег, и нежная, как бархат... Но ты всё молчишь, Николаус, – Удо дружески взял его за плечо. – А как у вас в Полоцке? Есть, на ком взгляд остановить?
– О да! – Николаус с показным интересом повёл бровью в сторону удаляющейся Мартины. – Полоцк большой город. Может, не такой большой, как Ревель или Рига, но уж побольше Феллина или Нейгаузена.
Удо засмеялся:
– Да я не про Полоцк, я про женщин спрашиваю.
– И красивых женщин много. Выйдешь на улицу – глаза береги, не то на стороны раскатятся, – Николаус засмеялся в ответ и изобразил незадачливого волокиту, который возвращает обратно в орбиты разбежавшиеся глаза.
– Тогда я приеду к тебе в Полоцк, брат, – кажется, не столько слова Николауса, сколько мастерски изображённый женолюб впечатлил Удо. – А ты, я смотрю, такой же выдумщик, как и был. Хорошо, что ты приехал, Николаус. Мне теперь дома дышится легко. Именно тебя мне всё это время не хватало, – Удо искренне и крепко обнял Николауса. – Даже когда я с братом Андреасом вижусь, не испытываю такой лёгкости. Я в Риге у него бывал в гостях уже много раз, – тут Удо подмигнул Николаусу. – Сам понимаешь: другие города, другие девушки... В прошлом году мне удалось разгулять Андреаса, и он на несколько часов забыл про свой чин. Мы взяли деньги в долг у рижских жидов, у сверчков чёрных, и славно покутили... Да, мой брат, конечно, большой зануда, но если его зацепить и разогреть, то после пятого-шестого кубка он вполне похож на нормального человека. О, мы с тобой, Николаус, непременно съездим к нему – и в самом скором времени. Я покажу тебе, что и наш святоша Андреас не так уж крепок в крепости своей и сладкий вкус греха ему ведом...
– В Ригу, конечно же, съездим, – согласился Николаус, – но сначала в Феллин. У меня есть дела.
Однако Удо его, кажется, не слышал; токовал о своём глухарь:
– Я все последние дни провёл, друг мой, на свадьбе. Здесь недалеко – только пара дней пути. Невеста была хороша, но и подружка её из девиц заметных. Так вот: подружка эта всё передо мной крутила хвостом. И с левого боку подсядет, и с правого, и рукой обопрётся на плечо, и бедром коснётся. Словом, сама просится. И не было ни одного танца, в который бы она меня не старалась затащить, и не было ни одной забавы, в которую бы она меня не стремилась вовлечь. Впрочем не очень-то я и противился. И то верно: будет ли волк воротить нос от овечки?.. А она всё тащила меня в амбар и там вешалась на шею. Ха!.. Не думала же она, что я удовлетворюсь поцелуями! Не думала же она, что сокол обратится в рябчика! Я и прижал её там, нашёл какой-то топчан. Все юбки ей пересчитал и добрался до сладкого. У жениха с невестой была своя свадьба, а у меня с подружкой – своя. Одна беда: всю спину мне расцарапала страстная штучка – не раздеться.
Удо рассказывал, а бесы так и играли у него в глазах, тревожили воображение и, как будто, наводняли память волнующими видениями из того амбара. Похоже было, кровь молодого Аттендорна так разгорячилась, что он был бы не прочь продолжить сейчас свою свадьбу.
Но тут возле Удо неслышной тенью замер Хинрик и воззрился на него преданными глазами.
Удо поморщился:
– Что тебе, Хинрик?
– Господин барон велел передать: он ждёт вас сейчас у себя... для разговора.
Глава 26
За рачителем следует вертопрах
 абы Николаус каждый раз ходил пить пиво и вино, когда Удо, почитатель Бахуса, звал его с собой, то ходил бы он с утра до вечера пьяный, а то и вовсе был бы нощно и денно едва можаху. Но он имел достаточно твёрдости духа, чтобы отказывать молодому барону – под разными благовидными предлогами, дабы Удо воспринимал сии отказы без обиды. Николаус замечал, как одобрительно относился к его отказам старый барон; должно быть, надеялся Ульрих, что, следуя доброму примеру Николауса, возьмётся Удо за ум; также замечал Николаус, как барон разочарованно, уязвлённо порой оглядывался на сына, который словно бы искал золотой на дне каждой выпитой кружки и выглядывал жемчужину на дне каждого опрокинутого кубка. Весьма прозрачные намёки делал барон Аттендорн, рассуждая за обеденным столом о человеке, который не занят всерьёз каким-то делом и потому нельзя поручиться за чистоту его помыслов и за его безгрешность – увы, увы, никакое хорошее дело не правит такому человеку мозги.
абы Николаус каждый раз ходил пить пиво и вино, когда Удо, почитатель Бахуса, звал его с собой, то ходил бы он с утра до вечера пьяный, а то и вовсе был бы нощно и денно едва можаху. Но он имел достаточно твёрдости духа, чтобы отказывать молодому барону – под разными благовидными предлогами, дабы Удо воспринимал сии отказы без обиды. Николаус замечал, как одобрительно относился к его отказам старый барон; должно быть, надеялся Ульрих, что, следуя доброму примеру Николауса, возьмётся Удо за ум; также замечал Николаус, как барон разочарованно, уязвлённо порой оглядывался на сына, который словно бы искал золотой на дне каждой выпитой кружки и выглядывал жемчужину на дне каждого опрокинутого кубка. Весьма прозрачные намёки делал барон Аттендорн, рассуждая за обеденным столом о человеке, который не занят всерьёз каким-то делом и потому нельзя поручиться за чистоту его помыслов и за его безгрешность – увы, увы, никакое хорошее дело не правит такому человеку мозги.
Старый барон иной раз отводил Удо в сторону и что-то тихо, но грозно втолковывал ему, бывало едва не брал за грудки могучей рукой. Однажды даже, не сдержав гнева, возвысил голос барон, и сына своего нерадивого, запойного пьяницу, именовал досадною соринкою в глазу Создателя. Многие это слышали, как и Николаус. Однако выговоры отца на сына никак не действовали; даже наоборот – после очередного такого выговора Удо, откровенно назло, ещё сильнее напивался; у себя в покоях он горланил, отчаянно фальшивя и путая слова, героические или любовные песни, тискал по тёмным углам молоденьких горничных, задирался с ландскнехтами, дерзил рыцарям и возмущал их слух именем Сатаны. Бедный Ульрих Аттендорн не знал, что с сыном делать. Барон, видели, чаще обычного теперь задерживался у мраморной статуи жены Эльфриды, подолгу молился возле неё и ронял скупую слезу. И он сказал однажды Николаусу, что, пожалуй, пришло время им ехать в Феллин – знающие люди передавали, будто старый магистр Фюрстенберг уже вернулся из поездки; барон, сказал, продумает и напишет Фюрстенбергу письмо и тогда можно будет отправляться в путь... А Николаус подумал, что у барона, как всегда, имелся свой расчёт – видно, надеялся Аттендорн, что серьёзное дело отвлечёт его непутёвого сына от непрекращающихся попоек.
Но что-то всё медлил барон с письмом. Уж несколько дней прошло, а он всё не велел седлать лошадей.
В то время, как Удо после очередных возлияний отсыпался, Николаус был большей частью предоставлен сам себе. И его такое положение вовсе не тяготило. Он был волен, не оглядываясь на беспутного, делать всё, что ему заблагорассудится. И он много гулял по окрестностям, разговаривал с крестьянами, слугами из замка, с кубьясами. Николаус много читал, сидя на крепостной стене вечерами, и, всякий раз переворачивая страницу, оглядывал окрестности – возделанные поля, покрытые редким кустарником пустоши, леса вдалеке. Он наслаждался видом природы, ибо природа была совершенна в своём летнем убранстве. Он замечал, сколь много в сумерках благолепия, а в вечерней тишине – благозвучия.
Глава 27
Слепой не устрашится и горгоны
 нгелика с некоторых пор была как-то особенно серьёзна, спокойна; замечали, что она часто впадала в состояние задумчивости, и если была занята в это время каким-то делом, то, увлечённая своей мыслью, выполняла это дело машинально и иногда допускала ошибки – бывало не того цвета нить по вышивке пустит, бывало не ту ленту в косу вплетёт, а бывало вместе с лоскутом ткани часть подола себе отрежет и тем испортит платье. Порой и где-то по хозяйству распорядиться забывала она. Надо заметить, хозяйством Ангелика занималась давно, едва повзрослела. Она сама возложила на себя бремя забот, чтобы помочь отцу, поскольку тётка Фелиция от этих забот давно устранилась, более занятая своим недугом и переживаниями по поводу одиночества. С появлением же в замке Николауса Ангелика с ещё большим усердием начала вникать во все хозяйские вопросы, и этим она как будто заслонялась от бесконечных мыслей о молодом полоцком госте. Ангелика чаще стала грустить и уединяться, хотя с домашними по-прежнему была приветлива, а с чужими предупредительна. Всё больше времени стала проводить Ангелика в замковой церкви. И слышали не однажды, как звучал под высокими сводами её нежный голосок: «Иисус, Ты остаёшься радостью моей»... Всё чаще стала она уходить в поля возле замка – как будто для сбора цветов; ландскнехты с алебардами и мечами ходили за ней следом, но говорили потом, что никаких цветов юная госпожа не собирала, а только сидела на камне или на пне и долго и отрешённо смотрела в даль. И очень много времени Ангелика проводила за чтением – словно хотела отвлечься от неких мыслей. Наверху, на галерее было у Ангелики любимое местечко – широкий подоконник. Светлое местечко. Там всегда лежали подушки и книга, которую Ангелика читала.
нгелика с некоторых пор была как-то особенно серьёзна, спокойна; замечали, что она часто впадала в состояние задумчивости, и если была занята в это время каким-то делом, то, увлечённая своей мыслью, выполняла это дело машинально и иногда допускала ошибки – бывало не того цвета нить по вышивке пустит, бывало не ту ленту в косу вплетёт, а бывало вместе с лоскутом ткани часть подола себе отрежет и тем испортит платье. Порой и где-то по хозяйству распорядиться забывала она. Надо заметить, хозяйством Ангелика занималась давно, едва повзрослела. Она сама возложила на себя бремя забот, чтобы помочь отцу, поскольку тётка Фелиция от этих забот давно устранилась, более занятая своим недугом и переживаниями по поводу одиночества. С появлением же в замке Николауса Ангелика с ещё большим усердием начала вникать во все хозяйские вопросы, и этим она как будто заслонялась от бесконечных мыслей о молодом полоцком госте. Ангелика чаще стала грустить и уединяться, хотя с домашними по-прежнему была приветлива, а с чужими предупредительна. Всё больше времени стала проводить Ангелика в замковой церкви. И слышали не однажды, как звучал под высокими сводами её нежный голосок: «Иисус, Ты остаёшься радостью моей»... Всё чаще стала она уходить в поля возле замка – как будто для сбора цветов; ландскнехты с алебардами и мечами ходили за ней следом, но говорили потом, что никаких цветов юная госпожа не собирала, а только сидела на камне или на пне и долго и отрешённо смотрела в даль. И очень много времени Ангелика проводила за чтением – словно хотела отвлечься от неких мыслей. Наверху, на галерее было у Ангелики любимое местечко – широкий подоконник. Светлое местечко. Там всегда лежали подушки и книга, которую Ангелика читала.
Видно, однажды Ангелика что-то решила для себя, так как отношение её к Николаусу несколько переменилось. Девушка перестала избегать его...
Как-то тихим ясным вечером Николаус, стоя на крепостной стене – почти над самыми воротами, – пытался определить, сколь велика здесь высота стены. Эту высоту легче всего было узнать, спустив к самому рву гирьку на бечёвке да замерив затем длину бечёвки. Но невозможно было отвязаться от мысли о том, что хитрый рыцарь Юнкер приглядывает за ним сейчас из какого-нибудь укромного уголка замка. Следовало поискать другой способ. Николауса, в частности, занимал вопрос, на счёт «три» или на счёт «четыре» отпущенный камушек достигнет в этом месте земли. Затем Николаус задавался вопросом: можно ли вычислить высоту стены, зная точно время полёта камушка? Вероятно, можно, отвечал он себе, но это всё так сложно, а с цифирью он с детства был не в ладах, что виделся ему более предпочтительным способ попроще – определить на глазок. Тут саженей шесть, пожалуй, будет. Николаус перегнулся через край стены. Впрочем, даже семь...
Когда он выпрямился и оглянулся, то увидел, что перед ним... стоит Ангелика. Николаус смутился от неожиданности, отвёл глаза:
– Вот любопытствую – высоко ли здесь?
– Конечно, высоко. Ровно сорок футов в этом месте, – глазом не моргнула Ангелика. – А с северо-восточной стороны стена в полтора раза выше.
– Надо же! – подивился Николаус. – Так и голова может закружиться.
И он побыстрее отошёл от края стены.
В мыслях своих Николаус не мог не восхититься красотой баронской дочери. Вообще у барона Аттендорна все дети были красивые. Николаус видел как-то портрет Андреаса. Как и Ангелика, он очень походил на мать. Нежные черты лица подчёркивались некоей внутренней силой, угадываемой в чётко очерченном подбородке, в уверенных линиях губ. Так и Удо при всех своих слабостях и недостатках был, однако, юноша весьма привлекательной наружности. И девушки, какие в соседних поместьях вешались Удо на шею (если, разумеется, верить без оглядки его побасёнкам), за смазливым лицом не видели ни его слабостей, ни его недостатков, впрочем как за медоточивыми речами сего конченного юбочника не слышали они издёвки.
Внимательным глазом Николаус успел приметить, как высоко у Ангелики вздымается грудь. И хотя движения Ангелики были спокойны и речь её как будто не сбивчива, девушка явно волновалась, подойдя к нему так близко. Николаус видел: чуть бледнее обычного было у неё лицо, и от некоего внутреннего возбуждения блестели глаза. А когда он взял её за руку, заботливо отводя подальше от края стены, он ощутил, что чуть-чуть вздрагивает её тонкое беломраморное запястье. Ему показалось приятным это её волнение. И едва он подумал о приятности этого её волнения, что было ему внове, оно и его самого, чуткое сердце его, вдруг заставило волноваться. Он ощутил, будто какая-то волшебная сила чуть-чуть приподняла его над землёй, и земля ушла у него из-под ног, и оттого он почувствовал в себе необыкновенную лёгкость и одновременно неуверенность, однако и эта его собственная неуверенность была ему приятна.
Тут он заметил книгу у Ангелики в руках и услышал её голос. До сознания Николауса дошло, что, занятый мыслями о новизне своих некоторых ощущений, он не расслышал каких-то слов Ангелики. Между тем она давно что-то ему говорила. Николаус поднял на неё глаза, и они встретились взглядами. Ему почудилось в этот миг, что Ангелика чуть слышно охнула... Или он ошибся: сизогрудая голубка, облетающая Срединную башню, упирающуюся в небеса Медиану, негромко всхлопнула крылом...
– ...правильно ли написано в этой книге?
– Что?
– Ты не слушаешь меня, Николаус, – улыбнулась Ангелика, нежно улыбнулись глаза её. – Я читаю здесь о восточных землях. Правильно ли написано в этой книге, что у русских в городах очень много церквей и что бывает как будто целый лес церковных глав?
– Правильно написано. В восточных землях в городах много церквей. И народ набожен.
– И в Полоцке? – всё любопытствовала Ангелика.
– Верно, в Полоцке много церквей. Но нигде я не видел церквей так много, как во Пскове...
– Ты бывал во Пскове? – Ангелика за этим разговором как будто перестала волноваться. – Это ведь большой город? Я всего один раз была в большом городе. В Ревеле. Года три назад, когда мы с отцом ездили к морю и несколько дней нежились на солнышке в дюнах...
Здесь добрый Николаус, заговорив о псковских церквях, вдруг поймал себя на том, как сильно он скучает по Пскову, по красивым православным церквям, коих в городе очень много – действительно, из-за городских стен глядя, можно видеть целый лес главок, – как сильно скучает он по звонам колокольным, по тесным кривым улочкам, по шумной, суетной толчее, по разноязыкому гомону большого торгового города. И он рассказал Ангелике про Псков, про церкви, какими она интересовалась, про то, что много во Пскове церковок совсем маленьких, не больше простой русской избы, и всего-то в таких церковках места что для алтаря и дюжины молящихся, а может, и того меньше, зато отапливать такие церковки в холодном северном городе легко; рассказал он про луковки над церквями, сказал, что число этим луковкам – тьма, и нет ни одной, похожей на другую; одни луковки тёмные, и на них во множестве звёзды горят, другие разноцветные, будто радуга в них застыла, есть серо-голубые, и их днём на северном небе едва разглядишь, есть железные и медные луковки, есть деревянные – резные или простые, есть завитые, есть похожие на шишаки, а есть сусальным золотом покрытые, и в них, словно в зеркала, смотрятся небеса, и не по небесам уж как будто облачка плывут, а по золотым главкам, в лунную же ясную ночь сияют золотые главки волшебным светом.
– Как интересно ты рассказываешь, Николаус, и так складно, – удивилась Ангелика. – Будто пишешь. Ты, наверное, много читал? И много путешествовал? Мне бы хотелось посмотреть на то, что видел ты...
Произнеся эти последние слова, Ангелика словно бы смутилась, осеклась. Как видно, она подумала, что не стоило бы эти слова произносить, ибо выглядели они как признание в чём-то...
Высвободив руку и ничего более Николаусу не сказав, она покинула его.
Николаус только в эту минуту понял, что, рассказывая о Пскове, волнуясь близостью Ангелики, всё это время держал её за руку, не отпускал. Она же, слушая, руку не отнимала.
А на другой день, когда Николаус наш после завтрака спустился в каминный зал, Ангелика подошла к нему с Мартиной. От Ангелики пахло жасмином, а от Мартины амброй. Девушки спросили, не сочтёт ли достопочтенный кавалер ниже своего достоинства поиграть с ними в Blindekuhk[57]57
Blindekuh spilen — играть в жмурки; дословно Вlindekuh — слепая корова.
[Закрыть].
– Нет, не сочту. А даже приму за честь, – Николаус огляделся. – Здесь достаточно места. Или вы хотите отправиться на луг?
– Тогда быть тебе Blindekuh, – засмеялась Ангелика и вынула из кармашка платья золотую шёлковую ленту.
– Почему же мне? – сделал нарочито кислую мину Николаус. – Положено бросить жребий...
– Потому что мы так решили, – был насмешливый ответ. – Ты должен уважить наше желание.
Ангелика взволнованно-дрожащими руками завязала ему глаза.
Таким сладким было чувство, родившееся в Николаусе от её лёгких прикосновений!..
Нежные девичьи руки долго раскручивали его. Он уже не видел, чьи это были руки – Ангелики или Мартины... Но он услышал, как в возбуждении и в предвкушении нескучного времяпрепровождения красавица Ангелика шепнула Мартине:
– Видишь, как золотая ленточка идёт к его волосам. Я же говорила!..
И девушки тихонько разошлись в стороны.
Blindekuh Николаус, широко расставив руки и слегка склонив голову, стоял некоторое время посреди зала. Слушал. Он слышал, как Ангелика и Мартина зачем-то двигали стулья и скамеечки. И понял – зачем, только когда ступил первый шаг. Он на низенькую скамеечку наткнулся, опрокинул её и сам чуть не упал. Наверное, Николаус выглядел в это время смешно. Ибо девушки засмеялись. Причём смех их донёсся совсем не оттуда, где, как он думал, они должны были быть.
Николаус покачал головой и улыбнулся:
– Хорошо же!.. Но какой на кону приз? Мы не условились.
– Условимся, – неожиданно шепнула ему Ангелика сзади; он не ошибся, это была именно Ангелика, потому что от девушки пахнуло жасмином.
Николаус резко развернулся и... поймал руками воздух.
– Что же ты предложишь мне?
– Если поймаешь хоть одну из нас, дадим тебе, пожалуй, марципан.
– Нет, – остановился Николаус, – за марципан я вас ловить не стану. Я могу хоть сейчас, с завязанными глазами пойти и взять марципан на кухне. Я слышу запахи, доносящиеся из кухни. Что мне ваш марципан?
– Какой хитрый! Что же ты хочешь?
– Поцелуй. Тогда я тебя непременно поймаю, – тут он быстро обернулся в ту сторону, откуда повеяло амброй. – Или тебя!
По движению воздуха он понял, что едва не поймал Мартину.
– Хорошо. Мы согласны, – засмеялась Ангелика где-то в стороне.
Николаус пошёл на её смех – внимательно слушая и шагая осторожно, боясь натолкнуться на какой-нибудь предмет. Но смех её серебристый, переливчатый прекратился, и в зале воцарилась совершенная тишина. И больше не слышал Николаус возле себя запахов. Ему даже подумалось в какой-то момент: уж не оставили ли его девушки в зале одного, не подшутили ли над ним таким образом? сами ушли, занимаются своими делами, рукоделиями, а он тут бродит один с завязанными глазами и, должно быть, очень смешно выглядит со стороны; и вот войдёт сейчас в зал насмешник Удо и будет потом подтрунивать несколько дней, или подозрительный Юнкер станет посреди зала – вот уж возвеселится у него чёрствая душа, или сам барон увидит и решит, что поспешил составить о госте высокое мнение, решит, что гость – всего лишь мальчишка, каким был прежде.
Но едва Николаус в нерешительности остановился...
– Blindekuh... – в самое ухо прошептали ему девичьи губы, и чуть слышно прошелестело шёлковое платье.
Он метнулся на звук, но уловил только запах жасмина. Ангелика опять смеялась где-то далеко. В это время платочек, надушенный амброй, хлопнул его слева по уху. Николаус двинулся влево, но справа его ткнула в плечо тросточка.
– Blindekuh...
Николаус улыбнулся:
– Помните: поцелуй!..
Девушки засмеялись сзади. Мартина сказала: – Никогда ещё не целовалась с коровой!.. Николаус бросился на голос и схватил... большую пуховую подушку, которую ему вовремя подбросили. От подушки пахло амброй.
– Blindekuh...
Он ещё довольно долго ходил по залу, натыкаясь на подставленные стулья и скамеечки и вызывая тем смех девушек, долго ловил Ангелику и Мартину, но поймать ему удавалось либо ничего, либо очередную подушку или чью-то старую шляпу. Николаус думал о том, что ему ещё повезло: он играл с девушками, у которых хороший вкус и доброе сердце; другим Blindekuh приходится много труднее: их не платочком хлещут, а веником, в них не тросточкой тычут, а шваброй, их также нещадно дёргают за волосы и за уши, на них норой набрасывают плащ и не шуточно тузят, а потом делают вид, что попались, и быстро подставляют для поцелуя собачку.
Николаусу наконец игра надоела, а ещё более надоела отведённая ему глупая роль, и он придумал хитрость. Он сделал обманное движение в одну сторону, но сразу же метнулся в противоположную... И поймал. Но кого же? Он услышал сладкий аромат амбры. Мартину он поймал! Обманул плутовку!..
Он крепко прижал её к груди, чтобы не вырвалась, и радостно воскликнул:
– Поймал, поймал... Попалась, плутовка!
Николаус чувствовал, как сильной струной изгибалось у него в руках тело пойманной им жертвы, как руки жертвы упирались ему в грудь в попытках вырваться, как взволнованно-жарко дышала ему жертва в лицо. Но руки у него были очень сильны – не вырваться. Николаус рассмеялся:
– Я слышу амбру. Это Мартина, – он чувствовал, что жертва сопротивляется из последних сил. – Был уговор: ты должна меня поцеловать. Но не вздумай подставлять собачку...
Надёжно удерживая её за талию левой рукой, он правой сорвал повязку с глаз.
И увидел у себя в руках... Фелицию.
Николаус в смущении, но всё ещё не отпуская пойманную тётку, огляделся. Мартина стояла поодаль, в испуге прикрыв ротик рукой. Ангелика стояла за спиной у Фелиции и, видно было, лишь с огромным трудом сдерживала вырывающийся смех.
А Фелиция, несколько растрёпанная и бледная, с вздрагивающими губами, всё упиралась ему руками в грудь.
Николаус наконец пришёл в себя от неожиданности и отпустил её.
– О, простите, баронесса! Мы развлекаемся тут, боремся со скукой...
И ему тоже, как Ангелике, стало ужасно смешно, однако позволить себе сейчас смех было бы слишком... было бы вызывающе. Можно было бы позволить себе осторожный смех, если бы на лице у Фелиции хотя бы мелькнула улыбка или хотя бы отразилось понимание в глазах – понимание комичности момента, но Фелиция, суровая и величественная в эту минуту, была, кажется, зла, как фурия. Она повернулась к нему правым боком, который был у неё надменнее, внушительнее левого, она метала глазами молнии, оправляя у себя на груди помятое платье. Губы у неё дрожали, и тонкие ноздри от гнева трепетали.