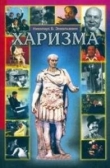Текст книги "Ливонское зерцало"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Глава 44
Кто знает тайну, пусть её не выдаёт
 иколаус и Ангелика теперь встречались чаще. Не полагаясь более на случай, который мог свести их, а мог и, напротив, самым досадным и обидным образом развести, они загодя уславливались о встречах. Если же по каким-то причинам заранее договориться не могли, им помогала в этом деле верная, добрая и сметливая служанка Мартина. Памятью она отличалась отменной и любое, даже очень длинное, послание могла запомнить дословно. Но дабы запоминать ей было полегче, Николаус и Ангелика складывали послания свои в стихах. К примеру, Ангелика посылала Николаусу, любимому своему, такие незатейливые слова:
иколаус и Ангелика теперь встречались чаще. Не полагаясь более на случай, который мог свести их, а мог и, напротив, самым досадным и обидным образом развести, они загодя уславливались о встречах. Если же по каким-то причинам заранее договориться не могли, им помогала в этом деле верная, добрая и сметливая служанка Мартина. Памятью она отличалась отменной и любое, даже очень длинное, послание могла запомнить дословно. Но дабы запоминать ей было полегче, Николаус и Ангелика складывали послания свои в стихах. К примеру, Ангелика посылала Николаусу, любимому своему, такие незатейливые слова:
Утро настанет воскресное,
И взвеселится народ,
Выйдет из церкви с песнями.
Встретимся мы у ворот.
Мартина, постучавшись в дверь к Николаусу, входила в покои и зачитывала эти стихи. Николаус, задержав её на несколько минут, складывал стихи ответные. Мартина ловила их на лету, затем спешила, бежала по коридорам и лестницам, стуча по каменным плитам деревянными башмаками, и уж скоро зачитывала Ангелике:
Как дождаться утра воскресного?
Мне опутали сердце тоски лианы.
Не найду себе, милая, места, если
Мы не встретимся тотчас у Медианы...
Поразмыслив, Ангелика складывала новые стихи. И бежала обратно быстроногая Мартина, твердила полушёпотом слова, чтобы не забыть. Звонко стучали по камню её деревянные башмаки. Всё передавала Николаусу служанка в точности:
Дневные стихнут голоса и песни,
И с сердца нежного спадут лианы, —
Пусть лишь заденет серебристый месяц
Церковный шпиль в Пылау.
Однажды Ангелика, улучив минутку, когда они остались со служанкой вдвоём, спросила:
– Скажи мне, Мартина... ты девственница?
Очень удивлена была служанка этим вопросом, не ожидала такого:
– Не возьму я в толк, добрая фрейлейн Ангелика, почему вы об этом спрашиваете?
– Всё-таки ответь, – была настойчива юная госпожа.
Помедлила с ответом Мартина, но призналась:
– Нет, я уже давно не девственница, госпожа.
– Кто он? Я его знаю? – всё допытывалась Ангелика.
Уж об этом, как видно, совсем не хотела говорить Мартина. Она молчала, делая вид, что вопросов не услышала.
Но не унималась Ангелика:
– Я знаю его, скажи? Кто он?
Спрятала Мартина лицо, как-то обречённо опустила плечи:
– Простите, но этого я вам не скажу, госпожа. Можете хоть отправить меня на конюшню...
– Ах, Мартина!.. – отпрянула от неё Ангелика. – Ну как ты можешь это говорить! Разве такое было, чтобы я отправляла кого-нибудь на конюшню?
Служанка молчала, словно проглотила язык.
Ну, хорошо, – согласилась Ангелика, – не хочешь говорить, кто он, не говори. Тогда расскажи, как это было.
Мартина пожала плечами:
– Зачем вам это нужно, фрейлейн Ангелика?
– Так много хочется знать. А об этом в книгах не пишут.
– Ладно, расскажу, – уступила Мартина. – Вижу, вы задумали что-то. Но это не моего ума дело... Я купалась.
– Купалась?
– Да, в ручье. В том месте, где его особенно тесно обступают ивы и где можно укрыться от чужих глаз.
– Ты была одна, что ли?
– Нет, я с подругами была. Они из деревни. Мы знаем друг друга с. детства. Но подругам нужно было идти, и они не стали меня ждать. И я собиралась вслед за ними уходить, вышла из воды.
– Как они могли оставить тебя одну? – посочувствовала Ангелика. – Как они...
– Он налетел на меня, как ветер, – перебила её Мартина. – Я хотела закричать, но не смогла, ибо он зажал мне рот. И я молчала, а он говорил, говорил... Он говорил, что я женщина, что я – почва, ждущая семени, что быть почвой, ждущей семени, мне предназначено природой. Он опрокинул меня на траву... на песок... я не помню...
– А ты? – у Ангелики были круглые глаза.
– Но помню, что он был груб и что я очень испугалась.
– И ты была не одета?
– Хорошо, что на мне не было платья, госпожа. Иначе он порвал бы его. Было бы жалко.
– Об этом ли следовало жалеть? И ты не кричала?
– Нет. Он всё говорил, зажимая мне рот. Говорил, что он ветер, что он засеет меня. И если я не люблю ветер, то должна его терпеть. Он говорил без умолку, а сам всё хватал меня, хватал... А потом... – и тут из глаз Мартины брызнули слёзы.
Глава 45
Ни в одной воде не сможет ворона
смыть чёрные перья
 добрым малым Хинриком явно что-то произошло: если прежде он был только навязчив в служении своём, то в последние дни стал попросту неотвязчив. Что бы Николаус ни делал, куда бы ни шёл, звал ли он Хинрика или не звал, может, даже прогонял его с глаз, слуга был либо совсем рядом, либо где-то в нескольких шагах (прячется молодой пёс, да не знает, что далеко его видно по торчащим ушам; так зачастую и Хинрика, прячущегося за камнем или за пнём, выдавала его торчавшая шапка). Одно время Николаус думал, что дело в деньгах, что, может, маловато пфеннигов он Хинрику даёт; стал давать больше. Однако сколько бы пфеннигов он Хинрику ни давал, тот и не думал убегать в пылаускую корчму и набираться там пивом, как раньше убегал и набирался; Хинрик, готовый услужить, будто верная собака, поджидавшая хозяина, целыми днями мог вздыхать и сопеть под дверью в полутёмном коридоре. Отчаявшись от Хинрика как-нибудь отделаться, Николаус махнул на него рукой.
добрым малым Хинриком явно что-то произошло: если прежде он был только навязчив в служении своём, то в последние дни стал попросту неотвязчив. Что бы Николаус ни делал, куда бы ни шёл, звал ли он Хинрика или не звал, может, даже прогонял его с глаз, слуга был либо совсем рядом, либо где-то в нескольких шагах (прячется молодой пёс, да не знает, что далеко его видно по торчащим ушам; так зачастую и Хинрика, прячущегося за камнем или за пнём, выдавала его торчавшая шапка). Одно время Николаус думал, что дело в деньгах, что, может, маловато пфеннигов он Хинрику даёт; стал давать больше. Однако сколько бы пфеннигов он Хинрику ни давал, тот и не думал убегать в пылаускую корчму и набираться там пивом, как раньше убегал и набирался; Хинрик, готовый услужить, будто верная собака, поджидавшая хозяина, целыми днями мог вздыхать и сопеть под дверью в полутёмном коридоре. Отчаявшись от Хинрика как-нибудь отделаться, Николаус махнул на него рукой.
Но было и полезное начало в изменении поведения слуги. В том бесконечном потоке слов, что из него всегда изливался и зачастую напоминал бред лихорадящего больного, Николаус научился отыскивать любопытные, а то и просто интересные для себя сведения, научился отделять пшеницу от плевел, хотя, увы, маловато было в болтовне Хинрика пшеницы, многовато было плевел; чаще всего многословие его оставалось пустословием.
Если трескотня Хинрика представлялась Николаусу интересной, он приближал к себе слугу, если же того уносило в речах неведомо куда, отдалял его, и Хинрик продолжал свои речи, обращаясь уже не «к доброму господину», а к божьим птичкам, к кузнечику или осе, к овечке или телёнку, к белому облаку, проплывавшему «по морю небес», к раскидистому дереву, стоящему в поле, – открывал свои секреты в дупло, и однажды Николаус даже наблюдал, как Хинрик нашёптывал что-то замшелому пню.
Хорошую рыбку можно выудить в мутной воде. А Хинрик был водой, ох!.. мутной – как ручей после ливня.
Немало узнал от него Николаус про Аттендорнов – и такого узнал, что обычно от всех скрывают. Особо – о госпоже Фелиции узнал, которую, как видно, Хинрик недолюбливал (хотя никоим образом не показывал этого) за недоброту, придирки и извечное высокомерие. Хинрик рассказывал, что госпожа Фелиция иногда ведёт себя как безумная, говорит всякую чушь. Оттого барон очень нервничает и уводит её в комнаты. И его можно понять: он тревожится, как бы не пошёл по округе слух, что сестра его всё чаще чинит безрассудства, что она, как ребёнок, не в ответе за свои слова, или, хуже того, – что сестра его умалишённая... О таких вещах, о странностях, тревожащих воображение, обычно быстро узнают и далеко говорят.
Да, Николаус и сам не раз замечал необычное в поведении госпожи Фелиции и подумывал, что она не в себе. Что стоили одни только ночные посещения его спальни и колдовская восковая кукла под его кроватью! А был ещё такой случай... Аттендорны как-то припозднились с ужином. Пили вино, ели мясо оленя, подстреленного Юнкером в лесу, разговаривали о чём-то и смеялись, как это водится за добрым кубком. А тут кто-то сказал, что небо ясно и видны очень красивые звёзды. Все поднялись из-за стола взглянуть на звёзды: и барон, и Ангелика, и Удо с Николаусом. Звёзды действительно были в тот вечер хороши. Когда вернулись к столу, Николаус увидел, что мясо у него на блюде порезано на мелкие-мелкие кусочки – такие мелкие, что каждый кусочек не более горошины. Это очень потрудиться нужно было, чтобы так изрезать довольно жёсткое мясо дикого зверя!.. Николаус знал, что только Фелиция оставалась в зале, она одна не ходила смотреть на звёзды. И Николаус поднял на неё глаза. Госпожа Фелиция натянуто засмеялась и сказала ему, что вот, мол, какое уважение она к гостю проявила – порезала для него мясо на блюде. И лицо, и руки её блестели, и почудилось Николаусу, что от неё исходил неприятный запах. Барон погрустнел, перед всеми, сидящими за столом, извинился и, взяв сестру за локоть, повёл её на женскую половину. Николаус поблагодарил Фелицию за заботу, но к мясу не притронулся. Кто мог поручиться, что мясо у него на блюде как-нибудь не заколдовано?..
– Скажу вам по секрету, – с оглядкой нашёптывал Хинрик, – вы уж не выдавайте меня, добрый господин... На баронессу, случается, накатывают внезапные приступы ужаса. Иногда во время такого приступа Фелиция прячется в чулане. И вытащить её на свет божий бывает трудно...
Касался Хинрик и давно прошедших лет. Он ведь служил в замке едва не с отрочества, много чего знал. То, что у Фелиции с рассудком нелады, стало заметно вскоре после смерти Эльфриды, жены барона. А как умер младенец Отто, госпожа Фелиция была уже весьма часто не в себе. О том среди прислуги, а также среди рыцарей и кнехтов ходили всякие слухи. Что будто Фелиция просила Эльфриду ей ребёночка подарить, но та якобы отказала в этой странной просьбе.
Потом Хинрик подходил к Николаусу с другой стороны. С прежней оглядкой в другое ухо нашёптывал:
– Я открою вам секрет, господин Николаус... Никто вам об этом не скажет, ибо говорить о таком запрещено бароном настрого. Коли скажет вам благородный рыцарь, чести лишится, коли кнехт – всего имущества и службы лишится, а коли кто-нибудь из слуг выдаст – поркой дело не ограничится, вырвут клещами язык. Но вы, господин, я знаю, умеете тайны хранить.
И поведал Хинрик Николаусу следующее... Госпожа Фелиция давно уже и всё тяжелее страдает от одержимости. И одержимость иной раз выворачивает её наизнанку. Лёгкие приступы бывают даже смешные, но если приступ затягивается, тут барон призывает на помощь слуг – да таких, что покрепче, поскольку силы в хрупкой госпоже Фелиции просыпаются нечеловеческие. В иных случаях лёгкий приступ – это непрекращающаяся икота; и ничто против этой икоты не помогает. В других случаях благородная госпожа Фелиция, нарядная и ухоженная, красивая и умная, часами блеет козой или ухает совой, полагая, что сидит в ночном лесу на ветке, и крутит головой и мигает ну совсем как настоящая сова. Иногда в безотчётном страхе она поднимает лицо к небу и кричит – тонко и переливчато. Чего-то боится. Случаются припадки, когда Фелиция лает, как собака, и прячет по углам покоев пищу на чёрный день. А то квакает, будто лягушка, и прыгает вокруг своей кровати «на четырёх лапках». Это было бы очень смешно, кабы не было так жутко... Спрятавшись в чулан, благородная госпожа Фелиция может часами петь жабьи песни, а если к ней в чулан осторожно заглянуть, можно увидеть, что глаза у неё в темноте горят совсем как у волчицы. В тяжёлые приступы одержимости рвёт Фелиция на себе одежды, и стремится она тело своё разорвать. Страдая от безотчётного ужаса, она лезет под кровать либо снова прячется в чулан; и продолжает рвать одежды. Служанка Мартина или барон Ульрих тогда зовут слуг, чтобы удержать баронессу, не дать ей навредить себе. И тут такая свистопляска начинается – словами не описать! Все бегают за Фелицией по комнате, а она от них с лёгкостью убегает; через кровать перепрыгивает, как никто не перепрыгнет, или, разогнавшись, по стене пробежит, или перелетит всё пространство комнаты, ухватившись руками за люстру, или вдруг схватит за плечи двоих здоровенных слуг и на пол их швырнёт, те и катятся кубарем, пока в стену не ткнутся. Не иначе, помогает ей сам Сатана! Откуда такая сила и такая ловкость в человеке, в слабой женщине? И веселье на неё находит нечеловеческое. Хохочет она как-то утробно, что-то кричит на непонятном языке, и глаза у неё при этом горят, и волосы космами торчат в разные стороны; а когда же она заговаривает на языке понятном, то начинает предсказывать будущее, но будущее, что Фелиция предсказывает, окрашено в серую и чёрную краски; никогда не предсказала она радости и свадьбы, однако много предсказала беды и похорон.
Что это всё такое, если не демонское мороченье?
Слушал Николаус россказни Хинрика, но не очень-то в них верил.
Когда припадки у Фелиции протекали особо тяжело, барон вызывал к своей несчастной сестре лекаря Лейдемана из Пылау. Говорили, что он хороший лекарь, лучший из лучших, хотя и живёт в деревне – не в Ревеле и не в Риге, куда его будто всякие влиятельные особы давно и настоятельно зовут. Лекарь этот раньше жил в Нейгаузене, но после того, как городом завладели русские, он переселился сюда. Много учился лекарь Лейдеман и медицину понимал сердцем. Однако и Лейдеман, любящий и глубоко знающий медицину, хлеб свой, никак не мог помочь бедной госпоже Фелиции. Он с умным видом, быстро, мастерски отворял ей кровь и ждал результата. После очередного кровопускания баронесса полдня отлёживалась в постели без сил, когда же сил опять прибавлялось, припадки её повторялись. Пробовал мудрый Лейдеман прибегать и к другим средствам лечения. Так, к примеру, назначал он Фелиции прослушивание музыки. Больную прятали в спальне за ширмой, четверо крепких слуг (вместе с ними и Хинрик) удерживали Фелицию за руки и за ноги, а музыканты исполняли мелодии, какие велел исполнять Лейдеман, – всё более мелодии медленные и грустные, успокаивающие натуру. Готовил лекарь и снадобья из лекарственных трав; лучше его никто не знал ливонские травы. Но ни мелодии грустные, ни травы целебные не отвращали от недужной тяжких припадков.
Барон Ульрих за сестру очень переживал. Он спрашивал у лекаря, что ещё можно сделать, чтобы поправить здоровье Фелиции, чтобы хоть смягчить припадки. И вообще, спрашивал барон, почему эти припадки происходят, в чём причина внезапных приступов ужаса? Барон рассуждал, как рассуждал бы на его месте всякий неглупый, образованный человек: если узнать причину этих припадков, можно её устранить, и тогда припадки непременно прекратятся. Лекарь Лейдеман был согласен с этим ходом мысли, но разводил руками: о причинах недуга невозможно с точностью судить; и лучшие профессора, у коих Лейдеман в своё время учился, не могли те причины назвать – уж немало опытный Лейдеман наблюдал в практике подобных случаев. Тут, говорил он, больную в лучшем случае беспокоит дурная кровь, а в худшем случае – одержимость дьяволом. Отворяя Фелиции кровь, Лейдеман как раз и рассчитывал дурную кровь сбросить. Назначая музыку и пользуя недужную травами, лекарь надеялся дурную кровь успокоить. Но не мог достигнуть желаемого, качал головой Лейдеман; вынужден был, побеждённый, оставить поле сражения с недугом из недугов. Хинрик сам слышал, как лекарь говорил барону, что к госпоже Фелиции не столько врача следует звать, сколько католического священника, экзорциста. А барон как раз опасался приглашать в замок чужих людей, не хотел давать новых оснований опасным слухам.
«Не приведи Господь, Фелицию обвинят в колдовстве, – говорил лекарю старый Аттендорн. – Когда её начнут спрашивать по науке, она, слабая женщина с нездоровым рассудком, сознается в любых смертных грехах. И что с ней тогда сделают?.. Вы, уважаемый Лейдеман, не хуже меня знаете, что написано в Библии: «Ворожею не оставляй в живых». Ищите, Лейдеман, ищите верное средство!»
Лейдеман открывал какую-то толстую книгу, долго листал её, с суровым, сосредоточенным видом водил по строкам пальцем. Потом говорил обнадёживающее:
«Могут оказать целительное воздействие молитвы».
Уж кто-то бросался в пылаускую церковь за тамошним священником, но его останавливал старый Аттендорн. Поближе посылали – за доблестным Юнкером, рыцарем-монахом, за человеком своим.
И приходил доблестный Юнкер, могучий и тяжёлый. Крепкие половицы прогибались под ним. Он становился перед распятием на колени и долго, очень долго молился, склонив смиренно голову и закрыв глаза. Искренне молился Юнкер, на ресницах у него даже видел кое-кто блеснувшие слёзы.
Видя, что не приносят Фелиции облегчения молитвы, качал головой Лейдеман и новое советовал:
«Попробовать окуривать покои госпожи чертополохом...»
Юнкер уходил, а барон незамедлительно гнал слуг на ближайший пустырь. И те, потные от усердия, исколотые злой травой, тащили в замок охапку чертополоха, рубили его на кухне и совали в жаровни с углями.
А Лейдеман всё переворачивал страницы:
«Если не поможет чертополох, сердцем и печенью рыбы должно курить перед госпожой. Это посильнее средства. Я не исключаю надежды, что более госпожа не будет мучиться».
И бежали ретивые слуги за три мили на озеро, где, знали они, всегда водят неводы рыбаки. И тащили старательные в замок корзины свежей рыбы. Кухарки точили ножи, ловко вспарывали рыбам животы, выбирали из потрохов нужные органы.
После этих советов уважаемого лекаря Лейдемана запах по замку растекался не из самых приятных. День и ночь дымили курильницы. Даже слуги, привычные к запахам конюшни и овчарни, свинарника и птичника, слуги, иные из которых на скотном дворе были рождены и, подобно Иисусу, в яслях во младенчестве лежали, эти слуги, проходя мимо покоев баронессы Фелиции, воротили от едкого чада носы. Что же говорить о небожителях вроде Ангелики и Удо! Они страдали, они вообще обходили те покои далеко стороной. И вместе с бароном и мудрым лекарем Лейдеманом надеялись они, что точно так же обходят теперь покои баронессы стороной все привязчивые хворобы и подлые демоны...
Опять же под большим секретом Хинрик поведал доброму Николаусу об одном разговоре, что состоялся между бароном и баронессой, между братом и сестрой.
Видно, барон, не желая полагаться только на помощь Лейдемана, отчаявшись дождаться улучшения от бесконечных окуриваний, устав от смрада, денно и нощно царящего в коридорах и комнатах, сам доискивался причин недуга. Он спрашивал у Фелиции, полагая, что остался в спальне с ней наедине (не заметил, как расторопный малый Хинрик зашёл за ширму взять медный таз):
«Откуда этот ужас, милая сестра, что мучит тебя и что терзает мне сердце? Что заставляет тебя прятаться в чулан и кричать там, возвещать всякие благоглупости?»
Госпожа Фелиция между припадками бывала напугана и тиха. Именно в таком состоянии она и пребывала, когда барон Ульрих обратился к ней с этими вопросами. И она отвечала:
«Иногда я чувствую, брат, будто небо наваливается на меня, будто небо – не воздух, а камень, круглый жёрнов – такой огромный, что не имеет ни длины, ни ширины, и он уже почти подминает меня. И я ничего не могу с этим поделать. Мне тогда очень страшно, наверное, тогда я и кричу... А в другой раз чувствую, что будто с востока движется большая беда. На тяжёлых тучах, как на конях-великанах, едет ночь. А за нею словно накатывает тот самый жёрнов, бесконечно огромный. Он подминает уже не только меня одну, он раздавливает жестоко и беспощадно всех нас. И мне так страшно, что я кричу и прячусь...»
«Опять ты берёшься предсказывать будущее, сестра», – был недоволен барон.
Но Фелиция продолжала, страх опять накатывал на неё:
«Потом вижу: Отик... Отик на чёрном коне, а этот конь – сущий дьявол; лютый конь грызёт удила и вращает глазищами, налитыми кровью. А Отик почему-то на Смаллана похож».
«Пора бы уже забыть, сестра, Отика».
«И я боюсь его, оседлавшего дьявола, хотя и люблю его. Я не верю ему, прискакавшему с востока, хотя и хочу верить. Я Отика дорогого боюсь. В страхе этом себя забываю...»
Глава 46
Для счастливой любви ночи мало
 любящего сердца прекрасные глаза. Ах, какие прекрасные глаза были у Ангелики, когда она встретилась с Николаусом у подножия Срединной башни – там, где условились накануне! Николаус разглядел эти глаза в свете звёзд, в свете месяца, поднявшегося над крепостной стеной, – огромные и блестящие глаза, отражающие небо, глубокие, как само небо, и притягательные, как небо, притягательные для человека, мечтающего обратиться в легкокрылую птицу, притягательные для кавалера, мечтающего о любви.
любящего сердца прекрасные глаза. Ах, какие прекрасные глаза были у Ангелики, когда она встретилась с Николаусом у подножия Срединной башни – там, где условились накануне! Николаус разглядел эти глаза в свете звёзд, в свете месяца, поднявшегося над крепостной стеной, – огромные и блестящие глаза, отражающие небо, глубокие, как само небо, и притягательные, как небо, притягательные для человека, мечтающего обратиться в легкокрылую птицу, притягательные для кавалера, мечтающего о любви.
Вопрос, который задала тихим голосом Ангелика, был ему не понятен:
– Ты же не бросишь меня одну?..
– Не брошу... – он знал, что должен ответить так.
Они пошли по крутой лестнице наверх. Ангелика впереди, Николаус – за ней. Бледный свет ночи проникал внутрь Медианы через бойницы и слуховые окна. В полумраке Николаус видел, что лестница выводит их к площадкам с обилием бойниц на все стороны, с пушками и горками ядер возле них или к широким галереям с запертыми железными дверьми – на вид такими тяжёлыми, что, казалось, одному человеку не сдвинуть с места такую дверь, даже если она не заперта. Пожалуй, правильнее было бы сказать, что поднимались они не по одной лестнице, а по разным. Очередная лестница заканчивалась на площадке, на которую выходили через квадратный люк. Миновав площадку, Ангелика и Николаус подходили к новой лестнице.
В иных местах им приходилось обходить какой-то мусор, переступать через брошенные балки, в других полусгнившие половицы скрипели и опасно прогибались под ними, тогда Ангелика сворачивала и вела Николауса вдоль каменной стены, где пол был покрепче.
Николаус всматривался в полутьму:
– Здесь бы всё починить...
Ангелика уверенно шла вперёд; иногда она оглядывалась на Николауса, и тогда он видел её блестящие глаза.
– У комтурии не хватает средств, чтобы восстановить здесь всё. Замок такой большой.
Прежде Николаусу не доводилось бывать в этой самой главной башне. Но как в ней всё устроено, он именно так и представлял. А Ангелика шла довольно уверенно; видно, хорошо она знала этот путь.
– Ты здесь, наверное, бывала много раз? – спросил Николаус.
– А ты не помнишь? – удивилась Ангелика. – Мы поднимались на самый верх и гоняли голубей. И делали это не однажды.
– Но ты тогда была совсем ребёнок. Как ты это помнишь? – ушёл от ответа Николаус.
– Пусть я была и мала, однако помню много больше, чем ты думаешь.
– Что же, например?
– Например, что ты, Николаус, уже тогда с удовольствием со мной возился. И мне это льстило: что взрослый мальчик играет со мной, обращает на меня внимание.
Он удивился:
– Уже тогда нас тянуло друг к другу... хотя ты была маленькая девочка.
Ангелика заметила не без грусти:
– Мне порой кажется, что ты и ныне обращаешься со мной как с совсем маленькой девочкой. Ты говоришь ничего не значащие слова, ты не доверяешь мне своих тайн, не открываешь сердце.
Николаус взглянул вверх, в темноту:
– Голуби и сейчас там живут?
– Их там давно уже нет. Юнкер распорядился готовить из голубей жаркое для кнехтов... Так всех птиц и повывели. Не осталось следа. А мне нравилось слушать их воркование. И ещё признаюсь, – оглянулась на него Ангелика. – С этими птицами мне было не одиноко.
– Разве тебе одиноко в замке? – удивился Николаус.
– Если бы не Мартина, мне было бы одиноко.
– А я?
– И ты...
Трудно было понять, какой смысл вложила Ангелика в это «и ты»; наверное, тот же, какой Николаус вложил в своё «а я?»
Чем выше они поднимались, тем уже становились лестницы. Потом каменные лестницы сменились деревянными, которые крепились к стене. Поскольку все лестницы были без перил, Николаус, следуя сзади, всё время придерживал Ангелику за локоть.
На самом верху они остановились перед такой же железной дверью, мимо десятка каких уже проходили. Взявшись за скобу, Николаус потянул её на себя. С таким же успехом он мог потянуть на себя гору. Тут он разглядел большой ключ, словно по волшебству появившийся в руке у Ангелики.
– Я взяла его тайком у Юнкера, – прошептала девушка. – А на колышек повесила другой, похожий. Надеюсь, не заметит подмены Юнкер.
Ангелика не сразу нашла замочную скважину в темноте, долго возилась с замком, склонившись к нему. Николаус хотел ей помочь и, потянувшись за ключом, взял её за руку. Рука у неё сейчас дрожала, и ключ мелко постукивал по краям стальной скважины.
Николаус взял у Ангелики ключ, открыл дверь.
Они ступили внутрь галереи – самой верхней из галерей. Они были сейчас под самой крышей Медианы и даже слышали поскрипывание поворачивающегося флюгера у себя над головой.
В темноте галереи светлыми пятнами виделись бойницы.
Ангелика крепко держала Николауса за руку – с той минуты, как он руки её коснулся, помогая открывать дверь. Ничего не говорила и не отпускала. Рука у неё была маленькая, но сильная. Войдя в галерею, Ангелика осторожно двинулась вперёд и потянула Николауса за собой. Она вела его к одной из бойниц, где было посветлее.
Николаус, следуя за девушкой, огляделся. Он увидел, что на галерее не было пушек и ядер. Здесь не было ничего, кроме деревянных ставней, стоявших в простенках между бойницами. Как видно, этими ставнями бойницы закрывали зимой, чтобы в башню не наметало снега.
Ангелика подвела его к бойнице, и они ощутили веянье прохладного ночного ветерка.
Бойница оказалась очень большой; совсем не такой она виделась снизу – от основания башни – и даже со стен. Николаус при желании мог бы встать в ней в полный рост.
Как красива была ночь! Как красивы были окрестности замка в ночи!..
Над головой сияли крупные звёзды на глубоко-чёрном небе. Желтовато-серые в свете месяца стены и круглые сторожевые башни Радбурга казались совсем крохотными внизу. За стенами – поля и леса, видимые в разных оттенках чёрного и серого. Светлыми жилами разбегались от замка дороги и кривые тропинки. Вдалеке стальной иглой вонзался в небо шпиль пылауской церкви. Глядя на этот мощный, величественный, гордый шпиль, можно было поверить, что весь мир вращался вокруг него, как вокруг оси; можно было подумать, что до сего шпиля, до возведения в сих благословенных местах церкви Христовой в мире царил хаос, и только теперь имел место единый мировой порядок, мировой круговорот, в коем за ночью приходил день, а за зимой – весна, за праздниками являлись будни, за горестями – радости, за ненастьем проглядывало солнце, и в коем человек последний однажды становился первым... Из-под холма, на коем стоял замок-твердыня, ручей уходил в даль, извивающейся змеёй уползал ручей в кудрявые дубравы, под чёрные небеса; в иных местах, где течение ручья проглядывало из-за куп ив, вода поблескивала серебром – это в ней, как в зеркале, отражались звёзды.
То был блаженный час. Они внимали тишине, они, поднявшись высоко, дышали Небесами. И наслаждались ощущением близости друг друга.
– Николаус... – был тихий шёпот.
Он повернулся к Ангелике. Глаза её поблескивали во мраке. И поблескивали они так близко...
Это не могло не взволновать Николауса.
Забыв о красоте ночи, он нежно обнял Ангелику за плечи. Девушка подняла голову, её чепец, расшитый золотой питью, скатился на пол. За чепцом посыпались и волосы – тугими косицами, с вплетёнными в них жемчужными бусами, тяжёлыми локонами, украшенными шёлковыми лентами и вуалями, – медленной и красивой волной ниспали они.
Глаза её блестели.
Николаус целовал ей глаза, лицо... эти свежие юные влажные губы, точёный подбородок, который поднялся вверх, к его губам навстречу, нежную девичью шею, тонкую, изящную...
– Истомлённое сердце...
Кто это сказал? Он или она?
Сознание его словно окуталось туманом.
Всё, что с ним происходило, казалось ему, не могло происходить в действительности. Николаус ничему не верил. Это было как наваждение какое-то! Это было что-то из грёз, может, сновидение, воздействие некоего дурмана – всё, что угодно, только не жизнь, какою он жил до сих пор. Да, Николаус догадался: он не на Медиану этой ночью поднялся и не на галерею железную дверь открыл, а поднялся он на мифический Эмпирей[77]77
Эмпирей в древнегреческой мифологии – наиболее высокая часть небес, наполненная неугасимым светом, в коей пребывают небожители; по представлениям ранних христиан, именно в Эмпирее обитают святые.
[Закрыть] и отомкнул вожделенные райские врата, и теперь он грезил наяву; он умер на земле и возродился среди небожителей, и целовал эту прекрасную, ещё вчера чужую ему, юную деву, богиню, великодушно показавшую ему путь на Небеса, в сферы вечного блаженства, он целовал её, едва не утрачивая рассудок от восторга и возбуждения. Дрожащими, непослушными пальцами развязывал он бесчисленные тесёмочки её платья, а Ангелика взволнованно жарко дышала ему в лицо. Николаус терял голову от этого дыхания, пахнущего женщиной, – молодой, сильной, красивой, полной желаний, жажду идей любви, жаркой и страстной, греховной – сейчас, сейчас, как в омут, как в пропасть, как на бренную землю с вечных небес, очертя голову, теряя крылья и ломая хребет, позабыв обо всём, о возвышенном, о богах, о Боге, о душе, обратившись только в плоть, приготовившуюся к любви, в безумную плоть.
Плоть играла в нём, вскипала кровь, путались и блекли мысли, сознание умирало.
– Истомлённая душа...
Ангелика пойманной редкой благородной рыбкой, золотою рыбкой билась в его крепких руках. Она то легонько, неуверенно отталкивала его, а то, наоборот, с неожиданной силой и неожиданной же страстью к себе прижимала... будто думала, что он собрался уходить, и не хотела его отпускать, ни за что, ни за что, ибо не сомневалась: для неё не жизнь без него – а топкое болото, погибель... И он удерживал её, мятущуюся, бережно, он был очень нежен. Он делал только то, на что, казалось ему, была её воля, на что было её желание. Она же не могла справиться со своим желанием, как и с волнением своим, и ноги почти не держали её...
Восхитительная грудь Ангелики светлела в темноте двумя маленькими лунами. Николаус приникал к этим лунам губами и здесь чувствовал её горячее тело. А рыбка оттого билась всё сильнее. Руки Ангелики ворошили ему волосы. И она дышала столь взволнованно, что, казалось Николаусу, вот-вот от волнения разразится рыданием. Он и сам в сильнейшем волнении, в любовной лихорадке не очень понимал, что делает... что делают его руки. Ему казалось, золотая рыбка в какой-то миг может выскользнуть из рук; и он уже пуще смерти боялся того, что Ангелика найдёт в себе силы остановить это безудержное, опьяняющее, как крепкое вино, любовное действо. У него у самого сил, чтобы сделать это, не было. Он понял, что постыдно слаб, совершенно беспомощен перед красотой, перед чарами этой юной чистой девы, жаждущей любви. Чтобы удержать Ангелику, он прижал её к стене. И ловил губами её губы, ловил дыхание её, и её дыханием, счастливый до беспамятства, дышал, и её дыханием был полон. Руки его, забывшие подчиняться его разуму, скользнули к Ангелике на бёдра; и платье её вдруг с лёгким шелестом упало на пол.
Ангелика переступила через него... Юная дева, нежная, милая, как ребёнок, сулящая плодородие, как земля, как сама Природа, дева зачинающая, дева, открывающая ворота в грядущее, сулящая изобилие и процветание, дева-любовь, дева-путь, дева-смысл, была вся во власти его.
Она говорила ему что-то. Голос Ангелики сладкой патокой окутывал его и пропитывал существо его чистой медовой слезой[78]78
Медовая слеза – мёд, сам по себе стекающий с сотов.
[Закрыть]. Но Николаус будто не понимал слов. Или девушка произносила некие заклинания на незнакомом языке, ворожила, дабы покрепче привязать к себе его, мужчину, молодого и сильного, уверенного, желанного... Голос её был ласковый, как и пальцы Ангелики, которые шевелились у него в волосах. Руками она прижимала его голову себе к груди, и ему казалось, он губами чувствовал биение её взволнованного сердца – неуёмно сильное, сумасшедшее биение...