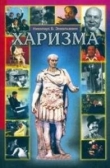Текст книги "Ливонское зерцало"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Матушка Фелиция указала на плаху:
– Вот твой путь, дитя. Путь к божеству!.. Мы все завидуем тебе, дорогая Анна. Каждый из нас хотел бы оказаться сейчас на твоём месте. Но Люцифер выбрал тебя...
Не в псалме, звучавшем всё громче, не в напитке, разогревающем кровь, нашла поддержку бедная Анна, а в этих словах. Она подошла к плахе и присела возле неё.
– Обними плаху, – сказала Фелиция ласково.
Брат Бенедикт-Альпин, могуче взмахнув крыльями, воспарил над толпой, потом закружил над Анной и сказал ей в испуганное лицо красными, сладкими устами:
– Путь к божеству! Мы поклонимся тебе, как кланяемся Господину. Ведь ты уже через минуту будешь наш Господин. Радуйся... Тебе, маленькой ведьме из деревни, никто никогда не кланялся.
Анна кивнула, подвинулась к плахе, посмотрела на неё... и в глазах у неё появился страх, неописуемый ужас. Она оглянулась на благородную госпожу Фелицию, верховодящую в ассамблее, будто ожидала, что та скажет сейчас: «Всё, достаточно, представление окончено!». Но Матушка Фелиция молчала; она, как и полагалось всемогущему иерарху, стояла к жертве спиной.
Неистовствовала и шумела толпа; пели, кричали: «Анна! Анна!..», прикрывали ладонями огоньки свечей, чтобы те не погасли. И шумел Бафомет – скрипел, стучал и едва не мычал от нетерпения.
Холодно поблескивал меч.
По щекам сестры Анны потекли слёзы.
– Я... хочу... я... не хочу...
– Она прекрасна! – возопили женщины, заглушая её слабый голос.
Матушка Фелиция обернулась, кивнула на плаху:
– Ты должна обнять её, девочка!.. И испытание кончится быстро...
И всё парил над молодой ведьмой, всё медоточил красавец-инкуб:
– А мы восхитимся твоим мужеством, как только что восхитились твоей неприкрытой красотой. Ты безумно красива, Анна!.. Знаешь?
– Любишь ли ты Владыку? – вопрошали волшебники из толпы, округляли глазки.
– Отдашься ли ты ему? – скакали старые карги, потрясая седыми космами и ветхими юбками, вздрагивая овечьими сосками, дьявольскими метками.
– Да, я люблю его! – взяла себя в руки девушка. – Я люблю своего покровителя! Простите меня!.. Мне лишь немного страшно.
– Счастливица! – обливались слезами женщины.
– Она прекрасна! – любовались мужчины.
Сестра Анна, став на колени, обняла плаху. Тут девушку начала бить крупная дрожь.
Брат Меа Кульпа, жрец, отвёл рукой волосы с шеи девушки. Оглянулся на Фелицию:
– Вы мне велите, госпожа?
– Велю.
Сестра Анна всхлипнула, несколько раз вздрогнула от рыданий и затихла. Крепко-крепко зажмурилась, пальцами вцепилась в плаху. Руки её, лицо побелели. И...
Удивительно ярко сверкнул меч в свете свечей. Звучно хрустнули под клинком позвонки. Кровь тугой струёй брызнула на грудь жрецу и в толпу, залила плаху. Братья и сёстры, затаив дыхание, следили за происходящим. В тишине хорошо было слышно, как с глухим стуком упала на каменный пол голова. По другую сторону плахи осело обмякшее обнажённое тело жертвы. Жалкое, забрызганное кровью, оно не было уже так прекрасно...
– Прими её, Владыка! – выдохнула толпа. – Она мечтала о тебе, как все мы.
Тут Матушка Фелиция подскочила к плахе и, схватив голову за волосы, подняла её, повернула к себе лицом, заглянула в открытые глаза.
Толпа ахнула, видя ещё живые глаза девушки.
– Сестра Анна! – вскричала Фелиция. – Мне нужен знак, всего один незначительный знак! Ты видишь сейчас Владыку? Ты счастлива? Ты вошла в Люцифера?.. И он вошёл в тебя?..
Глаза девушки в несколько секунд остекленели и закрылись.
– Это знак! – возликовала Матушка Фелиция.
– Да! Есть! – кричала толпа. – Она соединилась с божеством. Она теперь наша госпожа!..
И тут взревел великий Бафомет, закачал рогами, застучал копытом по блюду. На чёрной шкуре засияли голубоватые искры. Клацнули жемчужно-белые зубы.
Матушка Фелиция, безмолвно склонившись перед идолом, положила голову сестры Анны на блюдо. И тогда Бафомет ударил сверху по голове многопудовым лакированным копытом. Затрещали кости, жалобно звякнуло блюдо. Сработал некий скрытый механизм, и блюдо с раздавленной головой ушло в нишу. Бафомет ещё некоторое время ревел, сверкал в полумраке огненными глазищами и покачивал козлиной головой.
Сильно пахло серой, трепетали огоньки свечей.
Братья и сёстры теперь безмолвно стояли на коленях.
Брат, хорошо исполнивший роль жреца, вознеся над головой сверкающий меч, прокричал торжественно и гордо:
– Меа Кульпа!.. Я сделал это! Соединил смертью несоединимое при жизни! Я, верный раб Сатаны!..
Братья и сёстры поднялись с колен, взялись за руки и, раскачиваясь из стороны в сторону, принялись распевать гимны во славу верховного Владыки – Люцифера. Ведьмы, колдуны и волшебники, чародеи и заклинатели, фокусники и гадатели, и демоны, демоны распевали с восторженными лицами, закрыв глаза. Брат Меа Кульпа ходил по рядам и щедро мазал поющим лбы тёплой ещё кровью сестры Анны. Снимали маски, желая крови на лоб. И тогда многие узнавали друг друга. Здесь и из замка были люди: несколько кнехтов, молодой повар, старик-пастух. И Хинрик был тут – расторопный слуга; везде успевал...
Так, с торжественным пением, ассамблея рассаживалась за длинные столы. Наливали друг другу по кубкам сладкую греческую мальвазию – красное вино, возбуждающее плоть, подготавливающее плоть к безумным танцам и распутству. Вкушали от блюд, принесённых демонами; вкушали и зажимали пальцами носы и закрывали глаза, ибо блюда сатанинские были и по запаху, и по виду своему столь мерзостны, что даже у умирающих от голода могли вызвать отвращение...
Глава 33
Гусь хоть и за море слетает, но вернётся гусем
 ано утром Николаус и Удо отправлялись в Феллин.
ано утром Николаус и Удо отправлялись в Феллин.
Барон Ульрих Аттендорн передал сыну грамоту для старого магистра Фюрстенберга. Видно, нелегко далась эта грамота барону, что он обдумывал и писал её так много дней. Перешагивал барон Аттендорн, известный комтур, через честь свою, просил помощи для замка извне. Просить ему было – то же, что на колени стать. Унизительно ему было просить помощи даже у равного, даже у рыцаря Фюрстенберга. Вполне возможно, что послание Аттендорна было писано кровью – кровью сердца его. Но только не слезами – это точно!..
Когда уж собрана была немудрящая поклажа и выведены из конюшни кони, когда уж кони под сёдлами были, накормленные и напоенные крепкие кони, и нетерпеливо переступали копытами по траве, и косили глаза на распахнутые ворота, собрался Николаус кликнуть Хинрика, расторопного малого, к услугам коего привык и коего всюду таскал за собой.
Но Удо, поняв его намерение, просил:
– Хинрика с собой не бери, Николаус. Мне не нужны подлые свидетели моих похождений. Мы поедем вдвоём.
Так они и выехали вдвоём за ворота. Выехали они при мечах и кинжалах, но без доспехов. Молодой барон не на войну собрался, поездку эту мыслил исключительно как долгожданное развлечение, и роились у него идеи в голове, одна великолепнее другой, – какими приятностями скучную дорогу разнообразить, какими авантюрными выходками приукрасить, какими новыми амурами пыльные обочины убрать; тяжёлые доспехи были бы некстати (надень на петуха доспехи, и он не сможет распушить хвост). А юный сын купеческий о доспехах и не вспоминал, так как, кажется, в жизни их не нашивал и без них (но с кошелём на поясе) чувствовал себя хорошо – уверенно и вольготно; засидевшийся в замке, с оживлением и любопытством он смотрел вперёд.
Не проехали они по дороге и мили, как Удо, любитель и знаток женских прелестей, повернул коня на известную ему тропу.
– Я покажу тебе, друг Николаус, где купаются эстонские девки, дочки вилланов, – и он нетерпеливо вонзил шпоры в бока коню. – Иные из девок очень даже недурны.
Они проехали невозделанным полем между нескольких живописных больших камней и кустиков вереска. Башни замка были хорошо видны сзади. А впереди – за невысоким взгорком – Николаус увидел светло-зелёные купы ив. Там, похоже, протекал тот же ручей, что омывал камни под стенами Радбурга.
Удо спешился, Николаус последовал за ним.
Здесь за негромким журчанием ручья послышался звонкий девичий смех. Удо усмехнулся, глянул значительно на Николауса и приложил палец к губам. Тихо молвил:
– Женщина – это почва, которая родит; мужчина – это ветер, который засеивает.
Оставив коней на тропе, они прошли несколько шагов на смех, упали на взгорок и осторожно выглянули из-за него. Увидели внизу за деревьями ручей или, можно сказать, речку; совсем неширокую речку: на хорошем коне перемахнёшь и не заметишь. Несколько девушек – пять или шесть, трудно было разглядеть точно за ветвями ив, – плескались в ручье. Смеялись, переговаривались по-эстонски. Одна белотелой рыбкой плавала в воде от правого бережка к левому и обратно; соблазнительно посверкивали в воде её коленочки. Две девушки сидели на толстом стволе ивы – искривлённом и склонённом над самым ручьём, – сидели и, смеясь, помахивали ножками, брызгались водой. Остальные расположились на берегу. Подставляли свои нежные, но в то же время крепкие от крестьянской работы тела лучам солнца.
Едва Удо разглядел обнажённых девушек, глаза его лихорадочно заблестели.
Он, придя в сильное возбуждение, сглотнул слюну.
– Давай сейчас налетим на них, как ветер, и всех засеем!.. Они уступчивые, я знаю...
Николаус же тем временем всё оглядывался. С этого места высокие стены и башни Радбурга уже не были видны. Он подумал, что если замок с этого места не виден, если не виден отсюда даже флюгер на Срединной башне, на Медиане, значит, и из замка это место не может просматриваться, и потому противник мог бы при желании запросто, незамеченный, сколь многочислен ни был бы, устроить здесь лошадям водопой, мог бы здесь и лагерем стать, накапливать силы.
– Слышишь, Николаус? Поставим им коней в стойла... – жарко шептал Удо, глаза его горели.
Но Николаус не разгорался от жаркого шёпота, на купающихся девушек глянул только вскользь:
– Нет, брат мой Удо. Я и так уже много времени потерял: то ожидая твоего приезда в замке, то ожидая, пока отец твой напишет старому магистру письмо, – и он решительно поднялся, направился к лошадям. – Пора ехать, торопиться надо.
Неприятно удивился Удо тому обстоятельству, что друг его умеет говорить твёрдое «нет».
Очень уж не хотелось Удо упускать такую удачную возможность налететь внезапным ветром на девиц, разомлевших на солнышке, ослеплённых ярким солнечным светом, убаюканных ласковым журчанием ручья, опрокинувшихся уж навзничь, как будто зовущих, отдающих вечную тайну свою даром, не за грош даже, лишь приди и возьми... а хотелось налететь на нежнотелых девиц этих, благоухающих своим неизъяснимо прекрасным, неудержимо влекущим девичьим запахом, и всех их беспощадно... беспощадно засеять. Очень раздосадовало Удо и то, что выходило не по его; он весьма удивился словам Николауса, ибо помнил, что в прежние годы Николаус всегда уступал ему – и в выдумке, и в дерзости, и в отчаянных выходках.
Но уж ничего поделать не мог Удо, видя необоримую решительность друга. И поднялся, и уныло поплёлся за ним.
Когда догнал его, когда ступил ногой в стремя, молвил Удо не без досады:
– Да, Николаус, ты изменился. В прежние времена ты не прочь был немного пошалить... Помнишь?
– Помню. Но согласись, нужно спешить, – твердил своё Николаус.
– Днём раньше, днём позже мы явимся в Феллин. Велика ли разница?
Прозвучавший вопрос остался без ответа.
Удо ехал позади Николауса. Удо был раздражён и обижен и долго молчал; всё вздыхал.
Встретили крестьянина на дороге в лесу. Это был высокий крепкий парень, он шёл им навстречу с берестяным туеском, полным ягод, и при ходьбе опирался на палку. Ещё издали посмотрел парень исподлобья, не ожидая ничего доброго от встреченных немецких господ... Крестьянин показался Николаусу знакомым, пылауским, и он кивнул этому человеку, проезжая мимо. Так изумлён и сбит с толку был крестьянин, что господин сей, едущий на коне, вежливо кивнул ему!.. В самых добрых чувствах черпнул ладонью ягод из туеска и протянул Николаусу.
Взяв ягоды, Николаус спросил:
– Как твоё имя?
Но Удо, подъехавший сзади, разобиженный и мрачный, не дал ответить, посмеялся зло:
– Брось, у него нет имени. Это же зверь, – он подъехал к крестьянину и, покосившись на его палку, слегка выдвинул меч из ножен. – У тебя есть имя?
Парень с потемневшим от обиды лицом склонил голову:
– Нет, господин. Откуда имя у зверя в лесу?
Опять засмеялся Удо:
– Вот видишь, Николаус! Я был прав. Откуда имя у зверя в лесу?.. Я бы выдубил его подлую шкуру, да неохота время терять, – и он пришпорил коня.
Николаус тоже уже отъехал, набивая рот ягодами, – крупными, прохладными, сладкими.
– Яан моё имя, – тихо произнёс крестьянин Николаусу в спину.
Добрый Николаус, обернувшись, кивнул и... якобы обронил монетку.
Между тем Удо всё не мог уняться, ворчал:
– Презренные вилланы! В лачугах своих по-чёрному топят, и вечно у них рожи в саже – не узнать, мой крестьянин или не мой. В ригах на снопах спят, не знают постелей; ударь крестьянина палкой, выбьешь из него пыль и спорынью, уродливое зерно, – он с досадой оглядывался на Николауса. – Ты говоришь, что надо спешить, а сам останавливаешься для разговора с чернью.
Николаусу ещё не раз в эту поездку представилась возможность убедиться в том, что у старинного друга его, у молодого барона Удо Аттендорна, предерзкий и довольно вредный нрав. То Удо часами мрачно молчал, и как бы Николаус ни старался, слова из него вытянуть не мог, и тогда Николаус дружески его поддевал: «Ты всё молчишь и молчишь, как будто проглотил белку!»... А то вдруг начинал говорить Удо, и было его не остановить; повествовал о своих любовных похождениях и пускался в такие подробности, о каких Николаус, человек чести, молодой мужчина, уважающий женщин, слышать не хотел; или восторгался Удо открывавшимися с дороги видами и в чьё-то поле спелой ржи или овса въезжал, сминая колосья, – въезжал, чтобы с нового места полюбоваться великолепным видом; или было целый час Удо ругался оттого, что где-то нацеплял себе на колени репьёв, и чертыхался, чертыхался (Николаус же, слушая его, тихо, смиренно крестился; очень не любил Николаус поминаний дьявола, и Удо о том знал). То рвался Удо набить морду тавернщику, какой, показалось ему, завысил плату; то пытался пинками изгнать из таверны волынщика, который будто играл плохо, который будто был пьян и оттого фальшивил и игрой своей навевал чёрную тоску; то кричал Удо, чтоб пересадили подальше от него крестьян, пьющих Õlu или vein[64]64
Õlu — пиво; vein — вино (эст.).
[Закрыть], крестьян, от которых дурно пахло и которые не имели никакого права сидеть на одной лавке с благородным господином. А то у другого тавернщика заприметил пышнотелую дочку и увязался за ней в погреб с вином – намеревался там её на бочатах завалить, юбки пересчитать, и завалил уж, и считал юбки, сбиваясь спьяну со счёта, – девица брыкалась, а он всё считал и считал, – да вмешались работники, коим хозяин велел глаз держать востро... дело кончилось бы серьёзной потасовкой, в которой молодому барону Аттендорну оч-чень не поздоровилось бы, да вовремя вступился за него добрый Николаус – талер по столешнице пустил, и от звука катящейся монеты, будто по волшебству, стих скандал. Было ввязался Удо, неисправимый забияка; и в очень опасную ссору: вблизи Хельмета в одной из деревень, что они проезжали, почудилось Удо, будто молодой кубьяс взглянул на него косо, и, не сходя с коня, он этому кубьясу плетью в кровь располосовал всё лицо; и что на него опять нашло! повёл себя так неразумно... немец-помещик вступился за своего кубьяса, схватился за меч; при этом крестьяне, обозлённые дерзостью незнакомца, живо взялись за дубье; и завершилось бы дело для нашего задиры совсем худо, кабы не очередное вмешательство Николауса, вовремя вставшего между обозлённым помещиком и своенравным, мнительным Удо.
Во всех этих случаях Удо был, как говорили древние, «в себе и для себя». Его, себялюбца, нимало не заботили ни те люди, которых он унижал и оскорблял или имуществу которых причинял ущерб, ни мнение Николауса, который из непростых положений его всякий раз вытаскивал, ни даже цель путешествия, на которую отец его, далеко известный и уважаемый барон Аттендорн, возлагал большие надежды. Только себя и своё Удо видел во всех зеркалах и только собственное благо, удовольствие или забаву – во всех окнах. И не пропускал Удо ни одной корчмы, в каждой изрядно набирался вином или пивом; а ежели не было ни того, ни другого, не гнушался и крестьянской хлебной водки, и дешёвой бражки черни. Пьяного Удо очень трудно было посадить на коня, посему приходилось ожидать, пока он не проспится. Николаус даже не мог отвязаться от мысли, что Удо, разобидевшись на него, на Николауса, за давешний случай у ручья, намеренно делал всё, чтобы задержать путешествие и чтобы путешествие проходило так, как того желает он, Удо, а не как то необходимо Николаусу или старому комтуру Радбурга. Пьяный или трезвый, Удо всегда и всё хотел делать по-своему – как правило, не лучшим образом. Поэтому со всеми проволочками не очень длинный путь до Феллина занял у них три дня.
Раздумывая о чём-то своём, напевал себе тихонько Удо:
– На липе три листочка
Зазеленели. Ох, не зря!
Запрыгала от счастья
Голубушка моя,
И вместе с ней запрыгал я.
Но невозможно обижаться вечно. На третий день пути, когда уже проехали Тарваст, после обеда в какой-то придорожной корчме, во время которого Удо не отказал себе в очередной с утра кружке пива, настроение его наконец поправилось, и он опять, погоняя хлыстиком коня, пустился в бесконечные разглагольствования о женщинах. Разглагольствования сии, как скоро сообразил Николаус, имели целью убедить его, что все женщины, какими бы сложными они ни казались, какими бы умными и опытными ни были, до примитивности просты и хотят одного – лучшего мужчину. И хозяйки, и служанки, и госпожи, и рабыни, и девицы, ещё пахнущие молоком, и солидные матроны, стоящие во главе семейств и выпестовывающие целые выводки детей, и даже старухи, какие, уронив пфенниг на землю, раздумывают, нагибаться ли за ним и страдать ли от боли в спине или оставить, где уронили... мечтают о мужчине, с мыслью о нём засыпают и с мыслью о нём просыпаются – с мыслью о кавалере, о женихе, муже, любовнике. А ежели у них есть уже кавалер и жених, муж и любовник, они думают о лучшем кавалере, о лучшем женихе, о лучших муже и любовнике... Эту тонкую мысль женолюб и тонкий дамский искуситель Удо подтверждал рассказом о своей прошлогодней поездке к брату Андреасу в Ригу:
– Скажу тебе по секрету, мой добрый Николаус, я положил глаз на жену Андреаса.
При этих словах Удо бросил на друга многозначительный взгляд.
Николаус никак не ответил ему – ни словом, ни жестом. Он даже как будто не был удивлён прозвучавшему откровению, ибо, похоже, другого от Удо и не ждал.
Удо продолжал:
– Её зовут Лаура. Андреас привёз её из Рима несколько лет назад, когда по делам рижского епископства ездил к Папе. Она весьма недурна. У неё тонкий красивый профиль и чёрные – жгучие – глаза. Мы с тобой как-нибудь наведаемся в Ригу, Николаус, и ты сам увидишь, как Лаура хороша... Так вот, пока я приглядывался к ней, она тоже не упускала меня из виду. Наверное, сравнивала. И к тому времени, как я положил глаз на неё, оказалось, что и сам я ей уже не был безразличен.
Говоря всё это, Удо так увлёкся, что сильнее прежнего стал подхлёстывать своего коня и не заметил, что несколько вырвался вперёд, и потому, соответственно, не увидел, как недоверчиво, с лёгкой улыбкой покачал головой друг его Николаус.
Всё помахивая хлыстиком, продолжал Удо:
– Я об этом на обратном пути даже сложил стихи. На мой взгляд, неплохие получились стихи. Вот послушай...
И он прочитал размеренно и с чувством:
– Он красив, посмотри!
Он весел и силён.
«О Господи! – говорят. —
Каков он!»
Но ночью ты, лукавая,
Оставляешь его
И ласкаешь меня.
Он танцует для тебя
И поёт о тебе,
И все дамы с надеждой
Глядят на него.
Но ночью ты, лукавая,
Оставляешь его
И целуешь меня.
Он красив, посмотри!
«Божествен!» – говоришь.
И дольше всех, до ночи
На него глядишь.
А ночью же, лукавая,
Оставляешь его
И целуешь меня.
Он так любит тебя,
Он так предан тебе,
Что, не думая, пойдёт за тобой,
Разувшись, по угольям.
Ты же, милая, тайком
Оставляешь его
И целуешь меня, лукавого...
Николаус, только что настроенный недоверчиво и даже, быть может, чуточку насмешливо, взглянул на Удо не без удивления. Стихи действительно были хороши.
Глава 34
Сегодня сильный, завтра в гробу
 том что Феллин, довольно крупный город, уже близко, Николаус понял по оживлению на дороге. Двигались к Феллину тяжелогружёные купеческие обозы, летали туда-сюда вестовые всадники, брели богомольцы, нёс свои товары мелкий торговый люд, шли за лучшим заработком всевозможные мастера с подмастерьями, наёмники шли наниматься на службу, шли странствующие учёные-лекари и цирюльники-хирурги, местные крестьяне за покупками шли, ехали в кибитках бродячие актёры и акробаты, астрологи, гадатели и с ними мошенники всех мастей... Временами народу, повозок и фур на дороге скапливалось так много, что Николаусу и Удо приходилось съезжать на обочину.
том что Феллин, довольно крупный город, уже близко, Николаус понял по оживлению на дороге. Двигались к Феллину тяжелогружёные купеческие обозы, летали туда-сюда вестовые всадники, брели богомольцы, нёс свои товары мелкий торговый люд, шли за лучшим заработком всевозможные мастера с подмастерьями, наёмники шли наниматься на службу, шли странствующие учёные-лекари и цирюльники-хирурги, местные крестьяне за покупками шли, ехали в кибитках бродячие актёры и акробаты, астрологи, гадатели и с ними мошенники всех мастей... Временами народу, повозок и фур на дороге скапливалось так много, что Николаусу и Удо приходилось съезжать на обочину.
Николаус всё посматривал вперёд – скоро ли Феллин? Удо равнодушно смотрел на пеших людей, расступающихся перед ним, и напевал себе вполголоса простенькую песенку, похоже, любимую, ибо Николаус уже не раз слышал от него этот мотивчик:
– О, розовые губки у девочки моей,
А очи её ярких звёзд светлей,
И косы золотые,
И стройный стан у ней, —
Клянусь, нет девушки милей.
Когда до Феллина, по словам Удо, оставалось мили три, им встретился довольно большой отряд рыцарей с оруженосцами. Около полусотни человек. Едва завидя быстро продвигающийся отряд, обозные и прочий люд освобождали дорогу, ибо рыцари с зазевавшимися не церемонились. Иногда кто-то из рыцарей кричал: «Посторонись! Прочь с дороги! Прочь!..» И гнали лошадей вскачь, не заботясь о тех, кого, как ветер, сметали со своего пути. В стальных кольчугах и латах, в белых орденских плащах с ярким чёрным крестом на левом плече, иные – в шлемах. У рыцаря, мчавшегося в голове колонны, трепетал красный флажок на длинном древке. Ронял попу с удил белый конь. За рыцарями поспевали оруженосцы, нагруженные аркебузами, щитами и копьями. «Прочь с дороги! Прочь! – кричали и молодецки свистели. – Посторонись!..»
Удо и Николаус принуждены были, как и все, подать к краю дороги.
Отряд пролетал мимо. Стучали копыта, сотрясалась земля; всхрапывали горячие лошади.
Один из рыцарей приостановился возле Удо и Николауса. Конь его – великан – так и танцевал под ним, косил в сторону удаляющегося отряда дикий глаз. Рыцарь с чёрными усами и длинной бородой, подвязанной алой ленточкой, заметил с вежливостью, что Удо и Николаус по виду люди благородные. И спросил, кто они и откуда едут и не слышали ли благородные путники что-нибудь об «охотниках». Он сказал, что уже и здесь, под самым Феллином, стали объявляться дерзкие «охотники» и, несмотря на близость силы ливонской, в виду феллинских башен грабить честных людей. Но прошёл слух, будто и до Ревеля «охотники» отваживаются доходить; и не только обирают они честных людей, но и записи ведут – где у ливонцев войска стоят и сколько, считают рыцарей и пушки; а потом записи эти передают русским.
Удо ответил с достоинством, что он молодой барон из Радбурга и везёт послание господину Фюрстенбергу. Он сказал также, что во всё время пути слыхом не слыхивал ни о каких «охотниках», но если бы, заверил, встретил их где-нибудь, то тем бы не поздоровилось.
– А этот молодой господин? – сурово и проницательно взглянул рыцарь на Николауса.
– Это Николаус Смаллан – мой гость.
Отряд тем временем остановился на повороте дороги. Ожидали этого бородатого рыцаря, который, как видно, был облечён в орденском войске немалой властью.
Рыцарь улыбнулся краешками губ; держался он скорее надменно, чем снисходительно и благожелательно:
– У него хороший меч. А господин Смаллан умеет им владеть?
Николаус так и вспыхнул:
– Хотите меня испытать?..
Надо сказать, что Удо не ожидал от друга – всегда спокойного и рассудительного – этой внезапной горячности, этой почти что дерзости в словах, во взгляде. Смотрел на Николауса, удивлённо вскинув брови. Потом вставил с уважительным полупоклоном:
– Не сомневайтесь, господин. Мой гость хоть и сын купеческий, но сумеет постоять за себя, поскольку я дал ему недавно пару уроков.
Рыцарь улыбнулся теплее:
– У этого купчика сильные глаза воина, я заметил... Что ж! Будьте осторожнее, господа. Ныне немало мерзавцев можно повстречать на наших дорогах. Мы только что поймали троих.
И он послал коня вслед за своими.
Когда рыцарь чуть отъехал и не мог уже слышать их, Удо взялся выговаривать:
– Что на тебя нашло? Ты же надерзил ему.
– Нисколько, – отвернулся с досадой Николаус. – А вот он держался высокомерно. Хотя его конь ни на дюйм не выше моего и меч не длиннее.
Рыцари всё удалялись. Трепетал на древке флажок, взметались во встречном ветре полы белых плащей.
Удо восторженным взглядом провожал отряд:
– Вот сила! Вот мощь!.. – восклицал он. – Такую мощь возможно ли победить? Ах, Николаус, нам бы этих рыцарей в Радбург!
Продолжили путь. Проехали лесок, выехали в поле. А над следующим лесом уже увидели гордо возвышающиеся сторожевые башни Феллина, шпили церквей.
Путники, двигавшиеся впереди и радовавшиеся тому, что путь близится к завершению, вдруг притихли.
Спустя минуту Удо и Николаус поняли причину перемены в их настроении. Троих повешенных они увидели при дороге, на опушке этого последнего леса, в ветвях высоких старых сосен. С серыми холщовыми колпаками на головах, в ветхой одежде, босых.
Светило солнце, пели птицы. В Феллине, слышно было, ударял колокол.
– «Охотники»... Это «охотники»... – говорили друг другу путники.
Какой-то человек, по виду лекарь – в чёрном платье и в шапочке-менторке, выбритый, – тронул одного из повешенных за ногу:
– Тёплый ещё.
– «Охотники»... – шептались у Николауса и Удо за спиной.
Но очень уж эти «охотники» были похожи на местных крестьян.
Оглядываясь на тёмный лес, Удо шепнул Николаусу:
– Наши мечи, я думаю, лучше держать в готовности – на коленях. Вилланы могут напасть из-за любого куста: эти трое так и взывают к отмщению.