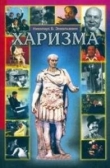Текст книги "Ливонское зерцало"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Глава 50
Тайное становится явным,
но мир от того не светлеет
 сё оставалось в замке почти по-прежнему, стычка с колдунами и ведьмами, а также с демонами не имела для Николауса никаких последствий.
сё оставалось в замке почти по-прежнему, стычка с колдунами и ведьмами, а также с демонами не имела для Николауса никаких последствий.
Временами барон удостаивал Николауса содержательной, мудрой беседой; что-нибудь рассказывал из своего прошлого и на этом примере одарял нравоучением. Удо, бросивший пить и кутить, пропадал в окрестностях замка, гулял один, был тих и задумчив, немногословен, частенько заглядывал в книжки древних римских поэтов и даже иные, снабжённые многими закладками, повсюду носил с собой, и Николаус предполагал, что молодой барон обратил внимание на дар свой и занялся сочинительством стихов. Мартина, как и раньше, была в услужении у двух дам – у Ангелики и Фелиции. Пуглива и безмолвна, она большей частью пряталась где-нибудь, пока её не звали и что-нибудь ей не велели. Николауса она избегала, а при случайных встречах с ним приходила в смущение и опускала глаза. Отчего было это смущение? Возможно оттого, что он, Николаус, видел насилие над ней. И пусть именно он не дал этому насилию до конца свершиться, но он был как раз тот человек, Мартиной уважаемый и ей приятный, от которого она жестокое насилие над собой хотела бы в первую очередь скрыть. Рыцарь Хагелькен не расставался с лирой и то, что он играл, – на заре или в сумерках, когда был свободен от несения службы, – было прекрасно; этого никто прежде не слышал, это была истинно его музыка, это было звучание его тонкой души и это была его молитва. Марквард Юнкер, вечно подозрительный и мрачный, с головой ушёл в дела; очень неспокойно стало в ливонском краю, нечто тяжёлое словно повисло в воздухе, как бывает перед сильной грозой, и это чувствовалось многими, и Юнкер это чувствовал, наверное, острее всех. Дни напролёт он занимался укреплением замка: где-то приказывал углубить ров, где-то – укрепить каменную кладку, где-то перебрать и смазать подъёмные механизмы, заменить проржавевшие обручи на лафетах, вырубить кустарник, разросшийся под стенами Радбурга, и прочее. Николаус же всё больше времени проводил с милой сердцу Ангеликой и с приятным удивлением и даже с неким трепетом ловил себя на том, что на весь свет и на будущее своё он уже глядит не иначе как через имя любимой, через нежный и светлый образ её.
Фелиция... С Фелицией Николаусу доводилось встречаться редко – только на поздних обедах и ужинах за общим столом, да и то лишь тогда, когда баронесса спускалась в зал, а не принимала пищу у себя. Целыми днями госпожа Фелиция оставалась в постели. Приступы недуга будто по-прежнему мучили её ночами и будто бы совершенно её изматывали. И ничто – ни молитвы, ни назначения учёного лекаря Лейдемана – не помогало. При редких встречах с Николаусом баронесса вела себя как ни в чём не бывало – сдержанно-учтиво, иногда – нарочито холодно, поворачивалась правым боком. И, по обыкновению своему, недолго оставалась в его обществе, спешила за какой-нибудь надобностью удалиться.
И только однажды, проходя мимо него, Фелиция Аттендорн шепнула ему (раскрылся на мгновение красивый, но ядовитый, увядающий цветок)... или это показалось?.. быть может, прошелестело шёлковое платье или тихонько простучали друг о дружку нити жемчугов, украшающие её запястья...
«Хорошо повеселился, Волчок?..»
Прозвучало это так тихо, так неясно, что Николаус, озадаченный, сбитый с толку, долго не мог ответить себе на вопрос: да звучало ли это вообще?
Что до недуга её, то, считал Николаус, – не было никакого недуга, и напрасно тревожился за сестру барон Аттендорн, и напрасно не давал он покоя учёному Лейдеману. Николаус хоть и не видел баронессу Фелицию во время её припадков, которые всех так огорчали и даже пугали, но зато он хорошо разглядел её в ту памятную, ненастную ночь в образе Матушки сатанистов. Да и после этого наблюдал её разок... Приходил было в Радбург священник и читал в замковой церкви проповедь. И заключил свою проповедь знаменательными словами: «Господь будет любить вас по мере вашей любви, а обойдётся с вами по мере содеянного вашими руками зла, по мере живущего у вас в сердце порока». Когда священник произносил это, Николаус оглянулся на Фелицию. Она его движение заметила и быстро отвернула лицо, однако лукавую улыбку он успел разглядеть у неё на устах... Николаус уверен был: за рассудок госпожи Фелиции не стоило беспокоиться. Всё у неё – сплошные притворство и игра!
Когда Николаус расставался с Ангеликой, ему не с кем было перекинуться досужим словцом. Никто не сообщал ему последних новостей, никто не посвящал его в хитросплетения домыслов, загадок и готовых на выбор отгадок, то есть не обсказывал во всех подробностях замковые сплетни, никто более не вздыхал, не чесался и не бормотал у него под дверью, никто не докучал услужливостью в расчёте на подачку в виде пфеннига, потёртого и гнутого, знававшего лучшие времена... ибо куда-то подевался добрый малый Хинрик. Николаус спрашивал у прислуги про Хинрика, но те только разводили руками. Спрашивал Николаус и у барона Ульриха: может, Хинрика с каким-то поручением куда-либо послали?.. Но и барон не мог ответить ничего определённого. Да его, сказать по правде, и мало заботила судьба какого-то Хинрика, слуги-эстонца; таких Хинриков у него в комтурии были тысячи, по грошу за рыло; все они из года в год, в землю тупо глядя, спины гнули на полях и огородах, на стройках, на лесопилках, в винодельнях и в сыродельнях, причём только и мечтали они что занять место пропавшего бедолаги и, распрямившись, белый свет увидев, прислуживать в чистых покоях в Радбурге и на прошлое своё – чёрное, безотрадное – поплёвывать с высокой замковой стены.
Старый слуга, который теперь приносил Николаусу воду для умывания и завтрак (он, свидетель Потопа, был очень стар; Николаус даже испытывал неловкость от того, что столь старый человек прислуживает ему), тоже не знал, почему исчез Хинрик. И он не был таким разговорчивым – мы с трудом избегаем слова «болтливым», – как Хинрик. Но это был человек с весьма ясным умом, рассудительный и с хорошей памятью. Скуки ради Николаус заговаривал с ним о том о сём. Ответы получал короткие, исчерпывающие. И не более. Всякий раз натыкался на бесстрастное лицо, на спокойный, отстранённый взгляд. А однажды догадался пивом угостить слугу и так нашёл его слабое место. Расслабился слуга, разговорился. И благодаря твёрдой памяти этого преклонных лет человека, служившего у Аттендорнов не один десяток лет, стала известна Николаусу старая история о младенце Отике.
Изумился Николаус, узнав, что Отто, о котором все говорили как о младшем брате Удо и Ангелики, на самом деле приходился им кузеном, поскольку был... сыном Фелиции. Отец же малыша Отто, Отика – не кто иной, как рыцарь Марквард Юнкер.
Очень давние и тайные любовные отношения связывали Юнкера с сестрой барона Аттендорна, комтура. Молодая баронесса Фелиция, зачав малыша, весьма долго скрывала беременность. Это ей легко удавалось, заметил старый слуга, так как в те годы ещё не вошли в моду стягивающие фигуру корсеты из китового уса, и все благородные дамы носили под платьем (вы, конечно, этого не можете знать, господин Николаус, ибо были в те поры совсем юны) шнурованные лифы с подкладкой из ваты. Однако, помимо располневшего живота, есть и другие приметы, выдающие это прекрасное состояние женщины – когда она готовится стать матерью. Несколько подурнела наша баронесса Фелиция, начали её мучить рвоты по утрам.
По сказанным приметам жена барона Ульриха Эльфрида и догадалась о беременности Фелиции; кое-какие сомнения её развеяла и прислуга, знающая обычно о своих господах много больше, чем того хотели бы сами господа. И рассказала Эльфрида супругу своему, что очень скоро он станет дядей. Известие это повергло барона в состояние сильнейшего потрясения. Никак не ожидал Ульрих фон Аттендорн, что благородная сестра его способна на такое: зачать вне брака. Первое, что придумал барон, – поскорее изгнать сей плод и таким образом оградить сестру от позора. Но было поздно плод изгонять, поскольку пришло уже время думать о пелёнках и присматривать кормилицу.
Чтобы скрыть грех внебрачного зачатия – к тому же от рыцаря-монаха, нарушившего обет, – Фелицию с самой верной прислугой отправили в глухой лес, в охотничий домик, где она и доносила дитя, и родила его. Отдавать ребёнка в чужие руки Фелиция наотрез отказалась. Тогда придумал Ульрих Аттендорн выдать малыша Отика за сына своего и Эльфриды. Фелиция и против этого была, хотела сама воспитывать ребёнка. Ульрих и Эльфрида отказали ей в этом, полагая, что чувств своих материнских она сдержать не сумеет, явит во всей силе любовь к младенцу, и позор её тогда вполне может открыться. А ей ведь ещё следовало как-то устраивать свою судьбу; женихи, искавшие её руку и сердце, являлись в Радбург один за другим, иногда – по двое и по трое; даже из далёких германских городов, с Рейна и Майна присылали посольства с дарами и предложениями.
Поступили так, как решил барон: малыш Отик и кормилица его, молодая чистоплотная эстонская крестьянка, содержались в покоях Эльфриды. Фелицию допускали к ребёнку, но очень редко и непременно в присутствии самого барона или жены его.
По мере того, как Фелиция познавала своего малыша, в ней росли и крепли ревность и ненависть к Эльфриде. Проницательный барон видел это и боялся крупной ссоры. Он знал характер своей сестры, которая в ярости могла быть необузданной и забывала себя. Всякими способами он старался гасить в сестре и любовь её к Отику, и ненависть к его супруге. Но до столкновения между высокородными дамами, дорогими сердцу барона Аттендорна, дело не дошло, так как жена его Эльфрида вдруг скоропостижно умерла. У бедняжки были судороги, помрачение рассудка и красный – кровавый – рот. Позже злые языки болтали, что в безвременной смерти Эльфриды следует винить Фелицию; говаривали, что Фелиция в накале ненависти и обиды будто повредилась умом и пыталась извести Эльфриду: сначала – с помощью колдовства, но когда колдовством справиться с ней не получилось, Фелиция прибегла к яду – отравила жену Ульриха ртутью. До барона эти слухи, конечно, дошли, однако он предпочитал не верить им и наказывал тех, кто их распространял.
Младенец Отто долго не прожил. Те, кто верил слухам об отравлении Эльфриды, были уверены: Господь, забрав к себе малыша, так наказал Фелицию за отравление Эльфриды... Но у старика-слуги, нового друга Николауса, было своё мнение на сей счёт. Старик хорошо знал ту повитуху, которая принимала роды у Фелиции. И говорил, что она и сейчас весьма опасная ведьма, и в те поры уже известной ведьмой была. Умер же ребёнок оттого, что ведьма посвятила его дьяволу. С согласия роженицы или нет – то уж сказать трудно, хотя известно определённо, что Фелиция и сама с юных лет была склонна к колдовству. Как тут не допустить, что роженица с повитухой поладили?.. Не стерпел Господь, прибрал ребёнка – не иначе, провидел его чёрную судьбу.
Эта история наводила на размышления. Домыслы – домыслами, но Николаус наш за прошедшее лето очень неплохо узнал баронессу Фелицию. Баронесса легко вписывалась в тот образ, что нарисовал за щедрым угощением многопамятливый старый слуга.
...Быстро разнеслась по замку новость: привезли Хинрика. Мёртвого. Николаус услышал об этом через окно: работники выкашивали под стенами траву, бросили косы и в возбуждении громко переговаривались. Николаус, проводивший это время за чтением, отложил книгу на постель. Он пребывал в полнейшем недоумении: кому мог помешать такой безобидный человек, как Хинрик, угодливый слуга, простак, считавший себя хитрецом?
Захотелось пойти и взглянуть на доброго малого Хинрика.
Проходя по галерее, Николаус выглянул в окно. Во двор как раз въезжала фура с телом слуги...
На лестнице Николаус нагнал барона и Ангелику; во дворе уже стояли Удо, рыцари Юнкер и Хагелькен. Чуть в стороне держались слуги и кухарки, с ними Мартина. Подходили кнехты.
Фуру остановили у самого крыльца. Марквард Юнкер отбросил дерюгу, прикрывавшую тело.
Ужасно было открывшееся зрелище. Многие из тех, что духом послабее, отшатнулись от фуры. Какая-то девушка из прислуги вскрикнула и лишилась чувств. Николаус здесь подумал об Ангелике, оглянулся на неё. Но Ангелика, хоть и была бледна, вела себя мужественно. Отец поддерживал её за локоть.
Откинутая Юнкером дерюга сползла с фуры. Полчища мух, гнусно жужжа, поднялись с тела и закружили над толпой. И сразу послышался... расползся по дворику тяжкий дух тлена. Тело бедного Хинрика столь сильно вздулось, что не выдержали, оборвались завязки на рубашке и расползались по швам штаны. Лицо было сильно попорчено, и узнать Хинрика по лицу не представлялось возможным.
Возничий, что привёз тело, сказал, что нашли Хинрика в лесу, а лицо Хинрику попортили звери.
У Хинрика были обгрызены нос, подбородок и часть щеки. Через дырку в щеке белели зубы.
Все узнавали Хинрика по одежде.
На животе рубашка пропиталась кровью. На задубевшей от крови ткани хорошо видна была узенькая дырка – явно от клинка.
– Убили его ударом в живот, – уверенно сказал Юнкер.
Тут случился и учёный лекарь Лейдеман. Он подошёл к телу Хинрика со своей, лекарской, линейкой и, отвернув ткань рубашки, сунул линейку в рану – столь глубоко, сколь глубоко она в рану входила. Все поразились, когда увидели, что линейка Лейдемана вышла из тела Хинрика сзади, вблизи позвоночника.
Лейдеман покачал головой:
– Не иначе, цвайхендером убили Хинрика, – он замерил линейкой длину раны на животе и кивнул, подтверждая сказанное только что. – Да, цвайхендером, полагаю.
Один из кнехтов достал из-под плаща меч:
– Не этим ли цвайхендером, господин лекарь?
Николаус сразу узнал меч, которым на давешнем шабаше распугивал колдунов и ведьм.
Лейдеман сделал замер клинка.
– Возможно. Откуда он у вас?
– Нашли в кустах недалеко от деревни. Меч был в крови. Теперь понятно – в чьей.
Николаус был озадачен. Он не помнил, чтобы кого-нибудь в ту ночь ударял мечом... кроме Бафомета. Но Бафомет – механизм. Это было очевидно. Разве что... Мысль о том, что внутри Бафомета мог сидеть Хинрик, обожгла Николауса. Конечно, конечно, Бафометом должен был кто-то управлять. Но только не Хинрик!.. Не похоже было на Хинрика, чтобы он направлял Бафомета против Мартины. И Николаус отогнал эту мысль.
Барон Аттендорн взял у кнехта меч, рассмотрел:
– И что вы думаете об этом убийстве?
Тут ещё двое кнехтов были. Они предположили:
– Думаем, что кто-то из деревенских заколол Хинрика.
– Почему же сразу из деревенских? – усомнился барон.
– Потому что опытный воин нашёл бы более верное место для удара мечом. Например, вот сюда ударил бы, – и они указали на область сердца. – Или сюда, – они ткнули какой-то тросточкой Хинрику в область шеи. – Точно направленный удар вызывает мгновенную смерть. А с этим ударом... Бедный Хинрик, должно быть, ещё несколько часов страдал, кричал, мог позвать на помощь и выдать убийцу.
Кто-то из прислуги тяжело вздохнул:
– За что наказал Господь хорошего человека?..
– Что ж! Говорите вы разумно, – согласился Аттендорн с мнением кнехтов. – И что, по-вашему, было дальше?
Кнехты заговорили увереннее:
– Думаем, что убийца подстерёг нашего Хинрика на дороге. Ударил, ограбил. Потащил тело в лес, а цвайхендер обронил в кустах... Вот так мы считаем, господин: кто-то из подлых вилланов убил Хинрика; не любят вилланы господ своих, уж простите великодушно, комтур, и тех не любят, кто им служит, – может, ещё более не любят, чем самих господ.
Поразмыслив над услышанным, барон не нашёлся, как возразить. Обернулся к лекарю:
– А что вы по этому поводу скажете, уважаемый?
Лейдеман развёл руками и промолчал. Взялся какой-то тряпицей оттирать линейку от крови.
Барон велел прикрыть тело Хинрика, потом, обращаясь к рыцарям и кнехтам, заметил:
– Вот видите, как опасно позволять крестьянам иметь мечи!..
Глава 51
В девичьей светлице и стены служат любви,
и холодный очаг согреет
 идя на крепостной стене и любуясь закатом, спорили рыцарь Хагелькен и Николаус о том, стал ли бы древний Карфаген для земной вселенной тем, что есть для неё ныне Рим, или не стал бы, одолей Ганнибал римлян во второй Пунической войне. Рыцарь Хагелькен утверждал, что никогда не стал бы Карфаген тем, что есть для мира Рим, ибо к тому не располагало положение его на южном берегу Средиземного моря, существенно отдалённое от оживлённых путей Европы. Николаус же со всей убеждённостью отстаивал мнение, что именно благодаря удачному положению города на южном берегу Средиземного моря, связующем Запад и Восток, не имеющем значительных преград в виде гор и многочисленных рек, и при сильном флоте вполне мог бы стать Карфаген центром небывалой по мощности и обширности земель державы – поистине мировой. Хагелькен в запале спора даже лиру свою, с коей не расставался никогда, свет души, выпускал из рук и говорил: ведь не стал же, не стал же Карфаген тем, чего так желал бы, кажется, Николаус, ибо того не позволил древнему Карфагену сам ход истории. А Николаус замечал, что какая-нибудь сущая мелочь (не полёт летучей мыши и не кашель собаки, конечно, хотя и такого исключить нельзя, но колики в животе у хитроумного Ганнибала, например, или головная боль одного из его военачальников) в конце второй Пунической войны повлияла на ход истории, и вовсе не сам умозрительный ход истории, который столь возвеличивает уважаемый господин Герман Хагелькен...
идя на крепостной стене и любуясь закатом, спорили рыцарь Хагелькен и Николаус о том, стал ли бы древний Карфаген для земной вселенной тем, что есть для неё ныне Рим, или не стал бы, одолей Ганнибал римлян во второй Пунической войне. Рыцарь Хагелькен утверждал, что никогда не стал бы Карфаген тем, что есть для мира Рим, ибо к тому не располагало положение его на южном берегу Средиземного моря, существенно отдалённое от оживлённых путей Европы. Николаус же со всей убеждённостью отстаивал мнение, что именно благодаря удачному положению города на южном берегу Средиземного моря, связующем Запад и Восток, не имеющем значительных преград в виде гор и многочисленных рек, и при сильном флоте вполне мог бы стать Карфаген центром небывалой по мощности и обширности земель державы – поистине мировой. Хагелькен в запале спора даже лиру свою, с коей не расставался никогда, свет души, выпускал из рук и говорил: ведь не стал же, не стал же Карфаген тем, чего так желал бы, кажется, Николаус, ибо того не позволил древнему Карфагену сам ход истории. А Николаус замечал, что какая-нибудь сущая мелочь (не полёт летучей мыши и не кашель собаки, конечно, хотя и такого исключить нельзя, но колики в животе у хитроумного Ганнибала, например, или головная боль одного из его военачальников) в конце второй Пунической войны повлияла на ход истории, и вовсе не сам умозрительный ход истории, который столь возвеличивает уважаемый господин Герман Хагелькен...
Нам никогда не узнать, за кем из двоих спорщиков стал бы верх в этом споре, напоминающем «учёные» диспуты школяров (в споре сколь жарком, столь и бесплодном, поскольку, во-первых, он был неразрешим, а во-вторых, в итоге он никому ничего не давал, разве что предоставлял возможность показать спорщикам ум, продемонстрировать способность приводить убедительные доводы), потому что легко взбежала по ступенькам на стену Мартина и просила Николауса отойти с ней в сторонку на пару слов.
Николаус последовал за служанкой, и Мартина передала ему то, что велела госпожа Ангелика.
Не все у нас закрыты двери,
Не все печалят нас потери.
И знает каждый мотылёк,
Где он отыщет свой цветок...
К этому Мартина от себя добавила, что для ночного мотылька пришло самое время, так как солнце – взгляните, мой добрый господин! – уже село, и те, кому нет дела до науки сердечной, уж взбивают подушки и гасят свечи, и у тех, кто давно позабыл любовные услады, у тех, для кого любовь уже с полвека как только болячка, слипаются глаза; и пусть говорят, что лес с ушами, а поле с глазами, но мы скажем в ответ, что лес с ушами далеко, а поле с глазами уже совсем темно; и два любящих сердца ничто не потревожит – быть может, лишь птица, рассекающая крыльями воздух в ночной час.
Рыцарю Хагелькену не нужно было слышать сказанное Мартиной, чтобы понять, зачем она к Николаусу прибежала. Он догадался уже, каким ветром служанку на высокую стену занесло, хотя не стоял в лесу с ушами и не лежал в поле с глазами. Он взялся за лиру, достал из-за пояса смычок. Высокоучёный диспут о месте Карфагена в лучах сияющего Рима и в самой истории был, кажется, закончен.
Попрощавшись с добрым другом, Николаус оглянулся на Мартину. Служанка стучала каблучками уже далеко. Впрочем не было нужды следовать ему за ней. Он и сам как будто хорошо знал дорогу на женскую половину.
В покоях, где его ждали, дверь и не думали запирать. И дверь даже не скрипнула, когда он её отворял.
Его объяла полная темнота. Наверное, и ставни были закрыты, ибо даже свет звёзд не проникал в спаленку Ангелики. Николаус знал, что где-то в этой темноте Ангелика ждёт его, он слышал её запах и чуял её присутствие сердцем. Сделав несколько шагов, он остановился где-то посередине комнаты:
– Ангелика... – позвал тихо.
Вот она прошла совсем рядом в кромешной тьме; Николаус понял это по едва уловимому движению воздуха.
– Я давно жду тебя... – ласково прошелестел воздух.
Они как будто продолжали играть в Blindekuh. Совсем не слышно ступала Ангелика босыми ножками.
Он улыбнулся.
– Вот я пришёл.
Воздух ласково прошелестел с другой стороны:
– Я так давно жду тебя...
Николаус успел взять её за руку.
– Ангелика... Я поймал тебя.
Он притянул Ангелику к себе и обнял. Кроме ночной рубашки тончайшего шёлка, на ней ничего не было.
Девушка целовала ему лицо: глаза, лоб, щёки.
– Я не могла дождаться, когда же кончится этот долгий день... Я не могла дождаться, когда же скроется за лесом солнце...
– Милая Ангелика, весь день, все дни я думаю о тебе.
Как хороши – как свежи и нежны – были её девичьи губы.
– Я смотрела в окно. И не могла дождаться, когда же добрый Хагелькен скажет тебе всё, что хочет сказать.
– Слушая доброго Хагелькена, я думал о тебе. Ни о ком и ни о чём другом я не могу теперь думать.
Какое чистое было у неё дыхание.
– Но он всё говорил и говорил, и ты говорил. Вы спорили о чём-то...
Николаус признался:
– Только твой образ стоял перед внутренним взором моим.
– Я не могла дождаться, когда же он вспомнит о своей лире и оставит ваш разговор.
– О Ангелика! Что же ты со мной делаешь!.. Я бы давно уже уехал. К себе... в Полоцк. Но, сердце моё, ты держишь меня.
– И тогда я послала к тебе Мартину...
– Потому что люблю тебя.
– А Мартина, всегда такая расторопная и быстроногая, тянулась к тебе сегодня, как гусеница. Стучало, стучало моё сердце, рвалось мотыльком к моему желанному Николаусу. Кабы вырвалось сердце из груди, я бы его, кажется, не догнала...
– Моё сердце давно тебе принадлежит. Едва увидел тебя... я понял это.
– Никогда я не злилась на Мартину. А сегодня злилась, негодовала – почему у неё нет крыльев!.. Уж не оставалось сил ждать...
Николаус нашёл её уста, и она замолчала.
Ангелика жарко дышала в него. Потом вдруг всхлипнула, обхватила его руками и, покрывая нежными поцелуями лицо его, крепко-крепко прижала Николауса к себе... Она была так непосредственна и прекрасна в этом порыве чувства, а природа, создавшая её, взлелеявшая её необыкновенную красоту и приведшая её к образу безупречному, теперь столь властно направляла её, что Николаус совершенно уверился – вот ради таких порывов, порывов любви искренней и чистой и в то же время страстной и безоглядной, Ангелика и жила... и живёт; в любви – изначальная суть её; в любовь она бросается, забыв себя, как в огонь свечи бросается бабочка. И он почувствовал себя этим безжалостным, чистым, всемогущим огнём, в котором сгорают трепетные её крылья. Он объял её, он, воспользовавшись властью над ней, данной ему той же природой, сжёг крылья её, обратил из небожительницы, гордой и недоступной, в земное существо, прекрасное из прекрасных, и, уже не в силах сдерживать себя, подхватил её – лёгкую-лёгкую – на руки...
Николаус огляделся. Только бледный лучик света пробивался из-под двери. В этом лучике Николаус скорее угадал, чём увидел, руку Ангелики, показывающую куда-то в темноту, и он понёс Ангелику – туда, куда она указывала жестом. Какие-то одежды – её или его – путались у него под ногами. И он боялся споткнуться, боялся уронить свою бесценную ношу, прекрасную юную женщину, которая, кажется, стала стократ прекрасней после того, как он подарил ей свою любовь.
Тоненькая, но такая сильная рука указывала ему путь во тьме.
Каким волшебным ароматом веяло от волос Ангелики, каким чудным бархатом была её кожа! Как нежны и в то же время сильны были её губы, ласкающие ему губы! И как властна была рука, указывающая ему путь!
Николаус готов был целую жизнь повиноваться этой нетерпеливой руке и испытывать от повиновения верх наслаждения. Только самые искушённые могут постигнуть эту истину: в любви значительно приятнее повиноваться, нежели повелевать...
Он упёрся во что-то коленом и остановился.
Указующая рука Ангелики во тьме исчезла. И Николаус понял: они пришли, перед ними был центр мироздания, смысл из смыслов, цель из целей, основа из основ, жемчуг Вселенной – её постель.
Он опустил её на постель, будто рыбку пустил в озеро. Она плеснула в него прохладным шёлком и вдруг обратилась русалкой. Глаза русалки едва уловимо блестели, смотрели в темноте, смотрели, не мигая, смотрели властно. Это было как колдовство. Руки-змеи вдруг обвили его, обласкали и потянули в омут – в прекрасный омут, в желанный омут; ноги-невод накрепко обхватили его и уже не отпускали. Николаус тонул, тонул... Ангелика ворожила, а он тонул в ней, он задыхался, потом дышал ею; как в золотой таинственный кокон, укутывался в роскошные её волосы.
Она, кажется, плакала. Отчего?.. Она целовала ему шею, ключицы; она уже не была трепетнокрылой бабочкой – та сгорела без следа; она была сейчас пчелой, которую вот-вот затопит мёд.
Будто в бреду, она роняла:
– Я... Я люблю... Я люблю тебя...
И у него давно не было сомнений, что он любит её.