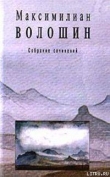Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 50 страниц)
Ну а пока что Макс занимается прозаическими делами. Ему как одному из начальников приходится следить за тем, как разбивают лагерь, вести хозяйство, исполнять некоторые технические обязанности. Бывают и развлечения, например ястребиная охота на фазана, весьма популярная у киргизов забава – «козлодрание». Впрочем, за этим «мероприятием» Волошин лишь наблюдает… Лёжа в юрте, поэт штудирует «Историю европейского романа» Петра Боборыкина, читает по-французски «Путешествие по Италии» Ипполита Тэна, причём находит у него сходные со своими оценки помпейской живописи (которая, по его мнению, превосходит живопись эпохи Возрождения). Постоянно вспоминает Париж. Много общается с Вяземским, обретя в нём настоящего друга. Но, главное, он рад, что кончилась наконец эта скучная «канитель с… университетом и юриспруденцией». Вот когда он вновь окажется в Париже, тогда-то и начнётся для него «настоящее учение». Но пока что он «в центре Азии, в том котле, где кипела всегда народная буря… затапливающая своим внезапным разливом низменности восточной Европы». Кипит она и сейчас: в Китае – «боксёрское восстание» [5]5
Восстание в Северном Китае (1899–1901), поднятое тайным обществом Ихэуюань («Кулак во имя справедливости и согласия») и названное иностранцами боксёрским; подавлено войсками Германии, Японии, Великобритании, США, Франции, России, Италии, Австро-Венгрии. – Ред.
[Закрыть]. С присущим ему чувством справедливости и сострадания Волошин понимает, что в очередной раз свершается какая-то «всемирно-историческая подлость». То же отношение у него и к Англо-бурской войне. Макса переполняет чувство негодования по отношению к европейцам – колонизаторам и варварам.
Между тем 22 (23) октября изыскатели прибывают в конечный пункт, селение Джулек – пять домов, на самом берегу Сыр-Дарьи. А кругом – «бесконечные заросли саксаула и кустарника, в котором живёт бесконечное количество фазанов и диких уток, так что, когда идём, то они вылетают из-под ног в разные стороны, как кузнечики из травы жарким летом. Их так много, что они даже на двор залетают. Заячьи уши так и мелькают в густых зарослях, в которых всюду идут узкие дорожки, протоптанные дикими кабанами, которые иногда невозмутимо проходят по главной улице городка…». Занятно. Экзотично. Но что дальше? Макс намерен добраться «пешком через Памир и Гималаи в Индию», а из Бомбея – до Порт-Саида на пароходе…
Но не все планы осуществляются. Памир, Индия так и останутся недосягаемыми. Волошин с Вяземским вынуждены двинуться в обратный путь, к Туркестану, отдельно от каравана. Макс ведёт пикетаж и осуществляет глазомерную съёмку вариантов железнодорожной линии. Пройдя за пять дней 82 версты, 10 ноября друзья прибывают в город Туркестан. А спустя ещё пять суток они уже в Ташкенте. Здесь-то Волошин получает письмо матери, в котором она сообщает: «…дело студента Волошина оставлено без последствий». Зубатов даёт добро на возвращение в Москву. Но в университет Макса по-прежнему не тянет. В газете «Русский Туркестан» он публикует свои фельетоны, которые имеют успех среди ташкентских читателей. Однако надвигается зима. В строительстве дороги наступает перерыв. Надо ехать домой.
В душе поэта, во всём его существе идёт какая-то огромная и важная работа. И декабря он пишет А. М. Петровой: «Я чувствую в себе какой-то необыкновенный прилив сил… крылья мои всё растут и растут, мысль сбрасывает ветхие загородки». Волошин ощущает, что возможности его как поэта, публициста, мыслителя растут. К тому же важнейшим результатом пребывания в пустыне стала внутренняя гармонизация. «Надо всем было ощущение пустыни – той широты и равновесия, которые обретает человеческая душа, возвращаясь на свою прародину», – напишет поэт в «Автобиографии».
Наступает новое столетие. Волошин всё ещё в Ташкенте. Пишет статьи и фельетоны, изучает подшивки «Русских ведомостей» – его интересует всё, что касается китайских событий, встречается с Иваном Ивановичем Гейером, советником Областного управления, бывшим революционером, издателем газеты «Русский Туркестан», и Иваном Павловичем Ювачёвым, также бывшим революционером [6]6
И. П. Ювачёв (отец поэта Даниила Хармса) был членом организации «Народная воля», пытался организовать убийство Александра III; осуждён на 15 лет тюрьмы, четыре года провел в одиночке Шлиссельбургской крепости, где раскаялся в своей попытке душегубства, став глубоко религиозным человеком; автор десяти проповеднических книг. – Ред.
[Закрыть], ссыльным, путешественником, автором «Очерков Сахалина», в которых описаны впечатления от его пребывания на сахалинской каторге. Знакомством с этими людьми Волошин особенно дорожил. А Ювачёв поэта прямо-таки очаровал: «…какой-то совсем удивительный человек – примирённый, ровный… религиозный». Иногда к ним присоединяется сам вице-губернатор Туркестана Н. А. Иванов, сопровождаемый двумя полицмейстерами. Разность взглядов не мешает общей беседе «за чайным столом».
О своём «восточном» житье-бытье Волошин пишет Глотову: «Полдня я занимаюсь в конторе, а полдня читаю, пишу и занимаюсь с учениками». Макс публикует отдельными выпусками «Листки из записной книжки», содержащие впечатления от его путешествия по Европе, размышления об искусстве и философии; свои статьи в «Русском Туркестане» воспринимает как «материалы для будущих стихов».
Однако поэт чувствует, что засиделся на одном месте. В конце февраля он вместе с Ювачёвым покидает Ташкент. Самарканд. Асхабад. Баку. Тифлис. И далее «на почтовых» по Военно-Грузинской дороге – на Владикавказ. 4 марта 1901 года Волошин приезжает в так давно, казалось бы, покинутую им Москву. Впрочем, он уже начал привыкать к затяжным путешествиям. А в Москве тем временем неспокойно. В начале февраля началась Вторая всероссийская студенческая забастовка, охватившая 35 учебных заведений и 30 тысяч студентов. В Москве – массовые демонстрации, стычки с полицией. В Санкт-Петербурге разогнана студенческая демонстрация у Казанского собора. А ещё раньше, в декабре, 183 студента Киевского университета за участие в сходках были отданы в солдаты. Общественность протестует. На общей волне негодования Лев Толстой пишет письмо «Царю и его помощникам». Надвигаются грозовые события…
Но Волошин, хотя и понимает, что «в России творятся ужасы», пока что переполнен другими впечатлениями. Он встречается с Ишеевым и Кандауровым, посещает художников Поленова и Досекина. А главное, он всем своим существом устремлён в Париж. Уже тогда, совсем ещё молодым человеком, Волошин наметил для себя жизненную программу, в основе которой одно стремление:
Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Всё воспринять и снова воплотить.
«Земля настолько маленькая планета, что стыдно не побывать везде», – напишет он матери из Парижа в конце 1901 года. Странствия, наблюдения, познание, вживание, воплощение впечатлений «чертой и словом» – вот основные вехи, намечающие жизненный путь художника и поэта…
«Программа» Волошина имела чёткие географические очертания и ясно выраженные цели: «Теперь туда – в пространство человеческого мира – учиться, познавать, искать. В Париж я еду… чтобы познать всю европейскую культуру в её первоисточнике и затем, отбросив всё „европейское“ и оставив только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям, „искать истины“ – в Индию и Китай. Да и идти не в качестве путешественника, а пилигримом, пешком, с мешком за спиной, стараясь проникнуть в дух незнакомой сущности… а после того в Россию окончательно и навсегда» (из письма А. М. Петровой от 12 февраля 1901 года).
Увы, Индия и Китай так и остались для поэта неосуществлённой мечтой. А вот Париж оказывается преддверием:
В просторы всех веков и стран,
Легенд, историй и поверий,
становится школой художественного и поэтического мастерства. Волошин выработал такую установку: «Учиться в Париже, работать в Коктебеле». Поэт испытывает потребность «пройти сквозь латинскую дисциплину формы», и это ему удаётся. В технике стихосложения он достигает подлинных высот, осваивает наисложнейшее искусство сонета – немалое влияние оказал на него в этом плане парнасец Ж.-М. де Эредиа, чьи сонеты Волошин переводил в 1904 году. По словам самого поэта, он предпочитал учиться «художественной форме – у Франции, чувству красок – у Парижа, логике – у готических соборов, средневековой латыни – у Гастона Париса, строю мысли – у Бергсона, скептицизму – у Анатоля Франса, прозе – у Флобера, стиху – у Готье и Эредиа…».
22 марта 1901 года Волошин со своим другом Пешковским прибывают в столицу Франции. Но Александр, побродив по Парижу и осмотрев Бретань, вскоре уезжает в свой любимый Берлин, а Макс тут же принимается за «учёбу». Он посещает Луврскую школу музееведения, студии Уистлера, Стейнлена, натурные классы академии Коларосси. Именно здесь художник, по собственному признанию, впервые «подошёл к живописи», выработал свой стиль.
В академии Коларосси Макс Волошин впервые увидел «голое женское тело». Дальше – больше. Выйдя на бульвар Сен-Жермен, он знакомится у памятника Дантону с проституткой по имени Сюзанн. И что же? Надо сказать, что поэт с младых лет ощущал некий внутренний диссонанс; если угодно, конфликт души и тела. В «Истории моей души» он пишет о теле как о чём-то внешнем по отношению к своей внутренней сути: «Я стыдился его». «Он», тело, превращается в дневниковой записи в самостоятельный персонаж. Вот как представляется Волошину лирико-драматический эпизод, который можно назвать «Я, Он и Сюзанн».
«Вечер. На тротуарах пятна света и полосы тени. Из аптечного окна лучится красное сияние. Каштанные листья около электрического фонаря кажутся бумажными. Воздух тёплый и сухой. Запах людей влажный… В голове стучит кровь. Час пред этим он видел голую натурщицу. Это было в первый раз в его жизни… Он поднял глаза, и женское тело (она стояла, заложив руки за голову, освещённая двумя фонарями с рефлекторами) поразило его своей обыденностью… И когда он вышел, была ночь… Вблизи – светлые пятна лиц. Иногда запах женского тела…
У меня есть 20 франков, думал Он… Я считал преступным купить женщину, но Он никогда не считается с принятыми нравственными положениями. Он берёт жизнь как она есть… Женщина смотрит на него, и их глаза встречаются. Она сразу понимает его взгляд: в её глазах вопрос. Что-то сразу собирается у меня в груди, сжимается… Я перестаю чувствовать ноги, вдруг становится мучительно стыдно, и я быстро отворачиваюсь. И прохожу несколько шагов и останавливаюсь около памятника Дантону. Я чувствую, что она идёт за мной, но я не решаюсь взглянуть. Под рукой я чувствую тёплый шероховатый камень. И она проходит мимо меня и задевает точно случайно плечом. И опять что-то горячее стягивается у меня в груди. Я отрываю свою спину от памятника и иду за ней. Она на ходу оборачивается и улыбается мне. Затем останавливается на углу тёмного переулка, где нет людей. У меня кружится голова, и я приказываю своим ногам идти туда, как то бывает в опьянении. И вот я подошёл, и я не знаю, как начать… Я готов убежать, но мне стыдно. Я стараюсь припомнить, что обыкновенно говорится в таких случаях, и говорю: „Вы мне позволите вас проводить?“
И я чувствую, что говорю не то… Мы переходим через улицу, и мне стыдно, что меня могут увидеть…
– Вы иностранец?
– Да, я русский.
– Погодите, я возьму ключ.
…Мы поднимаемся по лестнице, и она наклоняется, шаря в поисках замочной скважины. Я чувствую около себя юбку, дотрагиваюсь до неё робко пальцем и думаю: „Неужели это и есть?..“ Она зажигает спичку, и мы входим…
„У меня здесь собачка. Моя маленькая собачка“, – говорит она и берёт на руки крошечное дрожащее существо. Я делаю вид, что очень заинтересован собачкой, глажу её и говорю: „Какая хорошенькая собачка“…»
Опустим здесь занавес… Ночью поэт записывает в дневнике: «Я вовсе не чувствую ни сожаления, ни угрызений совести, ни отвращения, ни обаяния своего собственного падения, а скорей какое-то радостное освобождение от чего-то давившего столько долгих месяцев». Поставим здесь многоточие, отметив лишь, что художник воспринял этот эпизод как «важное событие» своей жизни.
Другим важным событием, правда, иного плана, стало знакомство Макса с художницей Елизаветой Сергеевной Кругликовой, хорошо знавшей Вяземских и Ювачёва. Вот как она его описывает: «1901 год. Ранняя весна. Париж, ул. Буассонад, 17. Ателье Давиденко и Кругликовой. Позирует модель-итальянец. Работают Е. Н. Давиденко, Б. Н. Матвеев и я. Стук в дверь. „Entrez!“ Стремительно появляется толстый юноша с львиной шевелюрой, в пенсне на широкой ленте и заявляет с изысканно-вежливым поклоном, что он имеет рекомендации со всех концов мира к Елизавете Сергеевне Кругликовой. „Я Макс Волошин“. – „Милости просим“, – отвечаю я, прерывая работу. „Садитесь“… „А можно и мне порисовать? Я никогда не пробовал“. Даём ему мольберт и бумагу, и он, пыхтя, усердно принимается за рисунок. В перерыве вопрос: „Ну как?“ Указываю ему ошибки… Он ещё усерднее работает и всё спрашивает: „А теперь уже хорошо?“ К концу сеанса – дружба на всю жизнь».
В мастерской у Е. С. Кругликовой тогда, в начале XX века, собирался весь цвет литературно-художественной богемы. К ней заходили К. Бальмонт и В. Брюсов, Вяч. Иванов и Н. Гумилёв (позднее), П. Боборыкин и А. Толстой, Н. Досекин и А. Бенуа, Р. Гиль и Р. Роллан. «Очень скоро, – вспоминает Елизавета Сергеевна, – Макс становится центром моего круга знакомых, бесконечно увеличивая его… При участии Макса создался Русский Артистический кружок в Париже».
Для Волошина ничто человеческое не чуждо. Ему всё интересно. «Музеи, выставки картин, театры, кафе, кабаре, фуары, рынки и т. п., – рассказывает Е. С. Кругликова. – Макс очень быстро изучил Париж до мельчайших подробностей и придумал интересные прогулки… Иногда прибежит ночью, перелезет через ограду и неистово стучит в дверь. Заставит подняться и тащит нас в Hailes Centrales (Центральный рынок. – С. П.), то на Монмартр, то ещё куда-нибудь, к восходу, солнца». С особым интересом Волошин посещает выставки Салона Независимых – сообщества художников, противопоставивших своё творчество традиционному, академическому искусству. Начиная с декабря 1884 года, когда были представлены не принятые в официальный Салон картины четырёхсот художников, эти выставки устраивались ежегодно под руководством высоко ценимого Волошиным Одилона Редона.
В разделе «Лики Парижа», составляющем пятую часть книги «Лики творчества», русский поэт воссоздаёт атмосферу этого нового французского искусства (глава «Вернисаж у Независимых»): «Здесь бывает весь Париж. Не тот „весь Париж“, о котором пишут в кавычках, Париж модный и блестящий, Париж салонов, снобов, эстетов-любителей, но настоящий весь артистический Париж, тот Париж, который ютится по мастерским и мансардам, который ищет, работает, учится, который презирает правительственное покровительство больших салонов, который пишет своим девизом „Pas de jury, pas de recompenses!“ (Ни жюри, ни наград. – С. Я.)… Фигуры длинноволосые, фигуры длиннобородатые, в необъятных бархатных шароварах, с широкими чёрными бортами, в остроконечных широких шляпах, вылезают в этот день из своих монмартрских и монпарнасских берлог, в которых ещё длится мгновение романтизма тридцатых годов…»
Корреспонденции Волошина о художественной жизни Парижа вскоре появятся в России – на страницах «Весов», «Аполлона», «Золотого Руна» и других периодических изданий. Расширяется круг знакомств с известными поэтами, художниками, скульпторами, декораторами и просто интересными людьми. В начале апреля 1901 года Макс Волошин наносит визит Александре Васильевне Гольштейн, бывшей народоволке и политэмигрантке, выступающей в печати с литературно-художественной критикой и переводами. Поэт «нашёл в ней человека, от которого веет какой-то живительной свежестью мысли». Быстро завязываются отношения; Александра Васильевна способствует вхождению Макса в артистическую среду, знакомит его с французскими искусствоведами.
Примерно тогда же Волошин и Кругликова посещают митинг французских писателей «для выражения протеста против русских безобразий». Макс отмечает «прекрасную речь» поэта-анархиста Лорана Тайада и вообще склонен думать, что Россия – на пороге революции. С юношеской наивностью он полагает, что в этом – «неожиданное счастье». Но, конечно, живёт он не этими мыслями. Его бытиё укладывается в несколько слов из письма А. Пешковскому: «Дни провожу в библиотеке, вечера – в художественной академии». Он с удовольствием читает первую часть трактата Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», вместе с бывшей феодосийкой Д. Бершадской присутствует на сионистическом собрании, слушает выступления врача, литературоведа и философа Макса Нордау. Ему всё интересно.
Но на одном месте не сидится. Волошина давно влечёт на Пиренеи, он уже заранее «покорён» республикой Андоррой, поскольку «об ней решительно нигде и ничего не написано». И вот начинаются сборы в дорогу. К Максу присоединяются уже упоминавшиеся художницы Елизавета Сергеевна Кругликова и Елизавета Николаевна Давиденко, а также академик живописи Александр Александрович Киселёв. Добываются «вверительные грамоты». Составляются маршруты. По-прежнему предпочитая отелям и проезжим дорогам ночёвки в хижинах и пешие переходы, Волошин выбирает в качестве отправного пункта ту самую Андорру, маленькое государство между Францией и Испанией, не имеющее, как говорилось в справочнике Бедекера, никаких достопримечательностей, «кроме первобытных нравов своих обитателей, государственного устройства да скромного дворца, который служил местом заседания государственного совета, местом ночлега для его членов, зданием суда, городской ратушей, школой и тюрьмой».
Жизненная энергия и творческая фантазия поэта в очередной раз передались, как всегда, его спутникам. В одночасье появляются географические карты, вырабатывается план действий. «По системе Макса, – вспоминает Е. С. Кругликова, – готовятся костюмы: какие-то необычайные кофты из непромокаемой материи с множеством карманов для альбомов, красок, кистей и карандашей, рюкзаки, сапоги на гвоздях, велосипедные шаровары, береты… Когда мы нарядились чучелами вроде Тартарена, то оказалось, что не только пешком нельзя двинуться, но в вагон едва влезешь…» Впоследствии всё лишнее пришлось отправить в Париж.
26 мая 1901 года путешественники прибывают в Тулузу. Далее – Тараскон. Предгорья восточных Пиренеев. В деревушке Марк заночевали на сеновале у лесника. Пробудившись в четыре часа утра, продолжили вояж. Путь лежал через горные склоны. Попадались какие-то подозрительные субъекты. Как стало известно, «республика живёт доходами от контрабанды между Францией и Испанией, меняя быков на сигары». Прибыв в крохотную столицу республики – город Андорра-ла-Вьеха, – путешественники пообщались с президентом, который не мог изъясняться ни на каком европейском языке, кроме андорро-испанского жаргона, осмотрели ратушу и гильотину, ни разу не действовавшую, но сохраняемую для устрашения. Как и прежде, решено было завести дневник путешествия, в котором надлежало записывать или зарисовывать свои впечатления. Дебютировал здесь, естественно, Волошин, который начал эту тетрадь своим стихотворением «В вагоне», написанном в поезде, где-то между Парижем и Тулузой. «Странником вечным / В пути бесконечном» представлялся поэт самому себе, и эта формула из раннего стихотворения Волошина как нельзя лучше характеризует его в юности.
Ещё в «Журнале путешествия» за 1900 год М. Волошин сделал такую запись: «В путешествии не столько важно зрение, слух и обоняние, сколько осязание. Для того, чтобы узнать страну, необходимо ощупать её вдоль и поперёк подошвами своих сапог. В путешествии количество виданного всегда обратно пропорционально количеству истраченного и съеденного». К этому остроумному определению трудно что-либо добавить. Теорию молодой поэт и художник подтвердил практикой. Андорру, Балеарские острова (Майорку), Испанию он стремился исходить вдоль и поперёк. «Закрепить преходящий миг» увиденного и познанного помогали стихи, статьи, путевые заметки.
2 июня Волошин оказывается в Барселоне. По местной традиции посещает бой быков. Этому событию он посвятил статью, опубликованную в газете «Русский Туркестан». Отдавая должное красочности и драматизму зрелища, поэт тем не менее воздерживается от восторгов. «Христианские традиции всё-таки слишком сильны во мне, – сказал он одному мадридскому журналисту, – и когда лошадь наступает копытами на собственные внутренности, я никак не могу найти в этом наслаждение». На корриде писатель вспоминал толстовского Холстомера, «которого ведут, также с завязанными глазами, на бойню».
Зорким взглядом прирождённого журналиста Волошин выхватывает из толпы зрителей хорошо одетого мальчика лет семи, обхватившего рукой деревянный столб и дрожащего как в лихорадке, подмечает прислужников, засыпающих песком свежую кровь, описывает забавную погоню полицейских за добровольцем-тореадором, явившимся из числа зрителей амфитеатра, и грустно констатирует, что «с удивительным однообразием убивается шесть быков». Со свойственными ему мягкосердечием и парадоксальностью поэт отмечает, что «наиболее человечным и симпатичным лицом во всей этой истории» для него был именно бык.
Две статьи возникают вследствие пребывания Волошина на Майорке. Он с любовью описывает Вальдемозу, место, где Жорж Санд однажды провела зиму вместе с Шопеном, живя в келье старинного монастыря. Именно здесь, в Вальдемозе, рождается одно из самых светлых и звучных стихотворений Волошина – «Кастаньеты», посвящённое Е. С. Кругликовой. Опоэтизированное впечатление от вечера, проведенного в простом деревенском кабачке:
…Вечер в комнате простой,
Силуэт седой колдуньи,
И красавицы плясуньи
Стан и гибкий и живой,
Танец быстрый, голос звонкий.
Грациозный и простой,
С этой южной, с этой тонкой
Стрекозиной красотой.
И танцоры идут в ряд,
Облитые красным светом,
И гитары говорят
В такт трескучим кастаньетам.
Словно щёлканье цикад
В жгучий полдень жарким летом.
Столкнувшись с испанской танцевальной культурой, Макс испытал настоящее потрясение. В статье «По глухим местам Испании. Вальдемоза» он пишет: «Весь танец – это какая-то неуловимая сеть быстрых движений, полных южной, стрекозиной фацией. Всё танцует: всё тело, каждый мускул, каждая косточка, только руки почти неподвижно распростёрты в воздухе, точно стрекозиные крылья… Кастаньеты в исступлении рассыпаются на тысячи игл, на тысячи жгучих, отточенных солнечных лучей, веками копившихся в сухом стволе оливы, из груди которой их вырезали…» Танец позволяет художнику лучше постичь душу испанского народа: «Всё то, что Италия поёт, – Испания танцует. Она танцует всегда, она танцует везде.
Она танцует обрядные танцы на похоронах у гроба покойника; она танцует в Севильском соборе на святой неделе свой священный танец пред алтарём в церкви как часть богослужения; она танцует на баррикадах и пред смертной казнью; она танцует пред началом боя быков; она танцует днём, танцует и в полуденный зной, танцует благоуханной ночью, когда звёзды отражаются в морской волне, а воздух „лавром и лимоном пахнет“».
Волошин посещает дворец эрцгерцога Людвига Сальватора, осматривает часовню, усыпальницу герцогов Сен-Симонов, наслаждается Вальдемозой, находя её прекраснее всего, что когда-либо видел. Хотя не всё так уж безоблачно. В Барселоне пропадает багаж поэта, в котором словари и другие необходимые вещи. Но Макс по природе своей не-унываем. Его ждёт Валенсия. Там, в портовом кафе, он как истый монмартрский художник делает портреты посетителей. Малага, Севилья – на этот раз в блокноте Макса наброски танцовщиц-гитан, работающих в жанре фламенко. Похоже, Волошин оценил пользу рисования для знакомства «со всякими классами», тем более – без знания языка. А ведь хочется ещё передать на бумаге драматизм корриды, сделать зарисовки «родины Дон-Кихота» Ла-Манчи…
Однако скоро поэта уже влечёт обратно в Париж. Отдав дань уважения Толедо и Мадриду, Волошин 9 июля 1901 года возвращается в столицу Франции. Его ждут любимые места: Сена, Тюильри, «Монмартр и синий, и лучистый. / Как жёлтый жемчуг – фонари. / Хрустальный хаос серых зданий… / И аромат воспоминаний…».