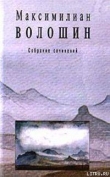Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 50 страниц)
– Господа! Вместо: «Люди умны» поём: «Под звуки многотрубны». Начали!
И хор с охотой исполняет:
Забралась она в «Бубны»
Под звуки многотрубны,
Но ей и там
Попался Мандельштам.
Все замолкают, вопросительно глядя на Осипа. Поколебавшись какое-то время, Осип Эмильевич в сопровождении юных сильфид нагоняет компанию.
Явился Ходасевич,
Заморский королевич,
Она его…
Не съела ничего.
Опустившись на колени, хохочущий Ходасевич ищет упавшее с носа пенсне:
– Господа, так и знайте: пенсне не найду – стихов читать не буду!
Все ползают в поисках пенсне. А пение между тем продолжается:
Она здесь удивилась
И очень огорчилась:
Она – ха-ха!
Искала жениха.
И – все вместе:
Максимильян Волошин
Был ей переполошен,
И он, и Пра
Не спали до утра.
Ходасевич в темноте спотыкается, и его подхватывают под руки. Слышно, как он смеётся и говорит, что уж если он упадёт, то не встанет и уж стихи читать точно не будет.
Общий хохот, шутки… А хор допевает последний куплет:
Ей скоро надоели
Все встречи в Коктебеле,
Она открыла зонт,
Поплыла в Трапезонд.
Вот уже и «Бубны». Знакомые «обормотские» художества. Необъятный мужчина в оранжевом хитоне и надпись: «Толст, неряшлив и взъерошен / Макс Кириенко-Волошин». А если перевести глаза выше: вершина Сюрю-Кая, на одной ножке стоит балерина: «Вот балерина Эльза Виль – / Классический балетный стиль» (кстати, балерина Мариинского театра). Было и назидательное: человечек в котелке, чёрном костюме со стоячим воротничком, при усах; под ним – устыжающее: «Нормальный дачник, друг природы. / Стыдитесь, голые уроды!»
…Молодые люди, местные и пришлые, и балующиеся стихами, и осмотрительно далёкие от них, сдвигают столы в угол, сооружая сцену. Пришедшие, уже в который раз, изучают стенную роспись. Да, владелец кафе, грек Синопли, внакладе не останется: «Как приятно в зной и стужу / Есть двенадцатую грушу». Или: «Желудку вечно будут близки / Варёно-сочные сосиски».
Тем временем на сцене – Владислав Ходасевич: белый лоб, чёрная прядь.
По вечерам мечтаю я
(Мечтают все, кому не спится).
Мне грезится любовь твоя,
Страна твоя, где всё – из ситца…
Горячо аплодирует «Баритон», а на возвышение уже взбирается Осип Мандельштам. Вскинув горбоносую голову, он читает:
Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятеньи и тоске.
Я хочу поужинать, и звёзды
Золотые в тёмном кошельке!
И дрожа от жёлтого тумана,
Я спустился в маленький подвал.
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал…
Тем не менее хлопают. Не принимают на свой счёт.
– Марина, ты прочтёшь что-нибудь? – спрашивает Макс у Цветаевой.
– Конечно, но только вместе с Асей.
Вспоминает Е. П. Кривошапкина: «Потом, стоя рядом плечо к плечу, Марина и Ася Цветаевы читали стихи Марины. Стихи, полные „колыбелью юности“, Москвой, обе юные и весёлые. После них читал Волошин. Для собравшихся здесь в большом количестве „нормальных дачников“ надо было читать о любви. И когда он закончил строками:
Люби его метко и верно —
Люби его в самое сердце! —
аплодировали много и громко. Сзади – чьё-то ехидное хихиканье и слова: „Сорвал-таки Макс аплодисменты“»…
На сцене – босоногие, воздушные балерины в ярко-алых туниках, и танец их – исступлённо-чувствен… Публике, судя по всему, понравилось…
Пока «ненормальные» киммерийцы развлекались с «гетерами», «нормальные дачники» тоже не дремали. То обстоятельство, что на коктебельском пляже «Без всякого пардона / Мусье подряд / С мадамами лежат», да ещё те и другие легкомысленно одеты, точнее, раздеты, смущало благонамеренных граждан. Главной ревнительницей пуританских взглядов на одежду и манеры слыла та же певица Большого театра М. А. Дейша-Сионицкая. Она всячески допекала и срамила «обормотов», подавала петиции в соответствующие инстанции, требуя их урезонить. «Представителем озорства, попрания всех законов, божеских и человеческих, упоенного „эпатирования буржуа“ был поэт Максимилиан Волошин, – вспоминает В. Вересаев. – Вокруг него группировалась целая компания талантливых молодых людей и поклонниц, местных и приезжих… Девицы из этой обормотской компании ходили в фантастических костюмах, напоминавших греческие, занимались по вечерам пластическими танцами и упражнениями. Иногда устраивались торжественные шествия в горы на поклонение восходящему солнцу, где Волошин играл роль жреца, воздевавшего руки к богу – солнцу… Устраивали кошачьи концерты представителям враждебной партии, особенно Дейше-Сионицкой». Что было, то было. Не случайно в письме к Ю. Оболенской поэт жаловался на то, что «неистовая Дейша» собирает «подписи среди крестьян и нормальных дачников под постановлением о том, чтобы выселить» их с матерью «из Коктебеля на вечные времена».
Это про неё, уже в 1917 году, Волошин написал довольно-таки злые, «крокодильи» куплеты:
Из Крокодилы с Дейшей
Не Дейша ль будет злейшей?
Чуть что не так —
Проглотит натощак…
У Дейши руки цепки,
У Дейши зубы крепки.
Не взять нам в толк:
Ты бабушка иль волк?
Ну а в предвоенное лето высоконравственная «Крокодила», будучи основательницей общества благоустройства дачного посёлка Коктебель, добилась разделения пляжа на отдельные участки, на границах которых были воздвигнуты столбы с надписями: «Для мужчин» и «Для женщин». Со свойственным ему свободомыслием Волошин выступил против купального произвола властей и замазал белилами указания на целомудренных «губернаторских столбах», как выразилась Ю. Оболенская.
История с «губернаторскими столбами» попала в газеты. Думается, есть смысл – для воссоздания колорита эпохи – привести здесь заметку «М. Волошин и исправник», опубликованную в петербургских «Биржевых ведомостях» 2 июля 1914 года: «С поэтом-модернистом Максимилианом Волошиным, прославившимся своим выступлением против И. Е. Репина, приключилась маленькая обывательская история.
Как известно, психология г. Волошина не мирится с какими-либо признаками человеческой культуры, поскольку она, например, является в форме сложных костюмов и т. д.
Нередко можно видеть целые группы голых мужчин бронзового цвета, в одних древнегреческих хитонах и венках на головах – то идёт Волошин с друзьями.
Исправник потребовал отделить места купаний мужчин и женщин и предложил тамошнему курортному обществу установить столбы с соответствующими надписями. Столб был установлен как раз против дачи М. Волошина. Тот, не вытерпев нововведения, замазал соответствующие места. Вмешались власти, и в результате Волошин привлечён теперь к ответственности за уничтожение знаков, установленных властью. Дело передано судье, а пока Волошин прислал объяснение исправнику:
„Против моей Коктебельской дачи, на берегу моря, во время моего отсутствия, обществом курортного благоустройства самовольно поставлен столб с надписью „для мужчин“ и „для женщин“. Самовольно потому, что приморская полоса принадлежит не обществу, а гг. Юнге, на это разрешение не дававшим. С другой стороны, распоряжения общества, членом которого я не состою, не могут распространяться на ту часть берега, которая находится в сфере пользования моей дачи. Не трогая самого столба, я счёл необходимым замазать ту неприличную надпись, которой он был украшен, так как, я думаю, вам известно, что данная формула имеет определённое недвусмысленное значение и пишется только на известных местах. Поступая так, я действовал точно так же, как если бы на заборе, хотя бы и чужом, но находящемся против моих окон, были написаны неприличные слова.
Кроме того, считаю нужным обратить внимание г. исправника, что зовут меня Максимилианом Волошиным-Кириенко, а имя Макс является именем ласкательным и уменьшительным, и употреблять его в официальных документах и отношениях не подобает“». (Уездный исправник М. Солодилов направил запрос о пляжном столбе «г-ну Максу Волошину, поэту-декаденту».)
Кстати, самого губернатора история с «губернаторскими столбами», судя по всему, не слишком задела. Тем более – губернаторшу. Однажды, по воспоминаниям Вересаева, она, будучи проездом из Феодосии в Судак, заехала пообедать к Волошину. А исправник Солодилов (тот самый) дежурил в это время у коляски. После отъезда своей подопечной Солодилов подошёл к поэту, взял его дружески под руку и сказал: «Максимилиан Александрович, вам тогда не понравилось, что я назвал вас Максом. Пожалуйста, называйте меня Мишей».
Этот редкий дар – умение сходиться с людьми, расположить к себе самые разные натуры, не держать зла в душе – в скором времени так пригодится Волошину…
Уже шла война – там, в Европе, а здесь, в Крыму, выясняли свои отношения «нормальные» и «ненормальные» дачники, не подозревая о том, что будет происходить на этих благословенных землях в недалёком будущем. А пока пляж, море и горы, несмотря на «губернаторские столбы», оставались общей территорией…
«Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…» В предрассветной мгле по горной тропинке поднимаются трое. Их плечи оттянуты тяжёлыми этюдниками. Двое – худощавые мужчины, уже в годах, третья – молодая женщина. Это Богаевский, Кандауров и Юлия Оболенская. У всех голые до колен загорелые ноги, на Юлии – шаровары.
– Скорее, господа, – подаёт голос Богаевский, – сейчас взойдёт солнце, а нам ещё мольберты раскладывать!
Компания, взбодрившись, берёт с ходу очередной подъём. Оболенская скандирует в такт ходьбе:
Идут на этюды скелеты по руслу сухому реки,
Идут на этюды скелеты, и мерно стучат позвонки.
А над морем между тем взошло солнце. Коктебельская долина понемногу оживает. Высокий мужчина с измождённым лицом входит в море, ждёт, пока отхлынет волна, и набирает полное ведро камней. Это барон Каульбарс, безнадёжно заболевший «каменной болезнью». Впрочем, не он один. Практически все попадавшие в Коктебель проводили время в поисках необычных камешков, почитая за счастье i обрести своего «куриного бога» с дырочкой. Дома барон вываливает свою добычу на стол, внимательно изучает каждый экземпляр, затем несёт всё это обратно и вновь наполняет ведро. И так каждый день… На берег выскакивают двое юношей в купальных костюмах и начинают метать диск. Это два московских студента, которых иначе, как «дискоболами», никто не называет.
Выходят из дома и направляются куда-то в сторону «профиля Волошина» Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Она, вспоминает Е. П. Кривошапкина, «одета так же, как и Оболенская, на загорелых мальчишеских ногах татарские чувяки. Ветер треплет её стриженые волосы. Невысокая, худощавая, широкая в плечах, она кажется мальчишкой, подростком. Но – серьёзен взгляд через пенсне, на руке широкий браслет с бирюзой… Так и ушли они из моей жизни в сторону Карадага… Были потом две-три мимолётные встречи в Москве, да были ещё письма, которыми мы обменялись с Мариной в трудный 1918 год. Тогда нам удалось кое-что узнать о наших близких, исчезнувших в океане революции и гражданской войны… О начале революции Волошин писал:
Шатался и пал великий
Имперский столп;
Росли, приближаясь, клики
Взметённых толп…
В том году толпы пока молчали, веселились „обормоты“…».
В ДНИ ВЕЛИКИХ ШУМОВ РАТНЫХ…
Не знать, не слышать и не видеть…
Застыть, как соль… уйти в снега…
Дозволь не разлюбить врага
И брата не возненавидеть!
Газеты
«Годы перед войной я провожу в коктебельском затворе, что даёт мне возможность вновь сосредоточиться на живописи…» – читаем мы в «Автобиографии». Строго говоря – не только на живописи. Волошин задумывается об издании второй книги стихов, переводит своих любимых французов. Эти годы были ознаменованы для поэта серией удачных публикаций. В начале марта 1913 года в домашнем издательстве М. И. Цветаевой «Оле-Лукойе» выходит уже упомянутая книжка Волошина «О Репине». Автор предпослал ей статью из газеты «Утро России»: «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина». Была также включена глава, в которой описывался скандальный диспут в Политехническом музее. Спустя год появились ещё три книги Волошина: «Лики творчества. Том 1», куда вошли статьи художника о французской культуре (он планировал ещё три тома – о русской литературе, живописи и театре, но задумка тогда не осуществилась), а также в его переводе сборник рассказов Анри де Ренье «Маркиз д’Амеркёр» (московское издательство «Альциона») и книга «Боги и люди» Поля де Сен-Виктора (издательство М. и С. Сабашниковых, серия «Страны, века и народы»). Последняя включала в себя произведения на самые разные темы, объединяя миф и историю – Венера Милосская и египетские мумии, Аттила и Диана де Пуатье, Дон Кихот и Манон Леско… Отметим, что Волошин, по сути дела, был первым, кто открыл для России этих ярких французских писателей.
Не уклоняется Макс и от живого слова, кипящей вокруг него сегодняшней культурной жизни. В Феодосии, совместно с Мариной и Асей Цветаевыми, скрипачом Могилянским, певицей Бленар и другими, участвует в «Вечере поэзии и музыки» (15 декабря 1913 года). Поэт много размышляет о готике, приводит в порядок свои рукописи и, как всегда, принимает гостей. Среди них в сентябре 1913 года оказывается и М. В. Сабашникова. Маргарита Васильевна по-прежнему боготворит Штейнера, много рассказывает об эвритмии, о предстоящем строительстве Антропософского здания в Дорнахе. В отношениях с Максом – ничего ностальгического. Маргоря испытывает к нему и его матери нечто вроде жалости: эти люди ей по-прежнему чужды. Хотя, как оговаривается Сабашникова в письме к Петровой, она «глубоко тронута отношением Макса, вижу, какой он хороший, одинокий, но мне страшно трудно переносить его движения, его голос, его манеру рассказывать». Да, прошлое не вернёшь…
Маргарита Васильевна рада за Александру Михайловну Петрову – ведь та вступила в Антропософское общество. Кстати, и Макс вновь проявляет интерес к этой «науке религиозных откровений». Перечитывает книги Учителя. Ещё до приезда Сабашниковой он спрашивал Петрову по поводу «штейнеровских условий» для вступления в Общество. С тем же вопросом он обращается в Мюнхен к Т. Г. Трапезникову, искусствоведу и антропософу, и тот выказывает готовность выступить его «поручителем». Хотя, конечно же, Макса волнует не только Штейнер, не только Восток с его философией, не только Запад и французы. Ведь он – русский поэт; и для него «Пётр, Достоевский, Пушкин —…это вся Россия».
Вообще, в последнее время он много размышляет – о себе, о жизни, о литературе, о человеке. Ещё в декабре 1911 года Волошин писал матери: «…я каждого человека беру с его положительной стороны… стремлюсь в каждом… найти те стороны, за которые его можно полюбить… Только этим можно призвать к жизни хорошие черты человека, а не осуждением его недостатков». Он понимает, что «не нужно судить людей, что не нужно выбирать, а брать тех, кого приносит судьба» (примерно тогда же, из письма А. М. Петровой). Спустя два года Макс развивает эти мысли. В письме к Ю. Л. Оболенской от 8 ноября 1913 года Волошин говорит о своём стремлении к «принятию человека ради него, а не ради себя». Он пишет о «растительной», то есть органически присущей человеку радости, о чуде, о Христе, утверждает, что не мыслит смерти без воскресения. Может быть, мы в этом мире, рассуждает поэт, вовсе не для исправления сущего, а для того, чтобы «понять» – смысл вещей, природу собственного предназначения, некий общий, всех касающийся Замысел.
Новый год, год развязывания Первой мировой войны, начался для поэта весьма знаменательно…
Дорога на Коктебель. Тащится сквозь метель запряжённый двумя хилыми лошадёнками рыдван. Крутит, вертит, запорошивает резкий и злой норд-ост. Лошади скользят, рыдван того и гляди опрокинется, а в нём дружно хохочут Марина, Ася и Сергей. Эфрон придерживает объёмистую корзину… Продолжим словами Марины Цветаевой: «…так бы Макс нас и не дождался, если бы не извозчик Адам, знавший и возивший Макса ещё в дни его безбородости и половинного веса и с тех пор, несмотря на удвоенный вес и цены на феодосийском базаре, так и не надбавивший цены… Лошади на свежем снегу скользили… но чего не могут древнее имя Адам, пара старых коней и трое неудержимых седоков, которым всем вместе пятьдесят четыре года. Так или иначе, до заставы доехали. Но тут-то и начались те восемнадцать вёрст пространства – между нами и Максиной башней, нами и новым 1914 годом. Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком не ощущаемую». Шевелится снеговая стена спины Адама:
– Ну как, панычи, живы?
– Не знаю, не уверен, – отвечает за всех Эфрон.
– Ася?
– Да, Марина! Так будем ехать после смерти!..
Рыдван в очередной раз завалился…
– Ждать недолго, – резюмирует Сергей.
Седоки смеются. Метёт метель… «Холодно не было, нечему было, ничего не было, ехали голые весёлые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего не делается… Ехала, впрочем, ещё веская достоверная корзина, с которой всё делается и которой есть чем вывалиться. Если мы тогда – все с конями, с повозкой, с Адамом – не сорвались в небо, то только из-за новогоднего фрахта Максиного любимого рислинга, который нужно было довезти… Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Макс».
– Серёжа! Ася! Марина! Это невозможно. Это невероятно.
– Макс, а разве ты забыл:
Я давно уж не приемлю чуда.
Но как сладко видеть: чудо есть!
Пришлось, однако, откорректировать строчку!..
Нетопленый дом оживает. Воет чугунная печь. Хозяин ставит на стол чашки без ручек, кладёт ножи без черенков.
– Мама, уезжая, всё заперла, чтоб не растащили, а кому растаскивать? Собаки вилками не едят…
У Марины закружилась голова. Всё как будто бы реально – и в другом измерении: «Мы на острове. Башня – маяк. У Макса под гигантской головой Таиах его маленькие преданные часики. Что бы они ни показывали – правильно, ибо других часов нет. Ещё двадцать минут, ещё пятнадцать…» Под рукой у Макса старая, многочитаная Библия.
– Макс, давай погадаем на грядущий, 1914-й! Что нас ждёт?
Макс наугад раскрывает книгу, читает:
– «И явилось на небе великое знамение – жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд.
Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.
Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца…»
Сергей зябко поёжился:
– Ничего себе, новогоднее предзнаменование…
Марина, глядя на огонь в печи:
– Красный дракон…«…Дабы, когда она родит, пожрать её младенца…»
И в этот миг стрелки под головой Таиах сошлись на двенадцати. С уютным мирным звоном соприкоснулись одна чашка с отбитой ручкой и три стакана…
– За 1914-й!
– За счастье!
Макс, глядя в никуда:
– За первый год, год начала…
– Начала чего, Макс?
Неожиданно – Ася:
– Макс, тебе не кажется, что как-то странно пахнет?
– Здесь всегда так пахнет, когда норд-ост…
Произносятся тосты под рислинг. За Новый год, за Коктебель, за благополучный норд-ост.
– А теперь, Марина, стихи!
Но тут из-под пола вырывается струйка дыма. «Сначала думаем, что заметает из-под печки. Нет, струечка местная, именно из данного места пола – и странная какая-то, лёгкими взрывами, точно кто-то, засев под полом, пускает дымные пузыри. Следим. Переглядываемся, и Серёжа, внезапно срываясь:
– Макс, да это пожар! Башня горит!»
Странно, но у Волошина «отсутствующее» лицо. Остальные засуетились:
– Внизу ведро? Одно?
– Да неужели ты думаешь, Серёжа, что можно затушить пожар вёдрами?
Но делать нечего. С двумя вёдрами и кувшином Сергей, Марина и Ася несутся к морю, возвращаются с водой, заливая лестницу… Туда и обратно. И ещё, и ещё…
…Неподвижный Волошин внимательно смотрит куда-то по ту сторону огня. Огонь в столовой. Пожар, охвативший города и сёла… Неслышно палят орудия. Кто-то падает. Блики огня. Пригнувшись к земле, пробирается одетый в военную форму Сергей Эфрон… На краю окопа под неприятельскими пулями неторопливо раскуривает папиросу Николай Гумилёв… Волошин смотрит в огонь… Горит храм… Гётеанум или Реймсский собор?..
Марина врывается в мастерскую. Макс как стоял, так и не шелохнулся.
– Макс, очнись! Ведь сгорит же! Твой дом не должен сгореть!
Кажется, первый проблеск жизни в глазах Волошина… А Цветаева с остальными – опять к морю… Обратно вверх по лестнице… Дальше – свидетельские показания Марины Цветаевой: «…молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой – воздетой рукой, что-то неслышно и раздельно говорящего в огонь.
Пожар – потух. Дым откуда пришёл, туда и ушёл. Двумя вёдрами и одним кувшином, конечно, затушить нельзя было. Ведь горело подполье! И давно горело, ибо запах, о котором сказала Ася, мы все чувствовали давно, только за радостью приезда, встречи года, осознать не успели». Как, впрочем, не осознали и того, что произошло позднее…
Под утро узнают (придёт печник), что печь от пола отделял вместо фундамента один слой кирпича. Ну а печник Василий произнесёт вещее: «Если в первый день Нового года был пожар, значит, весь год будет гореть».
«Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восставленный любовью и волей одного человека, уцелел весь. Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти одно и оставить другое, Максимилиан Волошин, и здесь не пожелавший выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это всё, и весь в каждой данной вещи, Максимилиан Волошин сохранил всё».
Все заснули там, где их настигла усталость. Только Макс снова берёт Библию, раскрывает…
– «…И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,
И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?
И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.
…И дано ему было вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем…»
Макс задумчиво, скорее сострадательно смотрит на спящих гостей. Поднимает голову и… не может оторваться от взгляда, направленного откуда-то из вечности, загадочного взгляда Таиах. Египетский лик освещён багровыми всполохами огня…
Зима и весна пролетели, как всегда, заполненные творчеством и суетой. Макс продолжает размышлять над философией Штейнера: она «такая освободительная, всеобъемлющая, учащая любить и преображать жизнь». 15 апреля приходит открытка из Дорнаха от Т. Г. Трапезникова: «Приезжай – здесь очень хорошо». Спустя два дня М. В. Сабашникова пишет оттуда же А. М. Петровой, замечая вскользь: «Очень жду Макса». Волошин и сам планирует уехать в Дорнах в июле и пробыть там до осени; его влечёт «мечта о великой коллективной работе»… Он хочет принять участие в строительстве Гётеанума, как Штейнер – последователь натурфилософии Гёте – назвал храм Святого Иоанна, цель которого, если брать общий смысл, заключалась в единении религий и наций. Душой строительства этого «свободного университета науки о духе» был сам Штейнер, предназначавший его для оккультных мистерий и эзотерических проповедей. Антропософский храм должен был стать «отпечатком звучащего в нём Слова».
Последние мирные недели… Но что-то зловещее, невидимое уже сгущалось в воздухе. В психологической атмосфере «тяжёлого лета 1914 года чувствовалось нарастание катастрофы, – напишет художник в статье „Скрытый смысл войны“ (1919–1920), – и не в фактах, не в событиях, а в той сосредоточенной духоте, которая бывает только перед грозой… Семейные драмы, пожары, смерти детей, распады многими годами спаянных союзов, шквалы неожиданной любви – всё это прошло в течение нескольких летних недель через жизнь нашего круга, до тех пор чуждого этим переживаниям». Ему вторит А. Толстой: «Легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры… по всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи… Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слёзы». Сам писатель безнадёжно влюбился в балерину М. П. Кандаурову, нежные чувства к которой питал и журналист А. В. Эйснер, также живущий у Волошина. Алексей Николаевич совсем потерял голову, ходил с револьвером, намереваясь застрелиться. Дядя балерины К. В. Кандауров переживал бурный роман с Ю. Л. Оболенской. Марина и Ася Цветаевы, согласно письму той же Ю. Оболенской к М. Нахман от 9 июля 1914 года, «перессорились со всеми дачниками, с Максимилианом Александровичем, дерзили, грубили, создавали тьму сплетен».
Сам Волошин воспринимал все эти душевные выверты и разрывы привычных связей в качестве «предвестников больших народных катастроф», полагая, что теперь следует ждать войны либо революции. И дождались: 15 июня в сербском городе Сараево прозвучали роковые выстрелы: наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена София фон Хохенберг были убиты членом террористической организации «Молодая Босния». До начала Первой мировой войны оставался ровно месяц… Ну а тогда, в июне, получив два письма из Дорнаха от Маргариты Васильевны, Макс Волошин начинает собираться в дорогу. Ему хочется резко сменить обстановку, поскольку от этого лета, как напишет он позднее Ю. Оболенской, «осталось глубокое сознание своего бессилия. Мы все точно в каком-то предрассветном сне томились и не могли проснуться…».
Елена Оттобальдовна относится к предстоящему отъезду сына, мягко говоря, без энтузиазма: «К Штейнеру едешь… думаешь лучше стать – не станешь. Ты весь – ложь и трусость. И не пиши мне, пожалуйста. Раньше я говорила тебе, что для меня в жизни был только ты. Теперь ты больше для меня не существуешь. Понял?» Да уж, воистину: «…твой каждый день Господь / Отметил огненным разрывом» («Материнство»). 8 июля поэт уезжает в Феодосию, а оттуда – в Севастополь. 9 июля Ю. Оболенская пишет из Коктебеля М. Нахман в Бахчисарай: «Какое ужасное для всех лето…У Максимилиана Александровича назрела страшная драма с Пра: он уехал, быть может, на много лет из России и с Пра не простился. Она не хотела его видеть». В газете «Утро Москвы» появилась ехидная заметка: «Очередной трюк поэта Волошина».
Утром 10 июля поэт прибывает в Одессу, едет поездом в городок Рени на Дунае, садится на пароход «Бессарабец» и плывёт до румынского города Галаца. Далее – городок Брассо (по-румынски Брашов, у подножия Трансильванских Альп), оттуда в переполненном поезде – на Будапешт. «Над равнинами Венгрии пылал тихий алый вечер, и первый серп с правой стороны». 12 июля Австро-Венгрия, использовав в качестве предлога сараевское убийство, разрывает дипломатические отношения с Сербией. А уже 13-го, вспоминает поэт, «встречались воинские поезда, переполненные солдатами», направляющиеся к русской границе. В Будапеште, оставив чемодан в гостинице, Волошин побежал осматривать город. Всюду – возбуждённые толпы народа, знамёна и барабаны, крики. Быть беде?.. 15 июля, прибыв в Вену, поэт узнаёт из немецкой газеты о том, что Австро-Венгрия объявила Сербии войну.
Ну, вот и всё. Обратной дороги нет. Обменять рубли на гульдены невозможно, «русские деньги не имеют больше курса». Библиотека Альбертина, где Волошин собирался поработать над книгой «Дух готики», закрыта. Мирное время кончилось. Правда, в Мюнхене, куда Макс прибыл спустя пару дней, работали художественные выставки, функционировало «немецкое варьете», но всё это уже не могло поднять настроение: 17 июля в России была объявлена всеобщая мобилизация.
Вместе с тем поэт приближается к своей цели. 18 июля в полупустом вагоне он приезжает в Базель, а ещё через час оказывается в Дорнахе, в то время как за его спиной «обрушивались все мосты и захлопывались все пройденные двери». А на Волошина вдруг нахлынули ностальгические воспоминания. Ведь это всё «этапы путешествия с Маргорей из Парижа. И Базельский вокзал, где мы прощались летом 1905 года. И я уезжал в Париж по Дорнахской долине, не зная, что ещё будет. Мой весь скептицизм действительно погас. Я чувствовал себя одним из нечистых животных, запоздавших и приходящих в ковчег последним».
…И кто-то для моих шагов
Провёл невидимые тропы
По стогнам буйных городов
Объятой пламенем Европы.
Уже в петлях скрипела дверь
И в стены бил прибой с разбега,
И я, как запоздалый зверь,
Вошёл последним внутрь ковчега —
(«Под знаком Льва», 1914)
ковчега, то есть Иоаннова здания, международного центра антропософского движения.
Итак, «Дорнах – тишина, луга, деревья, холмы». Даже не город – «типичная швейцарская деревня, соседняя с Арлсгеймом. Отдельные швейцарские домики, разбросанные среди лугов и рощ, по которым проходили сельские дороги. Внизу по долине проходила железная дорога, здесь наверху шёл трамвай в Базель. Центром всех антропософов было „капище“, где встречались за едой все представлявшие воюющие страны Европы». Трапезников его уже ждёт. Они вместе направляются к Маргарите. И потом, пишет Волошин, «мы с Аморей по тёмным лугам и тропам, с детской колясочкой, идём за моими вещами на вокзал и везём их вдвоём обратно». Похоже на идиллию… Хотя, конечно, ничего подобного. «Здесь есть один человек, который очень волновался твоим приездом», – говорит Маргарита. Выясняется, что это Йозеф Энглерт, немецкий инженер и архитектор, астроном и антропософ, главный строитель Иоганнес-Бау (Иоаннова здания), влюблённый в Маргорю. «Но теперь он успокоился, увидав тебя, – продолжает Маргарита Васильевна. – Он не верил мне, когда я говорила, что мы давно уже не муж и жена… Он удивительный человек».
Но «удивительные люди» представляют здесь и Россию. Помимо Трапезникова, это Андрей Белый со своей женой Асей Тургеневой. Ася (Анна Алексеевна) – художница-гравёр; её сестра Наталья Алексеевна Поццо также имеет отношение к живописи. Вот-вот должен появиться Михаил Иванович Сизов – переводчик и критик, сотрудник издательства «Мусагет». Ожидается приезд О. Н. Анненковой, переводчицы, кузины Б. Лемана, знакомой Волошина по Петербургу, а также подруги Е. А. Бальмонт – Т. А. Полиевктовой…
Когда Волошин был у Маргариты, туда же пришёл Андрей Белый с сёстрами Тургеневыми. Разговор, естественно, идёт вокруг начавшейся войны. Участвующие в строительстве Антропософского храма принадлежат к разным странам и по-своему отзываются на происходящие события. Какая-то дама, по словам Аси Тургеневой, заявила: «Всё-таки я рада, что наш немецкий воздушный флот сильнее всех». Да, многие здесь «теряют деликатность, но их надо ставить на место. Это всегда производит хорошее впечатление». Вмешивается её муж Андрей Белый: «Но нехорошо, что ты сама внутренне закипаешь. Я видел». Сабашникова: «Она сама со мной говорила о роли славянства. В духовном мире германский дух жаждет обняться со славянским, а в мире физическом это выражается войной». Ася: «Да, но он принимает роль славянства, как колыбель Шестой расы, под гегемонией Австрии. Под властью же России ничего не выйдет».