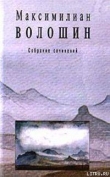Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 50 страниц)
Однако вернёмся немного назад. Феодосийский период культурно-подвижнической жизни Макса подходит к концу. Он рвётся в Коктебель, где есть возможность отгородиться в какой-то мере от хлопот и просителей, заняться творчеством. Наконец, 5 июня 1922 года перед ним снова «каменная грива» родных мест; порог его мастерской-церкви… Да, так уж получилось, что
…в эти дни доносов и тревог
Счастливый жребий дом мой не оставил:
Ни власть не отняла, ни враг не сжёг,
Не предал друг, грабитель не ограбил.
Утихла буря. Догорел пожар.
Я принял жизнь и этот дом как дар
Нечаянный – мне вверенный судьбою,
Как знак, что я усыновлён землёю.
(«Дом Поэта»)
Он пишет акварели, работает над книгой-глыбой «Путями Каина», которую сдвинуть с места невероятно трудно. Каждое воскресенье в доме появляется М. С. Заболоцкая. Каковы были её первые впечатления от дома? Мы не знаем. Мария Степановна запечатлела в своих записях то, что уже отстоялось в её памяти: «Дом поставлен как бы в середине береговой дуги бухты… Макс всегда искал и отмечал соответствие архитектурных форм формам местности. И отсюда связанность с пейзажем в линиях дома. Многогранность и многоплановость прилегающих гор, сложный ритм складок и резкие контуры обрывов перекликаются с многоплановостью и пересечённостью этажей, крыш, балконов, лестниц, многообразно и гармонически слитых в одно целое – дом. Он является как бы первой ступенью-планом на берегу, второй план Тепсень… и венец всего… – гора Сюрюю-Кая. Картина, висящая в мастерской над „каютой“, подчёркивает гармонию дома с пейзажем. Дом как центр пейзажа.
Построенный продуманно, он защищён от северных ветров поворотом стен, двойными дверями и окнами, балконы его обращены на юг и север, так что во всякую погоду ими можно пользоваться. Размерами он не так велик, но очень вместителен и целесообразен как жильё». Столь же удобен он и внутри: «Всё самое простое: столы, стулья, но стены украшены акварелями, дверцы стенных шкафов – выжженными рисунками самого Макса. Ничего ненужного. Макс терпеть не мог ненужных вещей. Самодельные книжные полки, простые топчаны, покрытые кустарными тканями с лежащими на них подушками, табуретки и скамьи с выжженными рисунками, на полочках фотографии и много индивидуальных и художественных вещей и вещиц – подарки или находки Макса в природе». Главное – везде и во всём чувствуешь «хозяина, след его мысли и чувств».
Марию Степановну поразили сами комнаты, у каждой из них было своё лицо, в каждой – своя атмосфера, не противоречащая общему духу этого поэтического «корабля». И самое важное: «Из каждой комнаты видно море, а мастерскую, которая обращена на восток, через четыре больших и высоких окна буквально затопляет голубой ливень света. Взгляду не во что упереться: не видно берега, не видно ни одного предмета, только море сливается с небом и без края расстилается пространство. Свет и расплавленное море – основное настроение мастерской».
…А за окном расплавленное море
Горит парчой в лазоревом просторе.
Окрестные холмы вызорены
Колючим солнцем. Серебро полыни
На шиферных окалинах пустыни
Торчит вихром косматой седины.
Земля могил, молитв и медитаций —
Она у дома вырастила мне
Скупой посев айлантов и акаций
В ограде тамарисков. В глубине
За их листвой, разодранной ветрами,
Скалистых гор зубчатый окоём
Замкнул залив Алкеевым стихом,
Ассиметрично-строгими строфами.
(«Дом Поэта»)
«Ассиметрично-строгие строфы», естественно, рождались в кабинете поэта. Именно там – средоточие мысли и вдохновения. Туда «надо подниматься из мастерской по внутренней лестнице. Кабинет расположен на западной стороне, напротив окон мастерской, и служит как бы продолжением её, только на хорах. В этой комбинации двух комнат в одной, но в разных плоскостях – большой вкус строителя.
В кабинете световые, цветовые и воздушные элементы иные, чем в мастерской. Свет приглушён. Тут два окна на большую комнату. И одно из них западное, расположенное горизонтально продолговатой полосой под самым потолком, даёт эффектный верхний свет, впуская продолговатую полосу солнца, которая падает на желто-оранжевую занавеску на стеклянной перегородке, отделяющей кабинет от мастерской. От этого кабинет наполнен золотистым солнечным отражённым светом, особенно в летние дни, когда солнце поворачивает к западу. На полках светло-жёлтые обложки книг, и всё вместе даёт золотисто-жёлтый приглушённый солнечный свет. „Тяжёлая поступь закатного солнца“ и тишина. Тишина, молчание, тайна, благоговение – основное в кабинете…
Макс, чувствовавший, как никто, ритм бытия, ритм каждого дня, должен был ритмично то раскрываться навстречу миру, то уходить в себя – закрываться.
Дом был оболочкой, формой жизни Макса, поэтому архитектура дома несла в себе тот же ритм сознания Макса. Дом помогал Максу уходить от плена мира, от плена света и шума мастерской в золотую тишину кабинета…», чтобы
В уединенье выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.
(«Дом Поэта»)
«Выстраданное познанье» воплощалось в стихи и поэмы, которые уже становились классикой. Как уже говорилось, имя Волошина к началу 1920-х годов было широко известно за границей, среди русской эмиграции. Его произведения публиковали парижские, берлинские, пражские, английские издания. Критики отмечали «мужественное» сочетание в них «любви и веры», наличие слова, которое «стало плотью», наконец, его особую историософскую концепцию путей России. Очевидно, Макс знал об отдельных высоких оценках своего творчества, и его самолюбию они льстили. Не жаждущий славы и не склонный к самовозвеличиванию, он всё же сообщает в одном из писем К. Кандаурову, что его «очень ценят: всюду перепечатывают, цитируют, читают», «называют единственным национальным поэтом, оставшимся после смерти Блока». Разумеется, предлагают выехать за рубеж, но это невозможно по двум причинам: во-первых, стара и больна мать, а во-вторых… он уже высказался по этому поводу в стихотворении «На дне преисподней»:
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!
В советской печати создаётся другой образ поэта, весьма противоречивый. Не замечать такое крупное явление литературы – нельзя, а трактовать его можно по-разному. Можно отметить в его стихах «вещий историзм», в словах – «огненную лепку мастера» (П. Константинов), можно, выждав какое-то время, заявить, подобно В. Вересаеву, что революция «ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались яркие, великолепные искры»; но проще и безопаснее, не вдаваясь во всякие изыски, обозвать поэта мистиком, не желающим «знать и видеть движущих сил революции», или причислить к белогвардейцам, мечтающим о возвращении «мрачных времён средневековья, царизма, рабства и эксплуатации народа» (Н. Мещеряков). Бред? Но этот бред в конечном счёте перевесит все другие оценки его творчества и превратится в официальное резюме. Достаточно открыть второе издание Большой советской энциклопедии (1951; т. 9, с. 42) и прочитать, кто такой Волошин: «…Представитель упадочнической поэзии символизма… Поэзия В. космополитична по своей сущности. Русский народ В. знал плохо… не понял Великую Октябрьскую социалистическую революцию». В 1950–1970-х годах сожалели о том, что Волошин так и не смог просветиться идеологически (К. Зелинский, В. Орлов и др.), упрекали в пресыщенности и холодной голой эстетности, в следовании реакционным славянофильским концепциям и духу рабского смирения… Отпечаток советской идеологической плиты заметен и в первой монографии о Волошине (Куприянов И. Судьба поэта. Киев, 1978).
В середине июля 1922 года поэт собирается, если можно так выразиться, в лечебно-лекционное турне по Крыму. Проще говоря, Волошину пришёл вызов в Саки на грязелечение; путь предстоял долгий, с остановками, где не избежать публичных выступлений. Первое состоялось в Симферополе, в Клубе печатников. Поэт обрушил на головы красноармейцев и матросов, слушателей рабфака и партшколы свои гневно-обличительные стихи: «Матрос», «Красногвардеец», «Термидор», «Магия», «Огонь» и «Кулак». После выступления пришедшие в себя партийцы и красногвардейцы учинили автору «в порядке дискуссии» форменный допрос: как он понимает революцию, с кем он, за кого? Волошин отвечал в своей манере: да, он за революцию, но – за революцию духа; побеждать надо не кого-то, а самого себя, преодолевая свою ограниченность; он не за тех и не за других, он – за Человека…
На что рассчитывал поэт, уже не раз «обжигавшийся на молоке»?.. Газета «Красный Крым» туг же откликнулась статьёй «Реакционная философия», в которой волошинское выступление оценивалось как стряпня «с довольно острым белым перцем», то есть подобная той, которую производит белоэмигрантская пресса. Тут бы успокоиться и заняться лечением… Но уже из санатория донкихотствующий поэт выезжает в близлежащую Евпаторию и вновь «дразнит гусей» стихами о России, смущает рабочих и крестьян «Путями Каина». На беду здесь оказался военный цензор Особого, очень Особого отдела… В воздухе запахло арестом, избежать которого удалось только чудом.
А что же грязелечение? Ничего, кроме новых приступов боли, оно не дало. Но Макс не унывает: не помогло здесь – поможет в другом месте, например, в севастопольском Институте физических методов лечения под руководством профессора Щербака. И там, похоже, взялись за него всерьёз: одна процедура за другой – гальванизация, диатермия, массаж, механотерапия, гидропатия, ванны такие, ванны сякие… Врачи к поэту – со всем вниманием, он к ним – со всеми стихами. Поладили. В результате болезнь пошла на уступки. Художник распрямился, настроение стало бодрее, проснулся юмор. Он заметил, что на всём больничном белье – постельном и столовом – стоит штамп: «венерическое» (чтобы подумали, прежде чем домой тащить), еду подают в старых, но чистых плевательницах – не хрусталь, конечно, зато изящно и стерильно. Из всех процедур ему больше всего запомнилось «вытапливание сала». Как рассказывал позже поэт своей двоюродной племяннице Тамаре Шмелёвой, его по самые плечи сажали в американскую термальную камеру, и там он потел. Однако вскоре эта камера, не выдержав его русского веса («семь пудов мужской красоты»), испортилась, так что «вытапливание сала» пришлось прекратить. В дальнейшем американским термальным камерам поэт будет предпочитать коктебельские солнечные ванны на вышке своего дома.
Впрочем, до летних солнечных ванн ещё далеко. На дворе – осень 1922 года. В Коктебеле Волошина ждут две женщины: Елена Оттобальдовна и Мария Степановна, которая окончательно перебралась в Дом Поэта и ухаживает за матерью художника. Казалось бы, ситуация близка к идиллии, но не всё так просто и гладко. Характер Елены Оттобальдовны даёт о себе знать, несмотря на явную симпатию, которую она питает к Марусе. Есть и ещё один нюанс, осложняющий настоящее и будущее этих людей. В жизни Макса, незадолго до Маруси, появилась художница Евгения Николаевна Ребикова, ученица Волошина, страстно его полюбившая. Всё в мире повторяется. Макс уже пережил душевное раздвоение: Маргарита и Вайолет. Теперь вот – Мария и Евгения.
Евгения Николаевна была племянницей уже упоминавшегося на страницах книги композитора В. И. Ребикова. Дед художницы происходил из старинного дворянского рода. В летописях упоминается некий Ребек-хан, татарин, который при Иване Грозном переселился из Казани в Васильсурск, принял православие и женился на русской. Тогда-то и возник род Ребиковых. Бабушка происходила из казачества и, судя по всему, личностью была незаурядной: блестяще закончила Харьковский институт благородных девиц, проявляла большие способности к музыке, владела многими языками. Сохранился её литографический портрет с фотографии, выполненный внучкой. Дети и внуки Ребиковых обладали художественной жилкой.
Евгения Николаевна получила в детстве прекрасное музыкальное и художественное образование. Известны сделанные ёю портреты художника Н. Н. Вышеславцева, Е. Е. Горбуновой-Посадовой, сохранились интересные автопортреты самой художницы. Весной 1912 года её отец (очевидно, чиновник высокого разряда) вместе с семьёй переезжает из Варшавы в Феодосию. По-видимому, к этому времени относится знакомство Евгении с Максом (который был на короткой ноге с её дядей, композитором). В человеческом, да и в творческом плане Ребикова была очень близка Волошину: бескорыстная и безбытная, готовая всё отдать ближнему, она была поразительно добра и душевно чиста. Отказывалась от гонораров за свои работы, опасаясь, что деньги невольно вынудят её «польстить» в портрете заказчику. Её имя часто упоминается в переписке членов семьи Герцык-Жуковских. В своей последней записке к родным из судакской больницы Аделаида Герцык упоминает художницу: «Женя ангельски добра». Известно, что Ребикова ухаживала за умирающей поэтессой, взяла на себя ведение хозяйства, а после смерти Аделаиды написала её портрет.
Дружба Волошина с Ребиковой продолжалась до конца жизни поэта. В своём письме к М. С. Заболоцкой Макс проявляет искреннюю озабоченность судьбой молодой художницы: «Маруся, милая, только одно: мы не должны предать Женю. Она трудная и слишком ещё не пережившая жизни. Хотела учиться у меня, хотела со мной переступить грань человеческого опыта». Макс есть Макс: он готов даже удочерить (в письме буквально – «усыновить») Женю, лишь бы «покрыть» любовью причиняемый ей «ущерб». Но у женщин своя психология. Марусе чужд этот альтруизм; делиться Максом она ни с кем не хочет, да и что она будет делать с этой дамой: «Женю принять не могу… Пусть Женя будет с тобою, мне ничего не надо! Я всегда, всегда буду одинока…» Ну а Макс настойчиво пытается привить подруге свою систему мировосприятия: «Маруся, нельзя меня ревновать. Нужно со мною любить всех, кого я люблю. А мне надо стольких любить: всю Россию, каждого человека в ней… Мне надо быть… со всеми, кто окликнет меня». Всё вроде бы просто, но как обычной женщине это принять? Кто знает, как могла сложиться личная жизнь поэта при других раскладах?.. Евгения Ребикова имела все основания стать женой Макса Волошина. Но не будем забывать, что очень многое в этом доме зависело от капризов и пристрастий Елены Оттобальдовны, а её выбор, как мы знаем, был определённо сделан в пользу Маруси Заболоцкой. В августе 1930 года Евгения Ребикова напишет Юлии Оболенской: «Хожу иногда с Максом на прогулки. Макс ежедневно после захода солнца совершает свои традиционные прогулки. Тогда мы разговариваем, но это совсем, совсем не те разговоры, что были раньше…» Мы уже никогда не узнаем, о чём беседовали, на что надеялись Макс и Женя тогда, в начале 1920-х…
А в конце осени 1922 года Волошин уже убеждён в одном: «Я знаю, что связан с тобою глубоко и на всю жизнь, – пишет он М. С. Заболоцкой, – что люблю тебя настоящей глубокой человеческой любовью и уважением… В человеке любовь – сознательна, разумна, свободна, действенна, но влюблённость (или страсть) бессознательна, темна, приходит неизвестно откуда, уходит неожиданно и без предупреждения…» Обо всех видах взаимоотношений мужчины и женщины (любовь, страсть, похоть) Макс говорил и раньше. Теперь же свои теоретические постулаты с приложением объяснения в любви он направляет новой адресатке, с которой окончательно связывает свою судьбу.
23 ноября Волошин покидает Севастополь, навещает Ялту, 14 декабря присутствует на открытии картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Но надо спешить в Коктебель: состояние здоровья Елены Оттобальдовны становится критическим. Вновь обострение эмфиземы лёгких, на которую наложилась простуда, очередная депрессия. Пра отказывалась есть, слабела, доводила до приступов отчаяния Марусю. 6 января 1923 года отметили Сочельник. Елена Оттобальдовна уже не вставала. Макс не отходил от матери всю ночь. Днём 8 января её не стало… «В гробу она лежала похудевшая, с молодым лицом, стремительным и решительным лбом, – писал Волошин Оболенской. – Рот сложился в ироническую, торжествующую усмешку… По горам бродили зимние туманы, а по коктебельскому заливу – пятна жидкого солнца. Во время погребения низко, над самой могилой, чертил круги орёл»…
Итак, в жизни Волошина наступает новый период. Теперь он свободен, вправе распоряжаться временем и пространством по своему усмотрению. В быту у него надёжная опора – энергичная Мария Степановна. 12 марта она делится своими впечатлениями от жизни в Коктебеле со своими харьковскими друзьями: «Веду хозяйство и смотрю за Максом… Макс страшно непрактичный, совсем как ребёнок… Прислуги нет, я всё делаю сама – и воду таскаю, и стираю, и печи топлю…» При этом: «Внутри у меня большая гармония и покой». Быть подмогой для мужа, поэта и художника, создавать для него творческую обстановку, для его гостей – необходимые удобства, размещать по комнатам, обеспечивать едой… Приходится только удивляться, как хватало на всё сил у этой маленькой хрупкой женщины с внешностью «деревенского подпаска». А ведь к ней ещё как к единственному медику шли жители из деревни – приходилось принимать роды, оказывать первую помощь, давать лекарства. И Мария Степановна всё успевала, но на первом плане остались заботы о своём муже, которого она чуть ли не боготворила.
Волошин старался отвечать ей тем же. «Когда мы объединились, – вспоминает Мария Степановна, – Макс мне очень серьёзно сказал: „Марусенька, у меня к тебе большая просьба, исполни её – и мы будем счастливы. Я больше всего боюсь в браке ‘чудовища о двух спинах’. Так страшно, когда брачующиеся смотрят только друг на друга. Я очень прошу тебя: будем повёрнуты лицами к людям и мы будем счастливы“. А меня Макс любил очень. И как он был всегда благодарен, когда чувствовал, что моё лицо обращено к людям». Марию Степановну никак нельзя было назвать красавицей. Но для умудрённого опытом, настрадавшегося в жизни поэта это обстоятельство уже не имело значения. Как-то он сказал Вересаеву: «Женская красота есть накожная болезнь. Идеальную красавицу способен полюбить только писарь». В Марусе зрелый Волошин ценил совсем другие качества, которые опоэтизировал:
Весь жемчужный окоём
Облаков, воды и света
Ясновиденьем поэта
Я прочёл в лице твоём.
Всё земное – отраженье,
Отсвет веры, блеск мечты…
Лика милого черты —
Всех миров преображенье.
Между тем пространство мира, «человеческого духа», по-прежнему побуждало к движению. В январе 1923 года у Макса возникает соблазн побывать в Берлине. Бывший командарм, а ныне полпред РСФСР в Бухаре И. С. Кожевников, направляясь в Москву, посещает Волошина в Коктебеле. Он предлагает поэту устроить для него выезд через Наркоминдел, снабдив всеми необходимыми документами. В Германии можно пожить пару месяцев, поработать, пообщаться со старыми знакомыми. Ведь Берлин в 1920-е годы становится чуть ли не литературной столицей России. Там можно будет погреться в лучах собственной славы, выступать с любыми лекциями и стихотворениями, не думая о том, что скажет по этому поводу «особый» цензор с двумя извилинами под козырьком. А на кого оставить дом?.. На Марусю? Но как же ехать без неё – ведь они уже единое целое. Да и пустят ли его потом обратно?.. По личному указу Ленина уже началось выдворение из Советской России инакомыслящей интеллигенции. В 1922-м целый «философский пароход» – более тридцати писателей, философов, богословов, профессоров сплавили за рубеж. А Макс не мыслит себя вне России. Да и работать он привык здесь, у себя в кабинете – надо заканчивать книгу «Путями Каина». И Волошин отказывается от этого выгодного предложения, отчётливо понимая, что больше такой возможности уже не будет. С новой энергией он занимается издательскими делами – надо выпустить в полном объёме «Лики творчества», расширить «Киммерийские сумерки» («Киммерию»), издать переводы из Ренье, Клоделя, Вилье де Лиль-Адана… Он мечтает подержать в руках книгу «Неопалимая Купина», куда вошли бы все стихи о войне и революции, но понимает, что в условиях Советской России это издание никогда не преодолеет цензурные барьеры, несмотря даже на помощь В. Вересаева, С. Парнок, а возможно, и А. Луначарского… Так, может быть, стоило всё-таки поехать?.. Нет, решение принято, а стихи… стихи теперь будут «списываться тайно и украдкой».
Надо сказать, что и в советской печати наряду с поверхностно-презрительными рецензиями ангарских и лелевичей начинают появляться глубокие, объективные отзывы о его поэзии. Высоко оценивает творчество Волошина В. Львов-Рогачевский в книге «Новейшая русская литература». Поэт, считает критик, «разглядел новый трагический лик России, органически спаянный с древним историческим ликом её». Ряд авторов, говоря о Волошине, не решаются открыть свою фамилию, скрываясь под псевдонимом или аббревиатурой. Так некий «О. Осв.» в журнале «Всемирная иллюстрация» отмечает редкое совпадение поэтической и человеческой судьбы Волошина, называет его зачинателем «известной литературной колонии» в Коктебеле и «исключительным знатоком истории искусств, блестящим исследователем живописи», а в его стихах видит уникальное, ни с кем не сопоставимое «отражение революционной стихии».
Между тем наступило лето; «известная литературная колония» вновь стала заполняться гостями. Приезжают харьковские друзья М. С. Заболоцкой Домрачёвы, родственники Волошина Шмелёвы, дипломат И. М. Майский, актрисы Ф. И. Бунимович и И. В. Карнаухова, С. А. Толстая. Побывали здесь К. И. Чуковский и Е. И. Замятин, поэтесса М. М. Шкапская с сыновьями. Свои впечатления от этого лета записала Тамара Владимировна Шмелёва. Познакомившись с М. С. Заболоцкой, она была несколько смущена её «раскованностью»: «Маленькая, энергичная, но, как видно, очень нервная, Мария Степановна озадачила нас своей необычной манерой обращения, и мы даже почувствовали какой-то страх перед ней… Меня поместили вместе с Марусей в маленькой комнате с фамильными фотографиями. В соседней большой зимой жил Макс. На лето он переходил к себе в верхнюю мастерскую (кабинет. – С. П.), которую по его просьбе я ежедневно убирала. Простой стол на козлах, покрытый красным сукном, и на нём несколько ящичков с карточками и карандашами. В глиняном горшочке всегда сухие розы. Макс просил ничего на письменном столе не переставлять. Он вообще был очень аккуратен…
Кроме Макса и Маруси в доме жил старый политкаторжанин-шлиссельбуржец, зоолог Иосиф Викторович Зелинский. Он помещался в столовой на диване. Макс привёз его из Феодосии, где он был совсем одинок… Около его дивана всегда собирались компании слушающих его интересные рассказы… В это лето 1923 года наша основная семья питалась наверху, в столовой. Остальные живущие в доме ходили в ресторанчик грека Синопли… В общий котёл шёл паёк Макса и продукты, привезённые тётей Сашей (Домрачёвой. – С. П.), запас которых систематически пополнялся посылками из Харькова. Мы с братом ничего не вносили и жили на „чужих хлебах“. Готовила тётя Саша, а иногда и Маруся. После обеда молодёжь шла на пляж мыть в морской воде посуду. Кастрюли тёрли песком и глиной-килом, которую брали в русле речки под мостиком. Сами мы мылись тоже этой глиной… За столом всегда происходили интересные разговоры. Иногда Макс читал только что полученные письма или отрывки из книг и журналов.
Первая половина дня проходила по строго установленному порядку. Сразу после утреннего чая Макс уходил на вышку лечиться солнцем. Потом спускался в верхнюю мастерскую работать. Входная дверь внизу закрывалась изнутри на ключ, а снаружи на ней висело объявление, что до двух часов вход в мастерскую закрыт. Я в это время делала балетные упражнения в нижней мастерской, где Таиах. Звук „гонга“ – удар палкой в подвешенную к дереву рельсу – возвещал приглашение к обеду. Макс спускался сверху и по пути в столовую проверял мой язык: если он был синий, то это значило, что я хорошо потрудилась. Выпущенная на свободу, бежала перед обедом купаться.
После обеда, если не было походов в горы, Макс шёл в нижнюю мастерскую писать акварели. Это было его любимым отдыхом. Садился в кресло спиной к свету и, прикрепив на большую доску куски ватмана, начинал приготовлять краски. В это время ему кто-нибудь читал вслух. В начале лета, когда было ещё мало людей, это делала я. Макс хотел ближе познакомить меня с творчеством Микеланджело, которого очень любил… На очереди стояло знакомство с Леонардо да Винчи… Иногда после обеда мы всей дачей отправлялись до вечера на прогулку – на Кара-Даг, в бухту Енишары, в безлесные холмы к северу от Коктебеля, получившие название Ассиро-Вавилонии. Волошин, как патриарх, шагал с посохом впереди. Вечером, когда спадала жара, собирались на вышке – и, под крупными южными звёздами, под мерный шум моря, читали стихи».
Девушке запомнилось пребывание в Коктебеле К. И. Чуковского. Поначалу он показался ей необщительным. «Прихватив тетради и корзину с виноградом, Корней Иванович с раннего утра уходил в горы и возвращался только к вечеру». Но вот однажды решили собрать для кого-то из поэтов деньги на лечение. «Макс предложил устроить в ресторанчике Синопли платный вечер. В качестве артистов выступали волошинцы. Корней Иванович читал свои детские стихи-сказки, восседая на „сцене“ за столиком. Все дети как-то незаметно уползли от своих мам и окружили Корнея Ивановича. Его буквально облепили: на коленях, на плечах, за спиной, на столе и на полу у ног сидели очарованные слушатели, влюблённо глядя ему в рот. Кажется, и сам Корней Иванович не заметил своего окружения и машинально обнимал то одного, то другого наседавшего…»
К. И. Чуковский, в свою очередь, сохранил в памяти выступления хозяйки дома, которая часто и с удовольствием «выпевала» некоторые стихи мужа, положив их на собственные мелодии. Уже в октябре, вернувшись домой из Коктебеля, Корней Иванович записал в дневнике по поводу своего пребывания в доме Волошина: «Его жена Мария Степановна, фельдшерица, обожает его и считает гением. Она маленького роста, ходит в панталонах. Человек она незаурядный – с очень определёнными симпатиями и антипатиями, была курсисткой, в лице есть что-то русское крестьянское. Я в последние дни пребывания в Коктебеле полюбил её очень – особенно после того, как она спела мне „Зарю-заряницу“ (на стихи Ф. Сологуба. – С. П.). Она поёт стихи на свой лад, речитативом, заунывно, по-русски, как молитву, и выходит очень подлинно. Раз пять я просил её спеть мне это виртуозное стихотворение, которое я с детства люблю. Она отнеслась ко мне очень тепло, ухаживала за мною – просто, сердечно, по-матерински». Чуковский так и звал Марусю – «Заря-заряница», а она его – «Чукоша». Именно тогда Волошин сделал свою известную запись для рукописного альманаха Корнея Ивановича «Чукоккала».
Лето 1923 года было первым после того, как «Утихла буря, догорел пожар». Коктебель являл собой тогда не самое курортное зрелище. Многие дачи пустовали, где-то вместо крыш и окон зияли провалы. Об аптеке, почте, телефоне и говорить не приходилось. Однако уже появлялись кое-какие продукты, можно было худо-бедно сводить концы с концами. Воспользовавшись послевоенными настроениями, когда люди потянулись на отдых, многие дачевладельцы взвинтили цены на проживание до пятисот миллионов в месяц. Волошинская «колония» с её дармовыми комнатами была для них костью в горле. Возобновились атаки на буржуя, белогвардейца, мироеда, юродивого Волошина, противопоставившего себя власти и местным порядкам. Посыпались угрозы обыска, ареста. В сельсовете решили, видимо, извести его налогами. Поползли слухи о том, что все дачи национализируют, а потом будут давать в аренду бывшим владельцам… Да, социализм ещё не раз явит поэту государственную «рачительность», а военные кампании против Дома Поэта так никогда и не прекратятся.
Поэт вновь направляет прошения в различные инстанции, напоминает об Охранной грамоте ВЦИКа, защищающей его дом, о безвозмездной пользе, которую он приносит деятелям культуры и искусства. Ему удаётся и на этот раз отстоять свой духовный очаг. Председатель Старо-крымского райисполкома Г. Д. Стамов (вскоре он будет убит) вступается за поэта и уверяет его, что «местные органы Рабоче-Крестьянского Правительства не менее Центра умеют ценить дорогих для Республики граждан». Что ж, и вновь «счастливый жребий дом мой не оставил»… А Волошин остался вполне доволен тем летом, проведённым со своими гостями в Доме Поэта (у него перебывало тогда не менее 120 человек).
Ко всему этому следовало бы добавить ещё одно впечатление, вызванное приятным событием. Как-то ещё по весне, пересекая вместе с лётчиком К. К. Арцеуловым (внуком Айвазовского, поклонником планеризма) хребет Узун-Сырт, Волошин стал свидетелем того, как листок бумаги, выпушенный из пальцев Арцеулова, плавно воспарил вверх. Примеру арцеуловской бумаги последовала волошинская шляпа. Воздушные потоки на этом широком плато оказались на редкость мощными. Так случайно было обнаружено место для проведения слёта планеристов, открытие которого состоялось уже 1 ноября…
В литературе же, по сравнению с воздушными потоками, дело обстояло значительно хуже. Было очевидно, что писателям вот-вот начнут перекрывать кислород. Правда, 1923 год оказался ещё щедрым на литературную продукцию. Вернувшийся на родину А. Н. Толстой в сборнике «Писатели об искусстве и о себе» (1924) сравнил период нэпа с «грибным летом»: «Школы, направления, кружки выскочили в грибном изобилии». Возобновили свою работу частные издательства. Например, столь актуальное для нас издательство братьев Сабашниковых, возникшее в 1891 году и прекратившее свою работу в 1918-м, возродилось в 1922-м. На книжной выставке в Москве, в мае 1923 года, оно представило 102 названия; другое частное издательство, «Колос», выставило 80 книг; издательство Мирманова – 50. Всего же 42 частных издательства представили здесь 1349 названий. А ведь были ещё кооперативные или акционерные издательства. Наиболее крупным из них было акционерное издательство «Земля и фабрика», созданное в 1922 году; оно выпускало оригинальную и переводную беллетристику, а также журналы. В августе 1922 года возникло кооперативное издательство «Круг», известное так же как «Издательство артели русских писателей». В его правление входили И. Бабель, А. Весёлый, Б. Пастернак, Б. Пильняк…
В 1923 году вышли поэтические сборники И. Анненского – «Посмертные стихи», Н. Асеева – «Избранное», Н. Гумилёва – «Посмертный сборник», В. Казина – «Рабочий май», О. Мандельштама – «Вторая книга», В. Маяковского – «Про это», П. Орешина – «Ржаное солнце». Как видим, авторы всё хорошие и разные. Проза была представлена такими произведениями, как «В тупике» В. Вересаева, «Мои университеты» М. Горького, «На куличках» Е. Замятина, «Петушихинский пролом» Л. Леонова, «Падение Дайра» А. Малышкина, «Русь» П. Романова, «Перегной» Л. Сейфуллиной, «Чапаев» Д. Фурманова, «Своя судьба» М. Шагинян, «Тринадцать трубок» И. Эренбурга и другие. Воистину это было время, когда, по словам М. Зощенко, «каждый свою хату в свой цвет красил».