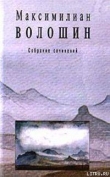Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 50 страниц)
Любовь воздай за меру мерой,
А злом за зло воздай без мер —
одна из самых страшных, «сатанических» традиций, утвердившихся в европейской морали (письмо к матери от 31 июля 1915 года), ибо зло возмещается не только тому, от кого пришло, но и его близким, и его соплеменникам, «и возмещается рукой щедрой, не считая…». Конечно, можно взглянуть на эту же тему в другом аспекте, впрочем, так ли уж в другом: «„Ненависть рас“ должна быть побеждена любовью к человеку» (из письма А. М. Петровой от 25 января того же года). Но история проходит мимо столь идеальных и не осуществимых в реальной жизни пожеланий…
27 января 1915 года немецкий линкор «Бреслау» обстрелял Ялту…
Не в силах укрыться от апокалиптических видений, поэт в октябре 1915 года пишет стихотворение «Армагеддон». Согласно Откровению святого Иоанна Богослова, при наступлении конца света именно в Армагеддоне разразится последнее сражение с участием всех земных царей. Воображению художника представляются жуткие картины, когда «Ангел выпивает шестую чашу и реки иссякают, из уст зверя выходят духи ЛЖИ, имеющие вид трёх жаб, и собирают царей и царства вселенной… для последней битвы всех времён…»
…Никогда такого запустенья
И таких невыявленных мук
Я не грезил даже в сновиденьи.
Предо мной, тускла и широка,
Цепенела в мёртвом исступленьи
Каменная зыбь материка.
И куда б ни кинул смутный взор я —
Расстилались саваны пустынь,
Русла рек иссякших, плоскогорья,
По краям, где индевела синь,
Громоздились снежные нагорья,
И клубились свитками простынь
Облака. Сквозь огненные жёрла
Тесных туч багровые мечи
Солнце заходящее простёрло…
Такие ассоциации возникали у поэта при взгляде на картину немецкого художника Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра Великого», хранящуюся в Мюнхенской картинной галерее, где Волошин побывал за несколько часов до начала войны. Таким представлялся ему её исход в Швейцарии, на «этом перекрёстке всеевропейской лжи», когда у писателя родилось ощущение «ввергнутости в ад».
…Но ясновидящая сила
Хранила мой беспечный век:
Во сне меня волною смыло
И тихо вынесло на брег…
(«Другу», 1915)
Стихотворения «Армагеддон», «Пролог», а также более ранние – «В эти дни», «Петербург», «Реймсская Богоматерь» – были написаны уже в Париже, куда поэт прибыл из Дорнаха в начале января 1915 года. Он находит свой любимый город «пустынным, строгим, замкнутым в себе». Никаких карнавалов, не чувствуется привычной праздничности…«…Лишь голос уличных певцов / Звучит пустынней и печальней. / Да ловит глаз в потоках лиц / Решимость сдвинутых надбровий, / Улыбки маленьких блудниц, / Войной одетых в траур вдовий…» В парижском небе зависли цеппелины, новоисторгнутые человеком демоны, драконы с «серо-жёлтой чешуёй… на брюхе», вызванные к жизни немецким конструктором графом Ф. Цеппелином и активно применявшиеся в ходе мировой войны. Однако Волошин смотрит в небо глазами художника, а не военного. Висящий в созвездии Тельца дирижабль напоминает ему ствол дорической колонны. Ужасы войны не заслоняют от него звёзд Кассиопеи, а «взрывов гул» и «ядр поток»
Ни звёздной тиши, ни прохлады
Весенней – превозмочь не мог.
(«Цеппелины над Парижем», 1915)
Жизнь – и, что характерно, творческая жизнь – не останавливается и в годы войны. Волошин живёт у Бальмонта «в очень маленькой и полутёмной комнате», занимается в Национальной библиотеке («Дух готики» не отпускает его), шлифует рисунок в Академии Коларосси, часто посещает галерею эстампов, увлекается японской гравюрой, пишет стихи и статьи. Он, по определению Бальмонта, «по-прежнему мил, болтает вычурно, но умно»; «в нём есть умственная свежесть»; а ещё позднее: «С Максом всё время в магнетическом токе бесед». И удивляться здесь нечему, поэт и художник всегда белая ворона. «На вопрос, что нового в литературе, – вспоминает Волошин, – на вас смотрели с удивлением и отвечали: „Литература… разве она ещё существует?“» Поэту больно оттого, что Франция «в порыве безрассудного героизма кинула в жерло войны весь цвет своего молодого поколения. Она поставила в первые ряды своих писателей, художников, поэтов, она сама обрекла их на ненужную гибель, во имя того республиканского равенства, перед которым мясник и бьёт всей тяжестью по художнику…».
Но даже и в эти тяжёлые дни поэт не поддаётся депрессии. Он преодолевает «мертвенную пустоту»; вокруг него вновь закипает творческая жизнь. Уже в начале 1915 года он сближается с О. Редоном, часто встречается с И. Эренбургом; по весне в орбиту его жизни входят Л. Бакст и П. Пикассо. В компании с М. Воробьёвой-Стебельской (Маревной), И. Эренбургом, Б. Савинковым и Д. Риверой Волошин наведывается в кафе «Купол» и в знаменитую «Ротонду» (средоточие монпарнасской богемной жизни), где ведутся беседы об искусстве, реже – о политике. Бывают здесь и Ж. Брак, А. Матисс, Б. Сандрар…
Маревна (прозванная так Горьким за то, что напоминала ему героиню русских сказок) довольно колоритно описала свою компанию: «Волошин был низкорослым, плотным и широким, с большой головой, которая выглядела ещё крупнее из-за обильных волос, длинных и волнистых. Его глаза, светившиеся интеллектом, казались на его полном лице меньше, чем были на самом деле. Нос был прямым, а усы прятали маленький рот с плотно сжатыми губами; зубы – небольшие и безукоризненные. Голова его выглядела львиной, в то время как голова Эренбурга напоминала мне о большой обезьяне. У Волошина были короткие руки и, как и у Ильи, маленькие кисти; но руки Ильи были так малы и хрупки, что походили на женские. Когда они вместе шествовали вниз по улице де ля Гаэт, одной из наиболее людных на Монпарнасе, где прохожие и дети шутили, играли и шумели, кто-нибудь, посмотрев на них, говорил: „Эй, взгляни-ка на этих двух больших обезьян!“»
Не менее живописен был и Диего Ривера, оставивший истории три портрета Макса в стиле кубизма. Они были закончены зимой 1916 года – огромная голова поэта (примерно метр на полтора) и два изображения в рост, на холсте и на пробковом подносе. На подносе осталась надпись: «Милому другу, с которым я связан любовью и которому обязан многими прекрасными песнопениями». Ривера «был настоящим колоссом. Подобно Волошину, он носил бороду, но покороче, окаймлявшую его подбородок небольшим и даже опрятным овалом. Наиболее заметны на лице мексиканского художника были глаза, большие, чёрные, косо поставленные, и нос, который анфас представлялся коротким, широким и утолщённым на конце, а в профиль был орлиным…. Маленькие усы прикрывали его верхнюю губу, придавая ему вид сарацина или мавра. Друзья говорили о нём как о „добродушном людоеде“… В довершение всего, Ривера надевал широкополую шляпу и носил огромную мексиканскую трость, которой привык размахивать». А вот – волошинское восприятие мексиканца: «Ривера. Огромный, тяжёлый. Надбровные дуги крыльями. Короткие, жёсткие, чёрные волосы по всему черепу пучками, вместительному, но местами смятому и вдавленному… Лицо портретов Стендаля, тяжёлое и значительное. Добрый людоед, свирепый и нежный; щедрость, ум, широта в каждом жесте». Потомок военных, с детства изобретающий машины, увлекавшийся математикой, физикой и химией, но остановивший выбор на чертеже, который и привёл Риверу к оригинальной манере живописи… Диего был женат вторым браком на русской художнице, Ангелине Михайловне Беловой…
И, наконец, Борис Савинков, эсер, один из руководителей «Боевой организации», организатор ряда террористических актов, писатель (псевдоним В. Ропшин). Крайне радикальный в политике, весьма консервативный в отношении к искусству, он нечасто показывался на публике в компании с эксцентричными художниками. Савинков «был среднего роста, прямой и стройный; его лицо было вытянутым и узким, а голова почти лысой. Лёгкие морщинки вокруг глаз уходили к вискам, как у казанских татар. Прямой нос, тонкие губы. Когда он говорил, глаза щурились ещё больше, оставляя его испытующему ироническому взгляду только щелку меж век, почти лишённых ресниц… В „Ротонде“ и всюду его звали „человек в котелке“. Большой зонтик, другой неразлучный компаньон, обычно свешивался с его левой руки». А вот – волошинский «Ропшин» (стихотворение из цикла «Облики»):
Холодный рот. Щеки бесстрастной складки
И взгляд из-под усталых век…
Таким сковал тебя железный век
В страстных огнях и бреде лихорадки.
Борис Савинков – порождение своего времени, эпохи вывихнутых представлений о морали. Однако Волошин по-своему симпатизирует этому нынешнему боевику и рыцарю «времён последних Валуа». Столь далёкий от Савинкова по своему мировоззрению, Макс мифологизирует кровавого эсера. Он ассоциируется у поэта с символическим животным (олень, лось), фигурирующим в легендах и германских исторических преданиях, хотя и не мыслимым вне России. Бунт и обречённость, кровь и смирение. Дерзкий террорист с трепетной душой…
Но сквозь лица пергамент сероватый
Я вижу дали северных снегов,
И в звёздной мгле стоит большой, сохатый,
Унылый лось – с крестом между рогов.
Таким ты был. Бесстрастный и мятежный —
В руках кинжал, а в сердце крест:
Судья и меч… с душою снежно-нежной,
На всех путях хранимый волей звезд.
В Париже Савинков пока ещё воспринимался как легендарная фигура. В гостиных, отмечает Маревна, его «рекомендовали как человека, „который убил великого князя Михаила“ (Б. Савинков участвовал в убийствах министра внутренних дел В. К. Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. – С. П.); женщины из общества были потрясены и бегали за ним», правда, иногда кое-кто спрашивал с недоумением: «Почему он ведёт себя так важно, когда всё кончено для него в России?» Макс же, как казалось автору воспоминаний, восхищался Савинковым: «Он сказал мне однажды: „Маревна, я хочу представить тебе легендарного героя. Я знаю, ты питаешь интерес к экстраординарному и сверхчеловеческому. Этот человек – олицетворение всяческой красоты, ты страстно его полюбишь“». Да, Макс есть Макс – восторженный по отношению к людям, проницательный в восприятии событий. Что же касается Маревны, то поначалу Савинков ей совсем не понравился. Он приходил к ней побеседовать, читал свою повесть «Конь блед» («Конь бледный», в которой ощущаются усталость от жизни и разочарование в террористической деятельности) и в результате произвёл «впечатление одинокого, отрешённого и гордого человека».
Судя по всему, художник Ривера Маревне был ближе – по духу, по характеру. (В дальнейшем их отношения перейдут в разряд самых близких.) Она вспоминает, как однажды, на какой-то вечеринке, мексиканец втолкнул её в отдельную комнату и приготовил питьё, добавив в бокал по нескольку капель их крови. Он объяснил, что это древний индейский обычай – таким образом люди становятся родными на долгие годы, на вечность. «Вошедший Волошин увидел наш поцелуй над кубком и тоже захотел выпить мексиканской крови, смешанной с его собственной, русско-германской. Он сказал, что никогда не пил крови, кроме той, которую он сосал, порезав палец. Они исполнили тот же ритуал – и внезапно мы все примолкли: возможно, мы попали под обаяние Риверы, колдуна или жреца. Вернувшись в гостиную, мы отказались сказать, что делали, хотя нам говорили, что мы выглядели совершенно счастливыми… „Они, очевидно, пили любовный напиток“, – сказал Эренбург».
Илья Григорьевич Эренбург также оставил интересные воспоминания о Волошине в своей книге «Люди, годы, жизнь». Кстати, это были чуть ли не первые сведения о поэте, с которыми мог познакомиться советский читатель: «В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским; он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли себя на кострах… о террористах, о белых ночах Петербурга, о живописцах „Бубнового валета“, о юродивых Древней Руси… У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он умел и любил… Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор, аптекарь Сиволапов, давал девушке (очевидно, М. П. Кювилье. – С. П.), которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль и говорил, что это яд из Индонезии… Он обладал редкой эрудицией; мог с утра до вечера просидеть в Национальной библиотеке, и выбор книг был неожиданным: то раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Ланжевена над ионизацией газов, то сочинения Сен-Жюста. Он был толст, весил сто килограммов; мог бы сидеть, как Будда, и цедить истины; а он играл, как малое дитя. Когда он шёл, он слегка подпрыгивал; даже походка его выдавала – он подпрыгивал в разговоре, в стихах, в жизни».
Волошин казался Эренбургу величайшим выдумщиком. Вероятно, поэтому Илья Григорьевич со временем охладел и к поэзии, и к эстетике Макса – он перестал замечать в них серьёзное, глубинное, опасаясь быть в очередной раз одураченным. Каждый раз, вспоминает Эренбург, Волошин приходил с новой историей. То он отказывался есть бананы, поскольку, как установил какой-то австралийский исследователь, яблоко, погубившее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а этим самым бананом. У антиквара на улице Сэн Макс нашёл один из тридцати серебреников, которыми был соблазнён Иуда…
Вообще же, иногда шутки Волошина граничили с величайшими прозрениями, и надо было обладать незаурядным вкусом, эрудицией и чувством юмора, чтобы суметь здесь правильно расставить акценты. У Эренбурга, очевидно, такого желания не было, хотя некоторые вещи он подметил точно: Волошин «встречался с самыми различными людьми и находил со всеми нечто общее; доказывал А. В. Луначарскому, что кубизм связан с ростом промышленных городов, что это – явление не только художественное, но и социальное; приветствовал самые крайние течения – футуристов, лучистое, кубистов, супрематистов и дружил с археологами, мог часами говорить о вазе минойской эпохи, о древних русских заговорах, об одной строке Пушкина. Никогда я не видел его ни пьяным, ни влюблённым, ни действительно разгневанным… Всегда он кого-то выводил в литературный свет, помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских литературных журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами новых русских поэтов».
А вот глаза у Макса, вспоминает Эренбург, были хотя и приветливые, но какие-то отдалённые. «Многие его считали равнодушным, холодным: он глядел на жизнь заинтересованный, но со стороны. Вероятно, были события и люди, которые его по-настоящему волновали, но он об этом не говорил; он всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было».
Близкий всем, всему чужой…
А Волошин в это время расширяет свой круг знакомств. Он сближается с князем В. Н. Аргутинским-Долгоруковым, искусствоведом, представляющим в Париже интересы журнала «Мир искусства», встречается со скульптором О. Цадкиным, часто заходит в «салон» к супругам Цетлиным. Это были состоятельные люди; им, в частности, принадлежала чайная фирма Высоцкого. Михаил Осипович Цетлин – поэт, писавший революционные стихи под псевдонимом Амари, был, по воспоминаниям Эренбурга, «тщедушный хромой человек, утомлённый неустанными денежными просьбами. Жена его была более деловой». Мария Самойловна – очень красивая женщина, политэмигрантка, эсерка, доктор философии. Именно ей посвятил Волошин одно из самых проникновенных своих стихотворений – «Реймсская Богоматерь». Все вместе они посещают мастерскую Пикассо, бывают на представлениях гастролировавшего тогда в Париже «Русского балета» Дягилева.
Сегодня может показаться, что гастроли эти были не к месту и не ко времени. Волошин придерживался иной точки зрения. «Когда война тянется годы, когда фабрика войны превращает смерть в ходовой рыночный товар, замедленный жест отчаяния превращается в застывшую театральную позу», – пишет он в статье «Русский балет во время войны». К тому же люди остаются людьми, и их потребность в развлечении (или отвлечении) в любом случае удовлетворяется, часто – «подделками и суррогатами». Ориентируясь на репертуар «для солдат в отпуску», искусство себя дискредитирует, считает Волошин. Так же, как дискредитируют себя журналисты, которые «ради траура, пишут патриотические пошлости», талантливые писатели, которые «отказываются от индивидуальности чувства и самостоятельности мысли и налагают на себя эпитимью – писать ежедневно банальности. Газеты вместо правды, ради траура, самоотверженно лгут». (Из стихотворения «Газеты»: «Ложь заволакивает мозг / Тягучей дрёмой хлороформа / И зыбкой полуправды форма / Течёт и лепится, как воск. / И гнилостной пронизан дрожью, / Томлюсь и чувствую в тиши, / Как, обезболенному ложью, / Мне вырезают часть души».) Волошин, безусловно, высказывает здесь мысли дерзкие и приводит факты, как сказал бы Б. Шоу, для многих «неприятные». Поэт находит повод сослаться и на такого знатока психологии парижан, как Наполеон, который никогда не забывал об искусстве развлечения и, дабы парижане как можно меньше думали о войне, император «из отдалённых столиц Европы диктовал программы парижских увеселений и зрелищ.
Поэтому Дягилеву нетрудно было убедить парижан в том, что спектакль русского балета вовсе не нарушает национального траура». Балет «Полуночное солнце», поставленный Л. Мясиным на музыку из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», имел большой успех, несмотря на тяжёлые военные условия и отсутствие главных солистов балета – В. Нижинского и Т. Карсавиной. Большую популярность в Париже приобрёл художник-постановщик спектакля М. Ларионов. В этом отношении он мог конкурировать с самим Л. Бакстом, уже успевшим создать в столице Франции «моду, школу, вкус». (К этому следует лишь добавить, что театральные сборы шли в пользу английского Красного Креста.)
Заслуживает внимания посещение мастерской П. Пикассо, на улице Фруадево, против Монпарнасского кладбища, Волошиным, Эренбургом, Савинковым и прочей компанией – в художественном изложении М. Воробьёвой-Стебельской: «Мы были у его двери в 11 часов. Он открыл сам, одетый в полосатый – голубое и белое – купальный костюм и котелок. Он заставил нас заглянуть во все комнаты (а их было множество), приспособленные служить фоном для его натюрмортов и портретов. В них ничего не было – только рисунки повсюду, и холсты, и кучи книг, загромождавших столы и стулья. Пол был выстлан перепачканными расписными ковриками, сигаретными окурками и кипами газет. На большом мольберте стоял холст, большой и таинственный… Никто сначала не рискнул спросить, что там изображено, из опасения попасть впросак. Так мы стояли, почтительные, молчаливые, поневоле ошеломлённые силой и фантастичностью Пикассо, который, уже поразив нас своим полосатым купальником, продолжал гнуть ту же линию. Один Волошин не потерял своего поэтического любопытства и спросил:
– Что представляет эта картина, мэтр?
– О, ровно ничего, – ответил Пикассо, улыбаясь. – Между нами… это просто дерьмо – специально для идиотов.
– Спасибо, спасибо, – сказали Волошин и Эренбург.
– Не думайте, что я сказал это ради вас, дорогие господа, – продолжал Пикассо. – Вы – совсем другое дело… хотя я часто должен работать на дураков, которые ни черта не смыслят в искусстве, и мой торговец всегда просит меня делать что-нибудь для ошарашивания публики».
М. Волошин так же тесно общается со многими яркими представителями европейского, преимущественно французского, искусства. В упоминавшейся компании появляются художник А. Модильяни, который, как пишет Маревна, «был уже хорошо известен своими скульптурами… и был также знаменит своей слабостью к кокаину, гашишу и бутылочке», человек, широко начитанный, абсолютно бескорыстный и непрактичный, поэты Г. Аполлинер и Ф. Леже, поэт и художник Макс Жакоб… Все они – выразители самых передовых веяний культурной жизни. Однако русский поэт, человек с уже сложившимися эстетическими взглядами, хотя и открытый самым различным художественным течениям, весьма спокойно относится к авангардистским исканиям своих новых знакомых. Ему по-прежнему близко искусство О. Редона, одного из крупнейших представителей символистской живописи, творчеству которого он посвятил две статьи.
Находясь во Франции, Волошин много размышляет о её истории, сквозь призму которой воспринимает день сегодняшний. Как уже говорилось, Париж привлекал Макса тем, что даже в самые кризисные моменты, вопреки «пароксизмам отчаяния и бешенства», он всегда оставался самим собой: «…в то время как в переулках строились баррикады, рядом на бульварах в кафе люди, как всегда, читали газеты, спорили о политике; когда в 1871 году шла бомбардировка укреплений, театры в середине города были переполнены, а лучшие умы эпохи – Ренан, Тэн, Гонкуры – вели в кафе Brabant тонкие, умные, скептические беседы». Ныне же Париж изменился. Он стал весь «как рука, сжатая от боли». Что ждёт его впереди?..
Париж! Париж! К какой плывёт судьбе
Ладья Озириса в твоём гербе
С полночным грузом солнечного диска?..
(«Lutetia Parisiorum», 1915)
Анализируя ситуацию на Западе, «где противники, крепко ухватившись и тесно сблизив лица, уже в течение двадцати месяцев смотрят друг на друга в упор, глаза в глаза», Волошин задумывается о противостоянии Запада и Востока, Германии и России. На Западе, пишет он в статье «Франция и война», «противники сражаются равным оружием. Это оружие – скорость: проявляется ли она в скорострельности и дальнобойности орудий, в быстроте ли перевоза войска и подвоза снарядов… Сила же России в том, что напряжённым скоростям Германии противопоставляются стихийные силы инертности: будь то пространства, распутицы, болота, бездорожье, беспечность. Сила России лежит в её хаосе, беспорядке». Поэт находит также различия в «военной психологии» России и Франции, связанные со спецификой национального характера: «Латинский дух отличается от славянского исторической насыщенностью и способностью быстрой кристаллизации (то именно, что во французском искусстве сказывается чувством формы)». Плюс к этому «остроумие практического разума». Благодаря этим свойствам «Франция могла позволить себе все капризы своей истории безнаказанно». Про Россию, увы, такого не скажешь. Впрочем, самые трагические события в её истории ещё впереди. Пока же Волошин переживает за самую величайшую драгоценность Европы – её чувство, её мысль, её цветок – французское искусство. Он понимает, что война не может не сказаться на литературе 20–30-х годов, «когда мечта Европы окажется лишённой крыльев, а мозг обескровленным».
Рождается цикл стихов «Пламена Парижа» – поэтическое осмысление болевых точек французской истории. Неотступные мысли о событиях, назревающих в России… И ещё. Сквозь видимое на поверхности, сквозь желание остаться «над схваткой» подчас прорывается подспудное, сокровенное: «Единственное желание» в этой войне – «это чтобы Константинополь стал русским» (из письма А. М. Петровой от 16 апреля 1915 года).
А история равнодушна и жестоко-беспристрастна к нравственным исканиям и приоритетам художника. Немецкие аэропланы над Парижем, в районе Пасси… Если же взглянуть северо-западнее. – всё те же «Грозды людские / В точиле гнева…». 24 апреля 1915 года в Ирландском море германской подводной лодкой был потоплен пассажирский (!) лайнер «Лузитания». Погибли 1198 человек… «От каких планетных ураганов / Этих волн гранитная гряда / Взмыта вверх?..» Кто ответит на этот вопрос?
Однако жизнь продолжается… Волошину, как всегда, не сидится на одном месте. Цетлины приглашают его на свою виллу в Биарриц (та самая вилла, где В. Серов писал портрет Марии Самойловны), и 29 июня поэт садится на поезд. Чуть раньше туда же отбывает Маревна…
Марию Брониславовну Воробьёву-Стебельскую Волошин считал очень талантливой художницей; он уважал её как «чистую, правильную» личность, ценил в ней «сильный, оригинальный», подчас несносный, характер, хотя и признавал, что эта девушка – «страшно изломанная и измученная и детством, и обстоятельствами жизни, беспризорная, нервная, больная…». Маревна также с симпатией относилась к «поэту-теософу», в своих воспоминаниях называла его «другом»; ей нравилось то, «что он был крайне свободомыслящим и отстаивал свободу других столь же страстно, как свою собственную». Естественно, сближали этих людей и художественные вкусы. Макс, как считала Маревна, «обладал большими способностями к рисунку и живописи и делал тысячи пейзажей акварелью. Он не уставал писать воображаемые горы и утёсы, закутанные в фантастические облака; равнины с бегущими реками; курчавящиеся леса, чьи корни и ветви напоминали человеческие существа».
В Биаррице поэт ощутил столь редкое за последнее время ощущение покоя. Здесь – «тихо, хорошо, безлюдно». Волошин подолгу стоит у моря, смотрит, как на берег накатываются громадные волны, иногда рисует их, стоя у окна. Неуправляемая морская стихия и завораживает, и пугает. Его гложут какие-то тревожные предчувствия, хотя… пока что «за Россию тяжело, но… не страшно», – пишет он в Ниццу Савинкову. И всё же, делится поэт своими чувствами с матерью, «война и русские неудачи всё время… в подсознании». Ещё совсем недавно, предлагая «Биржевым ведомостям» подготовить серию очерков о том поколении, которое «сейчас во Франции ведёт войну», художник поймал себя на мысли, что рано говорить об исходе; уверенность многих в том, что война кончится в мае, сменилась убеждением, «что война только начинается». Да и здесь, в Биаррице, несмотря на кажущуюся идиллию, ощущается дыхание войны: царит шпиономания; перед тем как выйти на прогулку, надо брать особый пропуск. А уж о том, чтобы порисовать с натуры, нечего и думать. Впрочем, это Макса волнует меньше всего – ещё в Дорнахе, как помним, он усвоил манеру писать по памяти.
«В те два месяца, что я провела с Волошиным… в Биаррице, в гостях у друзей, – вспоминает Маревна, – я была крайне озадачена, наблюдая за ним каждый день в его комнате за одним из тех пейзажей, что могут только присниться.
– Как ты делаешь это? – спросила я.
Он взглянул на меня сквозь стёкла, и его маленькие серые глаза блеснули озорством.
– Ты хочешь узнать мой секрет?
Он признался мне, что… сминая листочки папиросной бумаги, делал миниатюрные модели своих поразительных пейзажей. Бумага эта, смятая особым образом, создавала мягкие, обтекаемые склоны, среди которых пятна тумана плавали подобно перьям. К этим моделям подходили болота, ручьи, стоячая вода и низкие, вздувшиеся облака; когда же он брал плотную бумагу, это создавало горы, вздымающиеся крутыми, заострёнными утёсами, с устрашающими пропастями. Вершины были покрыты облаками, и кое-где луч солнца просачивался сквозь них и зажигал один угол мрачной скалы, придавая дантовскую таинственность всему ландшафту…»
В те летние недели Макс очень сблизился с этой «маленькой ведьмой», шаловливой, непоседливой, иногда загульной художницей, которая срывалась то на Пиренеи, то в Париж, снова возвращалась в Биарриц, к поэту. Волошин же увлечён работой. Он переводит «Окровавленную Бельгию» Э. Верхарна, немало удивляясь антигерманской позиции автора (книга Верхарна – «свидетельство великого раскола европейского духа»), не забывает и о собственных стихах. «Макс, – вспоминает Маревна, – писал прозу, стихи и одну или две акварели каждый день. Он был очень внимателен ко мне, и я его привлекала… Я проводила дивные часы, слушая его рассказы, пока не засыпала. Наши разговоры вращались вокруг искусства, мира, души и Бога. Они начинались дома, продолжались на прогулках и в кафе. Он был человеком учёным, тонким и одновременно забавным… Увы, мой характер – настоящий винегрет: сейчас – маленькая, робкая девочка, через минуту – хулиганка…» Впрочем, Волошин, как обычно, проявлял терпение и верность своему чувству. Уже в сентябре, вернувшись в Париж, Маревна напишет Максу: «Дорогой мой и, думаю, единственный дружище! Всё-таки я тебе здорово мешала там, а? Ну, зато теперь ты можешь наслаждаться тишиной…»
По поводу «единственного» Мария Брониславовна, похоже, скромничает, а вот то, что «привлекала» и насколько… Впрочем, воздержимся от комментариев. Если верить Маревне, перед её отъездом в Париж у неё с Максом произошло объяснение. Она сказала поэту, что здесь её работа совсем не двигается.
«– Подожди немного, – ответил он. – Никто тебя не гонит, и ты со мной.
Но я не могла остаться надолго, и, наконец, однажды Макс проводил меня на вокзал.
– Что за странная девушка, право! – сказал он. – Здесь ты живёшь в роскоши. Обеспечена всяческим комфортом, под рукой отличная библиотека – всё, включая верного друга. А ты бежишь, как будто за тобой гонятся!
– Возможно, так оно и есть, – отвечала я.
– Кто же это?.. Во всяком случае, не я. Ты можешь вести себя, как сочтёшь нужным. Пока ты во мне не нуждаешься, я шагу не сделаю к тебе. Ты знаешь, как я тебя люблю, но я никогда не стану тебя преследовать. Остерегайся других, если так дорожишь своей свободой… Пиши и давай знать, в чём будешь нуждаться в Париже, не сиди без денег. Как только я вернусь, я подумаю, как тебе помочь в твоей работе…
Мы расцеловались. Я оставляла очень доброго своего друга, часто баюкающего меня на руках, друга, с которым я вела себя так, как будто была его дочерью, но который, как я знала, был влюблён в меня…» Ну что ж, сохраним это многоточие и мы. Добавим лишь, что в Париже многие считали Маревну женой Макса; по словам художницы, поэт настойчиво звал её в Россию, в Крым, но её отговорили… другие художники, в частности Пикассо, Ривера, да и просто хорошие знакомые, «дружищи».
Ну а Волошин в начале октября 1915 года осуществляет свою давнюю мечту: вновь посещает Испанию. Сан-Себастьян, Виктория, долина Эбро, Бургос… Он много и с наслаждением рисует: равнины, горные пейзажи, монастыри. Бургос его потрясает – это «исступлённый крик среди пустынных плоскогорий». На обратном пути «через Бискайю» Макс заезжает в замок Лойол – на родину Игнатио Лойолы, основателя ордена иезуитов. Восемь дней пролетели незаметно. «Единственные дни вне войны». Волошин вполне удовлетворён поездкой: он «бродил по диким плоскогорьям, ночевал в дон-кихотских постоялых дворах», а главное – пытался «зарисовать всё, что видел». Вернувшись в Биарриц, художник «дорисовывает» виденное в Испании («23 кв. метра акварели») – спрессованные за короткий срок впечатления начинают «разрастаться» и воплощаться в полном объёме.
И, наконец, опять Париж – Эренбург, Бакст, Цетлины, ну и, конечно, Маревна… Максом совершенно очарована поэтесса Мария Шкапская, которая делится своими впечатлениями с Эренбургом: Волошин «такой милый, широкий, медвежистый», с ним «должно быть верно, надёжно и уютно». Чуть позже, после чтения стихов друг другу, она признается самому поэту: «Вы такой большой и уверенный в своей комнате – не жрец Неведомого, но крепкого и верного Бога». Похоже, литературно-богемная жизнь в Париже входит в свою колею: Цетлины проводят вечер поэзии, Шкапские – заседание кружка «Русская академия на Монпарнасе». Среди участников – Н. Альтман, Н. Ангарский, В. Инбер, А. Луначарский, М. Талов, И. Эренбург, М. Волошин и другие. Да, Париж, судя по всему, привык к войне. Это отмечают и газеты: «появились моды», печатаются отчёты об уголовных процессах, открылся Салон хризантем, почти все театры функционируют, метро работает до полуночи… Но Макса «томит» память; его дух по-прежнему «разодран»: он не может забыть, что на Марне погиб «большой талант», поэт и издатель Шарль Пеги, что всего на этой войне полегло 230 молодых поэтов.