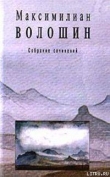Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 50 страниц)
Земля и небо. Реальное и сверхчувственное. И не всегда то и другое – в гармонии. Волошин «захвачен» оккультизмом. Читает «Эзотерический буддизм» англичанина Э. П. Синнета. Но – подчиняет «живая жизнь», разрывает сердце. Он, как тут ни крути, один. В пространстве четырех измерений. Но он – поэт. К тому же – обуреваемый чувствами: «Днём – огненная грёза об Вайолет, потом вечером около Сены – грусть, светлая и бесконечная… И они обе живут во мне, и я могу примирить, допустить М. при W., но при М. В. не допускаю Wiolet». Какие откровения могут наставить на путь истинный, разобраться в ощущениях?.. Но он – поэт. И вот – рождается. Кому посвящено? Ей, ирландке:
Если сердце горит и трепещет,
Если древняя чаша полна… —
Горе! Горе тому, кто расплещет
Эту чашу, не выпив до дна.
В нас весенняя ночь трепетала.
Нам таинственный месяц сверкал…
Не меня ты во мне обнимала.
Не тебя я во тьме целовал.
Нас палящая жажда сдружила,
В нас различное чувство слилось:
Ты кого-то другого любила,
И к другой моё сердце рвалось.
Запрокинулись головы наши,
Опьянились мы огненным сном,
Расплескали мы древние чаши.
Налитые священным вином.
И тут же посылает тёплое письмо Маргарите, а она – ответ: «Я Вас люблю теперь гораздо, гораздо больше, мой милый, мой бедный Макс Александрович!» Ну а Макс Александрович в приподнятых чувствах направляется в масонскую ложу делать доклад на тему «Россия – священное жертвоприношение». Он читает, а вокруг него – бледные лица, огромные шишковатые лбы, морщины, бороды. Повисла мертвенная тишина… Как всё-таки ему не хватает Маргариты… Но вот он уже снова у Сены:
…И арки чёрные и бледные огни
Уходят по реке в лучистую безбрежность.
В душе моей растёт такая нежность!..
Как медленно текут расплавленные дни…
И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мёртвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой.
Тем временем с Теософского конгресса возвращается Анна Рудольфовна Минцлова. Они вновь гуляют, беседуют о конгрессе, о тамплиерах, о связи обоняния с воспоминаниями. Здесь есть о чём задуматься: «Зрение человека – продолжение осязания. У животных это место занимает обоняние. В нём связь самых старых свитков мозга. Масса ассоциаций… Тамплиеры при посвящениях прибегали к ароматам. Это была целая система…» Макс и Анна Рудольфовна сидят в её комнате. Она держит его за руку, и поэт ощущает ток, простреливающий до самого локтя. В местах прикосновения её пальцев порой возникает острая боль. Разговор перемежается молчанием и «полусловами». Минцлова говорит с укором: «…Вы не обращаете внимания не только на других, но и на самого себя. Своего дара вы совершенно не цените и относитесь к нему небрежно. У вас нет счастья оттого, что вы пишете, можете писать такие стихи. Бальмонт счастлив от этого. У вас же счастья не написано».
Возможно… Хотя – какого счастья? Ведь сколько раз он уже возвращался к этой теме! Если синоним счастья – благочувствие, то это счастье – низшего порядка, которое неизбежно основано на несчастье других. Нет, счастье – боль, и надо благодарить того, кто нечаянным ударом по камню выявит её живой источник. А ещё – крутятся в памяти слова Сольвейг: «Ты не сделал ничего плохого, ты только превратил мою жизнь в песню». Скажет ли кто-либо ему нечто подобное?.. Однако эти размышления прерываются очередным умозаключением Анны Рудольфовны: «С такой рукой вы могли бы быть монахом. Ваша чувственность – это головное исключительно». Поэт вернулся домой в каком-то странном экстазе. Перечитал последнее письмо Сабашниковой, встал на колени, прижался лбом к полу. Почему-то именно сейчас пронзили её слова: «Ведь я для Вас была только ухом. Вы никогда не интересовались, как я переношу жизнь, как проходит день и ночь…» Неужели это действительно так? Но ведь ему казалось…
Да, ум и сердце существуют в разных сферах. Проживают разные жизни, общаются с разными людьми. Одна жизнь – для земного счастья, другая – для горького познания. В сумерках накатывается сон. Ему мнится: «Глаза с детскими и старческими веками. Веки натянутые, обведённые резкой линией, разрезаны наискось. Губы горькие и знающие. Их поцелуй прожжёт сердце холодным и острым пламенем. Глаза, которые смотрят в зеркало и получают ответный луч. Женское лицо, притягательное и горькое. Дева-полынь. А с обратной стороны её покрывало приподнято и видна голова старика – грустное познание». Откуда это? Кажется, похоже на фрагмент гробницы герцога Бретонского из Нантского собора. А видел он это, очевидно, в Музее слепков Трокадеро…
А ведь и Анне Рудольфовне грозит опасность. Опасность – от познания… или особого проникновения в жизнь, в запредельное. Во всяком случае, её дар не помогает жить здесь, не служит опорой в нашем трёхмерном бытии. Со страхами, приходящими «оттуда», она порой не в силах бороться. Более того: она паникует, ищет проводника в земной, солнечный мир. Волошин пишет в дневнике о «страшном вечере» 8 июля, когда Минцлова получила письмо от Штейнера (на этом имени пока не будем останавливаться), который потребовал, чтобы она никуда не выходила одна, без надёжного человека.
– Я не пойду без вас. Но после вы пойдёте. Вы пойдёте, что бы там ни было? Это очень страшно, может, смерть… Пойдёте? – вопрошает она.
– Да, – отвечает поэт, ещё не вполне понимая, на что он даёт согласие.
И вот они сидят в тёмной комнате – испуганная, поникшая «Сивилла» и поэт, который ещё не знает, как себя в данном случае вести: учиться, внушать или уйти в тень, оттуда издать «глас вопиющего в пустыне»… Нет, пока ещё нет, – просто понять, посочувствовать и помочь…
В тот вечер всё решилось скорее на интуитивном уровне. Она:
– Снимаю с вас всякую пыль жизни (Минцлова не может отказаться от своего амплуа).
– Вас никто не ласкал в детстве? Нет? Да, вы испытали слишком мало ласки… – мягко говорит Волошин, думая о своём.
Кто из них сейчас – психолог, кто – мистик, кто – педагог?..
– Нет, останьтесь со мной до одиннадцати вечера. Да? Останьтесь… и никуда не пускайте меня… свяжите мне руки… Вы никому не отдадите меня? Нет, никому не отдадите?
А ведь сколько ещё раз «недовоплотившийся» Волошин будет слышать подобный зов?.. И сколько раз будет помогать: «Я сидел над ней до глубокой ночи. Сердце моё было твёрдо и радостно. Я чувствовал в себе странную и радостную силу. Когда я касался её лба и глаз, она успокаивалась». Рука Волошина, его благостный, врачующий дар ещё только начинает приобретать свою силу. Прошла ночь, прошёл день и ещё двое суток. А дальше… а дальше Волошин и Минцлова решают посетить Руан, и не просто Руан: их цель – Руанский собор.
МИСТЕРИЯ ГОТИЧЕСКИХ СОБОРОВ
Сердце острой радостью ужалено.
Запах трав и колокольный гул.
Чьей рукой плита моя отвалена?
Кто запор гробницы отомкнул?
Воскресенье
11–12 июля 1905 года в жизни Волошина разыгрывается, по его выражению, «мистерия готических соборов». В сущности, был только один, Руанский собор, но его посещение отразилось и в творческом сознании, и в цикле стихотворений поэта «Руанский собор» (1906–1907). Несколько лет спустя он приступает к работе над книгой «Дух готики», которую, к сожалению, так и не завершил. Впрочем, интерес художника к Средневековью и, в частности, к средневековой архитектуре представляется весьма характерным явлением в искусстве и философии начала века. Эстетические принципы средневекового искусства – его синтетичность, целостность, универсальность, базирующаяся на всеобщей духовной идее – легко вписывались в культурные устремления поэтов Серебряного века, ощутивших, по словам Александра Блока, «ветер из миров искусства». Готический собор виделся как символ воссоединения этих миров.
Основную идею средневековой культуры чётко сформулировал русский историк и культуролог П. М. Бицилли в своей весьма популярной тогда, да и сейчас, книге «Элементы средневековой культуры»: «Руководящей тенденцией средневековья как культурного периода можно признать тяготение к универсальности, понимая под этим стремление, сказывающееся во всём – в науке, художественной литературе, в изобразительном искусстве, – освоить мир в целом, понять его как некоторое всеединство, и в поэтических образах, и в линиях, и в красках, и в научных понятиях – выразить это понимание. „Энциклопедичность“ – закон средневекового творчества. Готический собор со своими сотнями и тысячами статуй, барельефов и рисунков, изображающих… всю земную жизнь с её будничными заботами и повседневными трудами… всю историю человечества от грехопадения до Страшного Суда, является великой энциклопедией, „библией для неграмотных“…» Всеохватность готики, её просветительская функция и нравственный заряд, обращённость в мир, или, выражаясь изысканно-возвышенным языком Вячеслава Иванова, способность превратить «интимнейшее молчание индивидуальной мистической души в орган вселенского единомыслия и единочувствия», были близки самым различным деятелям литературы и искусства начала XX века.
Волошину средневековое мировосприятие казалось цельным и органичным, соразмерным в своей гармонической завершённости, а сама эпоха виделась лишённой неразрешимых противоречий между человеком и общественным устройством, знанием и верой. Дальнейшее развитие цивилизации, как считал художник, шло по пути утраты этой гармонии, высвобождения разрушительных, демонических сил, таящихся в машинах. «После веков великих воплощений наступают века развоплощения», – пишет он в книге «Дух готики».
Эта же мысль выражена поэтом в черновых набросках к эссе под названием «Символизм»: «В средневек<овье > было единое миросозерцание, из которого исходило всё. Там была точка зрения с солнца. Все вещи были освещены в упор, без тени… Перспектива располагалась кругами. Солнцем была Голгофа… И в этом трагическом свете мир располагался с нестерпимой чёткость<ю>, отчётливостью деталей, с геометрической стройностью». За этим, отмечает поэт в статье «Демоны Разрушения и Закона», приходит «громадное, неимоверное нарушение социального и морального равновесия». В стихах это выражено так:
Был литургийно строен и прекрасен
Средневековый мир. Но Галилей
Сорвал его,
Зажал в кулак
И землю
Взвил кубарем по вихревой петле
Вокруг безмерно выросшего солнца.
(«Космос»)
Волошин относится к той эпохе романтически и едва ли не ностальгически. Ему близка идея «анонимности», соборности (разделяемая, кстати, и Вяч. Ивановым) средневекового искусства. «Анонимное» и всенародное творчество, считал в то время поэт, должно прийти на смену индивидуалистическому самовыражению, характерному для искусства современности.
Средневековое зодчество Волошин считал идеальным выражением культуры той эпохи. Ему близка гармония земли и неба, камня и «горнего простора», статики и полёта, человека и Бога. Как и многих поэтов рубежа веков, средневековая готика привлекает Волошина своей способностью соединить в духе абстрактную идею и трепет жизни, космическую бесконечность и земную предметность.
«Руанский собор» открывается стихотворением «Ночь»:
Вечер за днём беспокойным.
Город, как уголь, зардел,
Веет прерывистым, знойным,
Рдяным дыханием тел.
Плавны, как пение хора,
Прочь от земли и огней
Высятся дуги собора
К светлым пространствам ночей.
В тверди сияюще-синей,
В звёздной алмазной пыли,
Нити стремительных линий
Серые сети сплели.
В горний простор без усилья
Взвились громады камней…
Птичьи упругие крылья —
Крылья у старых церквей!
За два года до появления «Ночи» теоретик искусства К. Эрберг писал: «…эти миллионы пудов гранита, вопреки всем неуловимым законам тяготения, летят стрельчатыми сводами готических соборов вверх, к свободным облакам!» (Цель творчества: Опыты по теории творчества и эстетике. М., 1913). У Волошина – «к светлым пространствам ночей». Гармония форм («дуги собора»), сливаясь с музыкой сфер («плавны, как пение хора»), исполнена сиянием немеркнущей в ночи Истины. Истины, «возносящей» в «горний простор» весь архитектурный ансамбль.
Сливаясь с душой поэта, собор как бы отторгает будничный, суматошный город, сравниваемый с горящим углем. Дважды повторяющийся в первой строфе «рдяный» («зардел»), ассоциирующийся со страстью, гневом, насилием, кровью, сменяется в третьей строфе определением «сияюще-синяя» по отношению к небесной «тверди», служащей полотном для космической азбуки, «звёздной алмазной пыли». Сияюще-синий цвет плавно перейдёт в лиловый, фиолетовый, преобладающий во «внутреннем» изображении храма («Лиловые лучи»):
О, фиолетовые грозы,
Вы – тень алмазной белизны!
Две аметистовые Розы
Сияют с горней вышины.
Дымится кровь огнём багровым,
Рубины рдеют винных лоз,
Но я молюсь лучам лиловым,
Пронзившим сердце вечных Роз…
В поэтическом «кадре» Волошина – розы, круглые окна собора, украшенные фигурным переплётом, впускающие в помещение мистический фиолетовый свет. Однако в католической эмблематике роза воспринималась как символ чистоты и райской святости и соотносилась с Девой Марией, «а её алый цвет (в отличие от красного и пурпурного, ставших реальными) был признан исключительным символом крови Христа (начиная особенно с XII–XIII веков)» (Похлёбкин В. Словарь международной символики и эмблематики). Отсюда – волошинское: «Дымится кровь огнём багряным».
Цветовой гамме Волошина отдал должное И. Анненский: «Право, кажется, что нельзя ни искусней, ни полней исчерпать седьмой полосы спектра, ласковее изназвать её, чем Волошин, воркуя, изназвал своих голубок-сестриц в лиловых туниках». Вместе с тем он упрекает Волошина в «красивости» и ставит ему в вину поверхностный эстетизм, некоторую легковесность в обращении с драматическим материалом готики, исключение из поля зрения трагических моментов в истории человеческого духа: «Сам я не был в Руанском соборе и не знаю расположения его двух роз. Но мне всё же хотелось бы не одной этой ласки и не только цветовых переливов. Я чувствую за этими „розами“ – как и за всякой христианской святыней – другую красоту, мученическую…»
В третьем стихотворении цикла «Вечерние стёкла» поэт ещё больше внимания уделяет символике света, а также магическому языку камня. Чаще других упоминается аметист, пьянящий «Венерин камень», выражающий романтическое настроение Волошина, – его возвышенную любовь к Маргарите Сабашниковой. «Мы были в одном соборе, – пишет ей Волошин, – где каменные колонны были пронизаны фиолетовым светом… И там, где фиолетовый переходил в розово-золотистый, – я видел, я знал, я чувствовал Вашу душу. И я помню, что я целовал фиолетовый сияющий камень и когда я наклонялся, то видел тень своей головы золотисто-зелёную, влажную, утопающую в лиловых лучах… Я молился за Вас, и моя молитва была благословением, и мне казалось, что душа моя, как маленький золотисто-прозрачный паучок, поднимается под гулкие, громадные, благословляющие суровым благословением жизни своды храма».
Жаждет поэт причаститься и «другой красоте, мученической», о чем говорят четвёртое и пятое стихотворения цикла («Стигматы» и «Смерть»).
Свет страданья, алый свет вечерний
Пронизал резной узорный храм.
Ах, как жалят жала алых терний
Бледный лоб, приникший к алтарям!
(«Стигматы»)
Всё же справедливости ради отметим, что «священные кораллы» стигматов не лишены некоторой эстетской остранённости, а «свет страданья» не достигает накала даже эллисовских строк:
Огненной стигмы кровавого знака
Жаждет так сердце больное…
Вдруг всё затихнет, и снова из мрака
Смотрит лицо восковое!
(«Ave Maria»)
…И вдруг происходит преображение привычных форм. «Гулкий камень» под ногами оборачивается «журчаньем вещих вод», пронзённый «острыми пилястрами» дух возносится над собором к иным мирам:
Под ногой сияющие грозди —
Пыль миров и пламя белых звезд.
Вы, миры, – вы огненные гвозди,
Вечный дух распявшие на крест…
(«Смерть»)
Художнику близка мысль об уподоблении собора человеческому телу, высказанная ещё Роденом и переосмысленная Мандельштамом в известной формуле «физиологически-гениальное средневековье», а также в стихотворении «Notre Dame» («Как некогда Адам, распластывая нервы, / Играет мышцами крестовый лёгкий свод»…). У Волошина это уподобление собора не только человеческому телу, женщине, но и душе наполнено христианско-эзотерической символикой, подчинено идее высокой жертвенности, смерти и воскресения. В стихотворении «Стигматы» читаем:
Вся душа – как своды и порталы,
И, как синий ладан, в ней испуг.
Знаю вас, священные кораллы
На ладонях распростёртых рук!
Ещё выразительнее эта тема звучит в шестом стихотворении («Погребенье»):
Здесь соборов каменные корни.
Прахом в прах таинственно сойти,
Здесь истлеть, как семя в тёмном дёрне,
И цветком собора расцвести!
Милой плотью скованное время.
Своды лба и звенья позвонков
Я сложу, как радостное бремя,
Как гирлянды праздничных венков…
Здесь уже ощутимо взаимоуподобление – поэта собору и собора поэту. Причащение земле (совсем недавно, 14 июня 1905 года, Волошин писал в дневнике: «Мне надо прикоснуться к груди земли и воскреснуть») оборачивается возрождением – в «цветке собора» – поэта, обретшего себя бога, о чём свидетельствует третья строка седьмого стихотворения («Чьей рукой плита моя отвалена?..»).
В этом, последнем, стихотворении цикла («Воскресенье») появляются
…В светлых ризах, в девственной фате,
В кружевах, с завешенными лицами,
Ряд церквей – невесты во Христе.
Не одиноко застывший католический храм, а шествующие церкви-«отроковицы» на фоне пейзажа скорее не западноевропейского, а среднерусского («Сжавшиеся селенья» и «сияющие поля»). И, наконец, последняя строфа:
Этим камням, сложенным с усильями,
Нет оков и нет земных границ!
Вдруг взмахнут испуганными крыльями
И взовьются стаей голубиц.
Обретённые в первом стихотворении крылья лишь в последнем наполняются подлинной силой. Руанский собор как таковой отходит на второй план, и с христианским пафосом утверждаются полнота и нескончаемость бытия.
В феврале 1915 года Волошин напишет проникновенное стихотворение «Реймсская Богоматерь», вызванное разрушением Реймсского собора немецкими войсками (помимо него на это трагическое событие откликнутся В. Брюсов, М. Кузмин и О. Мандельштам). В качестве эпиграфа поэт возьмёт слова О. Родена: «Видимый на три четверти, Реймсский собор напоминает фигуру огромной женщины, коленопреклонённой в молитве»:
…И обнажив, её распяли…
Огонь лизал, и стрелы рвали
Святую плоть… И по ночам,
В порыве безысходной муки,
Её обугленные руки
Простёрты к зимним небесам.
Собор, икона Богоматери, идея вечной женственности и некоего нравственного абсолюта сливаются здесь в единое целое, связанное с христианским пониманием страдания и искупления. Разрушение собора воспринимается Волошиным как последний и самый вопиющий факт в длинной цепи событий, берущих начало в эпоху Возрождения. Это одно из чудовищных проявлений духа современности, нашедшего законченное выражение в проекте французского архитектора Пети-Раделя (1800), тщательно разработавшего систему «разрушения готических церквей при посредстве огня…».
Загадка средневековой готики, её красота и притягательность связаны в понимании художника с её символикой. Его томит (и роднит с человеком Средневековья) «тоска по вполне однородном и абсолютно законченном космосе, в котором каждая часть точнейшим образом воспроизводит целое и все части связаны вместе началом господства и подчинения… – пишет в своей книге П. М. Бицилли. – И в то же время каждый уголок собора, каждое оконце, каждая башенка, каждая деталь может быть взята отдельно, является сама по себе чем-то законченным… всё вместе образует идеальное подобие того мира, о котором грезило средневековье: мира иерархически сгруппированных, совершенных, неизменно повторяющихся символов…».
Ещё в июле 1904 года в стихотворном «Письме», вызывая в памяти «леса готической скульптуры», поэт размышлял:
…Здесь всё есть символ, знак, пример.
Какую повесть зла и мук вы
Здесь разберёте на стенах?
Как в этих сложных письменах
Понять значенье каждой буквы?
Их взгляд, как взгляд змеи, тягуч…
Закрыта дверь. Потерян ключ.
Смириться с этой потерей языка символов и знаков душа поэта не может. Ведь, как писал Виктор Гюго в «Соборе Парижской Богоматери» о готических постройках: «Они от мира. Они таят в себе элемент человеческого, непрестанно примешиваемый ими к божественному символу, во имя которого они продолжают ещё воздвигаться. Вот почему эти здания доступны каждой душе, каждому уму, каждому воображению. Они ещё символичны, но уже доступны пониманию, как сама природа».
Средневековый символизм, утверждает Волошин в набросках к монографии «Дух готики», «определяется понятием „знака“… Для готики весь внешний мир является сложным гиероглифическим письмом, повествующим о трагедии грехопадения и искупления. Наш символизм ищет соответствий. Средневековый искал уподоблений… Символизм нашего времени словесный – поэтический… В готическом же храме мы имеем дело с символизмом пластическим…». Отсюда – установка: «Прочесть готический собор от его первой страницы до последней, от портала до острия стрелки, венчающей его крышу, расшифровать его гримуары, раскрыть его гиероглифы…»
Но можно ли понять язык этой великой книги, в которую человечество вписало свои загадки? Ещё К. Случевский в стихотворении «Страсбургский собор» (1880) замечал:
…И башня, как огромный палец
На титанической руке.
Писала что-то в небе тёмном
На незнакомом языке!
Не башни двигались, но – тучи…
И небо, на оси вертясь,
Принявши буквы, уносило
Их неразгаданную связь…
И всё же Волошин предоставил читателям свой опыт расшифровки символического языка готики. В журнальной публикации стихотворного цикла «Руанского собора» (Перевал, 1907, № 8–9) между третьим и четвёртым стихотворениями он поместил фрагмент исследования, озаглавленный «Крестный путь»:
«Семь ступеней крестного пути соответствуют семи ступеням христианского посвящения, символически воплощённого в архитектурных кристаллах готических соборов.
Мистический крестный путь начинается омовением ног – прикосновением к полу храма, ибо пол храма – это вода. Поэтому в мозаиках, украшающих пол древних соборов, часто изображались сивиллы, сидящие над водой, или олени, пьющие из ключа.
Вторая ступень – бичевание. Это ощущение острой физической боли, сердца Богоматерей, пронзённые семью мечами скорбей.
Третья – алый свет – ощущение текущей крови – терновый венец. Четвёртая – стигматы – знаки пригвождения на руках. Пятая ступень – это смерть на кресте. „Мировая душа распята на кресте мирового тела“. Распятие – это символ божества, воплощающегося в материи. Символически сам человек с распростёртыми руками являет крест. („Облечённый в крест тела своего“.)
Смерть – это экстаз, момент высшего восторга жизни. Шестая ступень – погребение, причащение земле. Плоть, себя сознавшая, глаголящая и видящая, возвращается к тёмной и страдающей праматери.
Седьмая ступень – воскресение из мёртвых».
Эта символика и определила композицию цикла, состоящего из семи стихотворений. «Мистерия готических соборов» начинается на закате дня, что, по Волошину, соответствует «ощущению текущей крови – терновому венцу», а завершается при ясном дневном свете, соотносящемся с седьмой ступенью крестного пути – «воскресением из мёртвых».