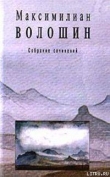Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 50 страниц)
«Солнце» нередко объединяют с уже упоминавшимся стихотворением «Кровь» («…кровь возникла на той планете, что была древнее солнца…»). Человеческий дух сопричастен тайнам вселенных; кровь также «знает больше человека»:
…И мысль рванулась… и молчит.
На дне глухая кровь стучит…
Стучит – бежит… Стучит – бежит…
Слепой огонь во мне струит.
Огонь древней, чем пламя звезд,
В ней память тёмных, старых мест.
В ней пламень чёрный, пламень древний.
В ней тьма горит, в ней света нет,
Она властительней и гневней.
Чем вихрь сияющих планет…
С антропософской точки зрения прочитываются и заключительные, несколько загадочные, строки этого стихотворения:
Зачем во тьму кровосмешений,
К соприкасаньям алых жал
Меня – Эдипа, ты послал
Искать зловещих откровений?
И здесь требуется небольшой теоретический экскурс. Ещё Блаватская делала упор на различии между преходящей видимостью человека и его подлинным существом. Она сравнивала истинное метафизическое «я» человека с актёром, а являющуюся на земле личность – с ролью, которую он исполняет на жизненной сцене. Как у актёра бывает много ролей, так и человеческая сущность выражает себя на земле через многие проявления.
…И бродит он в пыли земных дорог, —
Отступник жрец, себя забывший бог,
Следя в вещах знакомые узоры.
Он тот, кому погибель не дана,
Кто, встретив смерть, в смущеньи клонит взоры,
Кто видит сны и помнит имена, —
напишет Волошин в одиннадцатом сонете «Corona Astralis». Поэт – «себя забывший бог», Серый ангел, тоскующий по вечности.
У Волошина в четвёртом стихотворении цикла «Когда время останавливается» есть такие строки:
Да, я помню мир иной —
Полустёртый, непохожий,
В вашем мире я – прохожий.
Близкий всем, всему чужой.
Ряд случайных сочетаний
Мировых путей и сил,
В этот мир замкнутых граней
Влил меня и воплотил.
Считается, что каждая прежняя земная жизнь непосредственно связана с последующим воплощением. Новые переживания человека, его внутренний мир в определённой степени зависят от тех, что были в прежней жизни. «В жизни человеческий Дух, – пишет Р. Штейнер в книге „Теософия“, – является повторением самого себя, с плодами своих прежних переживаний в прошлых жизнях». Эта взаимно-относительная связь земных воплощений в чём-то сродни индийской карме. Кармический закон, определяющий цикл телесных воплощений, очевидно, и имеет в виду поэт, уподобляя его античному року, а себя самого – Эдипу, брошенному в мир зловещих предопределений.
Забежим немного вперёд. В написанном десятью годами позже стихотворении «Материнство» (1917) эти умонастроения получат дальнейшее развитие:
Кто нас связал и бросил в мир слепыми?
Какие судьбы нами расплелись?
Как неотступно требуешь ты: «Имя
Своё скажи мне! Кто ты? Назовись».
Не помню имени… но знай: не весь я
Рождён тобой, и есть иная часть,
И судеб золотые равновесья
Блюдёт вершительная власть…
Помимо антропософии, толчком к появлению этого стихотворения послужило и частное событие (правда, мистического свойства) – сон Елены Оттобальдовны, рассказанный сыну в письме от 27 июня 1915 года. «Она видела, что она будто меня настойчиво спрашивает: „Макс, скажи мне своё имя?., имя?..“ – пересказывал материнский сон Волошин художнице Ю. Л. Оболенской в письме от 9 сентября 1915 года. – Спрашивает много раз, с отчаянием. А я молчу».
Сон матери поэта отсылает нас и к диалогу Платона «Кратил», где философ рассматривает вопрос о «правильности имён», устанавливаемых не человеческим, а божественным разумом. Каждое «правильное» имя заключает в себе эзотерический смысл. Посвящение в глубинный смысл имён, согласно платоновскому Сократу, есть обретение тайного знания вещей и явлений. «Кто знает имена, тот знает и вещи» и «кто постигнет имена, тот постигнет и то, чему принадлежат эти имена». Но есть и оборотная сторона этого знания. «Кто видит сны и помнит имена, – / Тому в любви не радость встреч дана, / А тёмные восторги расставанья!» – так характеризует Волошин в «Corona Astralis» трагедию поэта, «себя забывшего бога», ослеплённого «светом дня» (истины) и томимого памятью о «покинутой Вселенной».
Антропософские мотивы слышатся и в последующих строках стихотворения «Материнство»:
Кто, возлюбив другого для себя,
Плоть возжелал для плоти без возврата,
Тому в свершении расплата:
Чрез нас родятся те, кого, любя,
Связали мы желаньем неотступным…
В антропософском понимании путь к новому земному воплощению проходит через несколько стадий: период очищения человеческого «я», затем долгий процесс самоусовершенствования за счёт перехода во всё более высокие области духовного мира и, наконец, постепенное образование нового астрального тела. В дальнейшем оно попадает под контроль высших духовных сил, которые и руководят последующим этапом возвращения «я» к земной жизни, направляя астральное тело к той паре земных людей, которые ему предназначены и могут дать соответствующую оболочку из физического и эфирного тел, то есть осуществить новое земное рождение.
«Как вихри мы сквозь вечности гонимы…» – этот навеянный антропософией образ «стягивает» многие произведения Волошина разных лет.
«„Материнство“ образует параллель к „Пещере“», – писал поэт А. М. Петровой 17 июля 1917 года, посылая ей стихотворение. А двумя годами раньше, сразу после его написания, в послании к М. С. Цетлин от 15 сентября 1915 года пояснял: «Мне кажется, что в мировой гармонии у чувственности – явления по самому существу противоположного любви – нет иного объяснения, кроме того, что так в нашем мире проявляется чьё-то желание воплощения». Антропософский смысл «Пещеры» приобретает, пожалуй, ещё более отчётливое звучание:
О, для чего с такою жадной грустью
Мы в спазмах тел палящих ищем нег,
Устами льнём к устам и припадаем к устью
Из вечности текущих рек?
Наш путь закрыт к предутренней Пещере:
Сквозь плоть нет выхода – есть только вход.
А кто-то, за стеной, волнуется и ждёт…
Ему мы открываем двери…
«Пещера», в свою очередь, «образует параллель» с более ранним стихотворением «Грот нимф», речь о котором шла выше. По поводу этого сонета Волошин, как мы помним, писал Сабашниковой: «Дух должен причаститься плоти… Надо войти в таинственную Пещеру Нимф, где водные нимфы ткут пурпуровую пряжу жизни, где один вход для богов и один выход для людей. Это святая пещера зачатий…»
Таким образом, Волошин не остался в долгу перед лесными змеями из ивановского «Сна Мелампа», открывшими эзотерические тайны вселенной («Тайно из вечности в вечность душа воскресает живая»). Подобно тому как Меламп в жизни, поэт в своём творчестве сделал попытку стать «тенью грядущего, оком в ночи, незаблудным вожатым».
После разрыва с Маргаритой Сабашниковой пессимистические, антропософско-мистические настроения художника усиливаются. Их кульминацией можно считать венок сонетов «Corona Astralis» (1909). Это, по словам Волошина, его «отношение к миру», заключающее в себе синтез религии, науки и философии. Это сплав знания и откровения, разума и эзотерических прозрений, уверенности художника в своих духовных возможностях и его преклонения перед тайнами вселенной и вечности.
О, пыль миров! О, рой священных пчёл!
Я исследил, измерил, взвесил, счёл,
Дал имена, составил карты, сметы…
Но ужас звёзд от знанья не потух.
Мы помним всё: наш древний, тёмный дух,
Ах, не крещён в глубоких водах Леты!
Было бы неверно прочитывать венок сонетов исключительно односторонне – с позиции антропософии, буддизма или ортодоксального христианства. Здесь необходимо учитывать все возможные точки зрения.
И всё же определяющим, исходным пунктом восприятия «Звёздного венка» следует признать антропософское ясновидение, контакты с гиперфизической реальностью, астральными мирами, ощущение Вселенной внутри себя:
Гробницы Солнц! Миров погибших Урна!
И труп Луны, и мёртвый лик Сатурна —
Запомнит мозг и сердце затаит:
В крушеньях звёзд рождалась мысль и крепла,
Но дух устал от свеянного пепла, —
В нас тлеет боль внежизненных обид!
(VI)
«Боль внежизненных обид» отсылает нас к образу Эдипа из стихотворения «Кровь». Здесь та же расплата души за прожитые когда-то жизни – кармический рок.
«Ах не крещён в глубоких водах леты / Наш горький дух, и память нас томит…» Память Серого ангела не может быть поколеблена «крещением» в реке Лете, дающей забвение. Она вбирает в себя не только прошлые жизни души, но и («Мы помним всё…») фрагменты до– и внечеловеческого бытия: «бег планет» и «мысль земли».
Потому-то не подлежит «звёздный дух» «забвению ночей». Отсюда – столь частые у Волошина: «день немеркнущих ночей», «светы» «полночных солнц» и т. д., что соответствует духовному озарению, ясновидению, разрывающему «тьму» обыденного мировосприятия.
В «Звёздном венке» отчётливее, чем где-либо, ощущается драма человеческого духа, наследника всей вселенной: тоска и память о вечности не дают ему полностью «причаститься земле», по которой он, утративший цельность духа и воплощённый в грешное тело, проходит «изгнанником, скитальцем и поэтом». Этот «бездомный долгий путь назначен» ему «судьбой»; «себя забывший бог» должен выдержать земные испытания.
Закрыт нам путь проверенных орбит,
Нарушен лад молитвенного строя…
Земным богам земные храмы строя,
Нас жрец земли земле не причастит.
Безумьем снов скитальный дух повит.
Как пчёлы мы, отставшие от роя!..
Мы беглецы, и сзади наша Троя,
И зарево наш парус багрянит…
В мистико-антропософском пространстве этого второго сонета выделяется мифологический образ пчелы, пчелиного роя. Известно, что в орфическом учении пчёлы были воплощением души, не только по ассоциации с мёдом, но и потому, что они перемещаются роем, подобно душам, которые, как полагали орфики, «роем» отделяются от божественного Единого, божественной Сущности, чтобы в дальнейшем, пройдя через бесчисленные переселения и перевоплощения, окончательно вернуться в неё. Волошинские же пчёлы отстали от роя, выпали из предустановленного круговорота («Закрыт нам путь проверенных орбит»), а изначально гармоническое Единое обернулось разрушенной Троей, к которой, казалось бы, нет возврата…
Но ведь пребывание в «пустыне земли», «в пыли земных дорог» не более чем шаг в звёздных коридорах вечности, лишь миг в космосе Божественного Откровения. И не случайно в статье «Horomedon», написанной в один год с венком сонетов, упоминается евангелист Иоанн, который, созерцая «целую вселенную», в которой заблудился человеческий дух, пишет: «В начале было Слово… И Слово стало плотью!» А уже спустя двенадцать лет сам поэт, пройдя «сквозь муки и крещенье / Совести, огня и вод», будет готов пожертвовать этим Словом-плотью: «Если ж дров в плавильной печи мало: / Господи! Вот плоть моя» («Готовность»).
Пока же Волошин отмечает неизбывный трагизм положения поэта в мире, его вечную земную неустроенность. Венок сонетов – это весть об уготованной ему миссии Искупителя человеческих пороков и заблуждений.
Изгнанники, скитальцы и поэты, —
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог…
У птиц – гнездо, у зверя – тёмный лог,
А посох – нам и нищенства заветы…
(VIII)
Тема Поэта-Искупителя звучит, перекликаясь с евангельскими мотивами. Третья и четвёртая строки приведённой строфы восьмого сонета недвусмысленно отсылают нас к тексту Нового Завета: «…лисицы имеют норы и птицы небесные – гнёзда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 20). Четвёртая же строка второго сонета («Нас жрец земли земле не причастит») не может не напомнить соответствующее место из Евангелия от Иоанна (8, 23): «Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; Вы от мира сего, Я не от сего мира». Поэтому и не суждено поэту, в отличие от «земных богов», то есть царей, кумиров, иначе говоря – сильных мира сего, причаститься земле, обрести покой в своём земном бытии.
Однако неправомерно сводить венок сонетов только к эмблематике (иероглифу) тернового венца, а «Грааль скорбей» воспринимать в строго евангельском (или штейнеровском) плане. Столь же ощутима здесь и не раз упоминаемая перекличка с образом рыцаря Лоэнгрина, оставившего замок Монсальват (возникающий, кстати, и в одном из ранних, «парижских» стихотворений), чтобы взять на себя людские беды и обиды.
Сам же Святой Грааль, воистину открыт бесконечному множеству толкований. Трактовка его может быть и чисто христианской (чаша, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Спасителя), и оккультно-мистической, соотносимой с древними мистериями. Возможны ассоциации с языческим мифом, согласно которому Святой Грааль является чем-то вроде ковчега или сосуда, в котором сохраняется жизнь мира.
Для Волошина обретение Святого Грааля, видимо, было связано с вечным поиском духовной истины. Если же из множества смыслов «Corona Astralis» выделить главный, то с большой долей вероятности можно сказать, что Голгофа Иисуса Христа приравнивается поэтом к Голгофе творчества. «Экстаз безвыходной тюрьмы» и «всех скорбей развёрнутое знамя» ему нужнее, чем «мирный путь блаженства» и «забвенья Леты». Подобно лирическому герою Верхарна, которого русский писатель неоднократно переводил, поэтический двойник Волошина как бы фокусирует в себе все муки и духовные блуждания человечества. Поэт своей болью, крестом вдохновения искупает грехи и заблуждения людей. Уже здесь – предвосхищение судьбы Волошина в революционной и послеоктябрьской России, его подвига самопожертвования.
Завершающий первую поэтическую книгу Волошина венок сонетов «Corona Astralis» – не что иное, как венок поэту. Это верхарновский «венец багряных терний» (или «из терний заветный венок» Брюсова), но это и тот самый «лавр дельфийский», о котором упоминал Гораций, предвидя своё продолжение в веках, в вечности.
Это обращение к человеку с пожеланием обрести Высшее Духовное Солнце, покинуть «темницу мгновенья» и причаститься вечности.
СУДЬБА ЗАМЕДЛИЛА СУРОВО
Я весь – внимающее ухо.
Я весь – застывший полдень дня.
Неистощимо семя духа,
И плоть моя – росток огня…
Я верен тёмному завету…
…И я спешу, смущаясь, мимо,
Не подымая головы,
Как будто не привыкло ухо
К враждебным ропотом молвы,
Растущим за спиною глухо;
Как будто грязи едкой вкус
И камня подлого укус
Мне не привычны, не знакомы…
Я быть устал среди людей…
Отзывы на сборник Волошина, как и следовало ожидать, оказались противоречивы. «Книга ума, а не чувства, тонкой ювелирной работы, а не вдохновенья», – выразил расхожую точку зрения анонимный критик (предположительно – С. Городецкий) в журнале «Золотое руно» (1909, № 11–12). «Стихи Максимилиана Волошина – не столько признания души, сколько создания искусства», – высказался в «Русской мысли» В. Брюсов. Была приятно удивлена стихами поэта Е. С. Кругликова: «Я тебя считала менее глубоким». «Ваша поэтическая личность не изменилась, но она стала более мощной и яркой», – заметила поэтесса М. Моравская. М. Янковская, подруга детства Маргори, высоко оценила психологический дар Волошина, отметив, что только женщине может быть понятен пафос стихотворения «Если сердце горит и трепещет…». «Как мне нужна теперь торжественная печаль Вашей музы!» – пишет из Витебской губернии А. Герцык.
Женщины, как видим, были более лояльны к творчеству Волошина, нежели мужчины, многие из которых упражнялись в злопыхательстве. 16 апреля 1910 года в газете «Русское слово» была опубликована статья священника, публициста Г. Петрова «Духовное обнищание», в которой он выступил против «всех этих Бенуа в живописи и Максов Волошиных в поэзии», этаких гурманов, «самодовольных, сытых, избалованных жизнью бюргеров». В. Буренин в «Критических заметках» брезгливо обронил, что «Стихотворения» Волошина «сильно попахивают керосином, книжною пылью, затхлостью музеев». В. Волькенштейн увидел в сборнике одни подражания, киммерийские сонеты воспринял как «переводы с французского» и отделался общей фразой: книга «изысканная, сложная, но лишённая поэтической силы» (Современный мир, 1910, № 4). В. Полонский умело соединил плюсы и минусы: М. Волошин – «изысканнейший, утончённейший, культурнейший из всех поэтов», но, увы, «оторванный от живой жизни», он «находит удовлетворение в игре эстетическими бирюльками» (Всеобщий ежемесячник, 1910, № 5). Промелькнула и рецензия Вячеслава Иванова, в которой он (уже вторично) отозвался о Волошине и его книге строго и несколько свысока: «Волошин – поэт большого дарования и своеобразных, горьких чар», но «его вкус не безупречен, а общее тяготение его поэзии – не жизненно».
Приятным диссонансом этому брюзжанию прозвучала похвала некоего критика, обозначившего себя тремя буквами «С-ов», который отметил способность Волошина «смотреть, чутко слушать и красиво зарисовать. И всё это прочувствовать: и пустыню, и море, и Ташкент, и Париж…».
Что ж, всему этому оценочному недоброжелательству по отношению к поэту есть вполне понятные объяснения, суть которых чётко выразил автор первой крупной работы о Волошине Е. Ланн: «Собратья его, союзники по символизму… не могли не чувствовать, что символизм для него какая-то временная остановка, что поэт неустанно изживает символизм… прорубает себе шире и шире выход за его пределы». Да и в собственно символистских, эзотерических творениях художника далеко не каждый мог разглядеть и прочувствовать «весь тайный строй сплетений, швов и скреп».
Волошин относился ко всей критике спокойно и даже с некоторым юмором: «Все признают меня если и бездарным, то во всяком случае „культурным“ поэтом». Макс, судя по его письму к А. В. Гольштейн, чувствует себя на распутье, «очень безрадостно, но тихо». Драма Лили Дмитриевой стала и его драмой, творческой и личной: «Я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя, – пишет ему Елизавета Ивановна 15 марта 1910 года. – …Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял её от меня потом…» В конце этого месяца она пишет ему более спокойное письмо: «Не мучайся, не печалься… ты мне друг, близкий и нежный… Как мужа люблю Волю» (Всеволода Васильева. – С. П.). Волошин, кстати сказать, был хорошо знаком с В. Н. Васильевым и характеризовал его следующим образом: «Это юноша бесконечной доброты и самоотвержения, который бесконечно любит её. Но, кроме сердца, у него нет ничего – ни ума, ни лица». С Волей у Макса установились прекрасные отношения, всё стало «разрешимо и теперь даже легко. Но это всё совсем неразрешимо в душе Лили и рождает в ней смертельную тоску и жажду безумия и забвения во внешней жизни». В середине мая Е. И. Дмитриева сообщает А. М. Петровой: «Эта зима привела меня к Богу». Она чувствует себя «бесконечно виноватой» перед Максом, признаётся, что «стала ломать то чувство любви, которое было уже у меня к другому, обоих измучила и ничего никому не дала…». Что касается Маргариты Сабашниковой, то она всё дальше уходит в прошлое. К ней у Макса «давно нет никакой боли, никакого упрёка».
Как всегда, в период душевной смуты единственной отдушиной поэта становится Восточный Крым. Ещё в январе Волошин писал А. М. Петровой: «Не могу больше выносить Петербурга, литераторов, литературы, журналов, поэтов, редакций, газет, интриг, честолюбий и т. д. Хочу замкнуться надолго в серьёзной и большой работе… Думаю надолго, совсем надолго уединиться в Киммерию». И уже 1 февраля 1910 года поэт выезжает из Москвы в Феодосию, а оттуда – в Коктебель. Правда, те же настроения поначалу преследуют его и там. Первые же стихи складывающегося цикла «Блуждания» посвящаются Лиле Дмитриевой.
Твоя душа таит печали
Пурпурных снов и горьких лет.
Ты отошла в глухие дали, —
Мне не идти тебе вослед… —
писал Волошин ещё в Петербурге 26 января. Однако оказалось, что не «отошла». В феврале, уже в Коктебеле, рождаются строки:
…Смирясь, я всё ж не принимал,
Забвенья холод неминучий
И вместе с пылью пепел жгучий
Любви сгоревшей собирал…
В марте лирико-драматический сюжет дополняется новыми поэтическими штрихами:
Напрасно обоюдоострый меч,
Смиряя плоть, мы клали меж собою:
Вкусив от мук, пылали мы борьбою
И гасли мы, как пламя пчельных свеч…
Такое ощущение, что неумирающее чувство разбивает строгие формы стиха:
Стыдом и страстью в детстве ты крещена,
Для жгучей пытки избрана ты судьбой
И в чресла уголь мой тебе вжёг
Неутолимую жажду жизни…
Поэт осознаёт, что сопротивляться предначертаниям судьбы невозможно, «И впредь раздельных нам путей нет…». Раздельных – не в любовно-бытовом, в космическом, вечном смысле… Вероятно, понимала это и Лиля-Черубина, написавшая в «Золотой ветви» (с посвящением: «Моему учителю»):
Моя любовь твоей мечте близка
во всех путях, во всех её касаньях,
твоя печаль моей любви легка,
твоя печаль в моих воспоминаньях.
Моей любви печать в твоём лице,
моя любовь в магическом кольце
вписала нас в единых начертаньях.
«Средь звёздных рун в их знаках и названьях / моя любовь твоей мечте близка». И это уже непоколебимо. Венок семистиший «Золотая ветвь» был опубликован в журнале «Аполлон» (1909, № 2). Переклички со «Звёздным венком» Волошина здесь весьма ощутимы…
Между тем в родных местах душа художника успокаивается, гармонизируется. «Киммерийская весна» входит в сердце и в творчество поэта.
К излогам гор душа влекома…
Яры, увалы, ширь полей…
Всё так печально, так знакомо…
Сухие прутья тополей,
Из камней низкая ограда,
Быльём поросшая межа,
Нагие лозы винограда
На тёмных глыбах плантажа,
Лучи дождя, и крики птичьи,
И воды тусклые вдали,
И это горькое величье
Весенней вспаханной земли…
Раздвигаются киммерийские шири, распахиваются коктебельские выси, открываются жизненные перспективы; сама природа, кажется, этому способствует: «…И ветви тянутся к просторам, / Молясь Введению Весны, / Как семисвечник, на котором / Огни ещё не зажжены».
Всю весну Волошин следит за отзывами на свою книгу, заканчивает статьи о театре, главным образом французском. Он анализирует пьесы Т. Бернара, А. Дюма-сына, Р. Коолюса, Э. Фабра, Ж. Фейдо, А. Эрмана, дает оценку такому сложному явлению, как театр А. Антуана. Наведывается в Судак и в Феодосию. Поэтическое вдохновение посещает его не так уж часто, а если и посещает, то в домашней обстановке надолго не задерживается. Елена Оттобальдовна пребывает в постоянном раздражении, а хозяйство, как свидетельствует Макс, «доводит её до исступления». Поэтому в доме «нет ни тишины, ни спокойствия, ни уединения». Какая уж тут работа!
Впрочем, читать всё же удаётся. А читает Волошин, как обычно, запоем, выбирая книги согласно одному ему ведомой логике. Ветхий Завет, Евангелие, Еврейская грамматика, французы. Макс штудирует «Творческую эволюцию»
А. Бергсона, проявляет интерес к трактату «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, думает следующей зимой заняться Китаем и китайским языком – одолевает «старая тоска по Азии». Запали в душу строчки из письма Б. Лемана, полученного 10 мая: «Надо Вам научиться говорить своё, а не чужое через себя». Евангелие даёт больше в плане откровений, чем «Познание сверхчувственных миров» Штейнера. Макс и сам пересматривает многие из своих прежних позиций. 17 мая он отвечает Леману, что восстал против теософии как «парниковой, искусственной выгонки душ». Всё это, однако, не сводится к прямолинейному процессу… Макс жалуется на несвойственную ему «инертность и апатию». Что там говорить – период духовных «блужданий» далёк от завершения…
Внешних событий в жизни мало. Они замещаются впечатлениями от разговоров, встреч, поездок. 15 июня Волошин вместе с Богаевским и Кандауровым выезжают на лошадях к станции Семь Колодезей и дальше – в Кенегез, в имение Дуранте. Эти экзотические, дикие места не могут не врезаться в память: «Скифский вал – остатки стены, замыкающей Босфорское царство. Плоское уныние этой земли заставляет невольно обращать глаза к небу. Там облака подымаются и с Чёрного, и с Азовского моря». Гора Опук, к востоку от Кенегеза, «в ужасающей пустынности солончаков и мёртвых озёр. Во времена Страбона на её хребте стояли циклопические развалины Киммерикона… Морские заливы кишат змеями…. Когда в полдень солнце круто останавливается над Опуком и мгла степных далей начинает плыть миражами… посетитель реально переживает „панический“ ужас полудня». Волошин верен себе: древность он оживляет, смотрит на мир Страбона глазами художника, реальный взгляд на вещи обогащает мистическими ощущениями.
Летняя страда творчества и путешествий завершилась неожиданно: в середине июля Волошин упал с велосипеда и сильно повредил правую руку. О том, чтобы писать или рисовать, на какое-то время приходится забыть. Но как же без работы? В Коктебеле надолго оставаться нельзя. Он должен быть в столицах, поближе к газетам и журналам. Начиная с осени Макс начинает регулярно публиковаться в газете «Утро России»: «Имел ли Художественный театр право инсценировать „Братьев Карамазовых“? – Имел», «Об искусстве актёров (по поводу лекции кн. С. Волконского в Художественном театре)», «Каким должен быть памятник Толстому», «Закон и нравы (из жизни Запада)». Тематика – разнообразная, но преобладают статьи о театре, увлечение которым всё более возрастает. Ещё в мае Волошин высылает барону фон Дризену, театральному деятелю и редактору «Ежегодника Императорских театров», корректуры второй части статьи «Современный французский театр». В начале сентября Дризен пишет Максу из Петербурга, приглашая участвовать в театральной секции Общества народных университетов, ожидает новых «интересных этюдов о французской драме».
Но Волошина интересует не только французский театр. Откроем его книгу «Лики творчества». Здесь мы находим статьи, посвящённые «Братьям Карамазовым», «Горю от ума» в постановке Московского художественного театра, трагедии «Гамлет», общетеоретическим проблемам: «Театр как сновидение», «О смысле танца», «Лицо, маска и нагота» и др. М. Волошин никогда не был ни драматургом (в его творческом наследии нет ни одной пьесы), ни режиссёром (хотя в марте 1909 года принимал участие в постановке пьесы Ф. Сологуба «Ночные пляски» в Литейном театре). Да и театральным критиком поэта по большому счёту не назовёшь. Однако вся творческая жизнь Волошина нерасторжимо связана с понятием игры как философско-эзотерической категории, с театром как особым ракурсом восприятия мира и человеческой истории. Его тягу к театру как к особому способу мировосприятия не следует смешивать с присущим ещё юному Волошину чувством эстрады, его склонностью к лицедейству и розыгрышам. Хотя в этой связи нельзя не вспомнить о гимназических постановках из Гоголя и Тургенева, его бесконечных спектаклях-мистификациях в Коктебельской художественной колонии и самом грандиозном поэтико-драматическом миракле под названием «Черубина де Габриак».
Обо всём этом есть смысл говорить особо, остановившись на теме: театральность, лицедейство как вторая натура Волошина. Не случайно крупнейший биограф поэта В. П. Купченко адресует ему характеристику, данную Бальзаком Барбе д’Оревильи: «Никто никогда не знает, играл ли этот таинственный человек всю свою жизнь лишь роль (всегда благородную и невинную), или был искренен, и в какой мере игра смешивалась в нём с искренностью, или искренность с игрой». Сразу же оговоримся, что всё вышесказанное не имеет никакого отношения к лицемерию, жизненной дипломатии, привычке держать камень за пазухой.
Не следует забывать, что к середине 1900-х годов большой популярностью в символистских и околосимволистских кругах стала пользоваться идея «искусства-жизнестроения», ассоциировавшаяся в первую очередь с театром. Она, в частности, обсуждалась на «Башне» у Вяч. Иванова 3 января 1906 года в связи с проектом создания театра «Факелы», выдвинутым С. Дягилевым. Теорию искусства как преображения жизни в той или иной степени разделяли не только символисты (Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок); она была близка и таким далёким от них, таким разным деятелям театра, как В. Мейерхольд и Н. Евреинов; впоследствии, сильно видоизменённую, её подхватят поэты-футуристы.
Однако, когда дело дошло до практики, обратившиеся к драматургии символисты оказались далеки от решения подобной задачи. Да и сама эта драматургия не достигла уровня мировых шедевров. «Мертвенным совершенством веет от трагедии Сологуба („Дар мёртвых пчёл“. – С. П.), – пишет в своей рецензии М. Волошин, как бы подводя определённые итоги. – Законченность, тяжёлое богатство и значительность речи приводят на память золотые лепестки погребальных венцов…» Особняком в ряду неярких символистских театральных опытов стоят произведения Л. Андреева и А. Блока.
Как драматург Леонид Андреев занимает в начале века второе место после Чехова, если принимать во внимание популярность писателя и количество его постановок. Однако сценическая жизнь его пьес не была столь уж удачной. Во всяком случае, среди них было значительно больше отвергнутых тем же МХТ, чем состоявшихся спектаклей. В 1907 году на сцене появляются пьесы «Жизнь Человека» и «Чёрные маски», а в 1909 году – «Анатэма». «Ненавистник голого символа и голой бесстыжей действительности», Андреев ищет, по его собственному признанию, «в реальном – ирреального». Однако уход в «ирреальное» оказался чреват потерей психологической убедительности, тяготением к схемам и абстракциям, что в конечном итоге и привело драматурга к разрыву с Московским Художественным театром.
Просчёты Андреева-драматурга были обусловлены обще-эстетическими изъянами. Сопоставляя его с Ф. Сологубом, М. Волошин отмечает, что последний «захватывает всю семицветную радугу света от ультракрасных до ультрафиолетовых лучей. Леониду Андрееву доступны только высшие ноты напряжения звука… Этот хриплый и прерывающийся крик надрывает сердце своим отчаянием. В этом, а не в искусстве письма тайна того впечатления, которое производит Андреев». Художник же, по мнению критика, прежде всего музыкант. Он познаёт законы жизни, её гармонию вне зависимости от своего отношения к ней. Недостаток Андреева-художника как раз и заключается в том, что он, как считает Волошин, этих законов не ищет, а стало быть, не в состоянии нащупать почву, из которой вырастет дух. Если взглянуть на творчество писателя с этой точки зрения, то Л. Андреев даже не символист, поскольку быть символистом значит «в обыденном явлении жизни провидеть вечное, провидеть одно из проявлений музыкальной гармонии мира». «Поэтому символизм неизбежно зиждется на реализме и не может существовать без опоры на него».
Тем не менее Волошин отдаёт должное пьесе Андреева «Жизнь Человека», выводя её за пределы символистской драматургии, «ибо герой трагедии – воля, а не безвольная и слепая марионетка, нервно выкрикивающая слова протеста». Поэта привлекает центральный символ пьесы: сгорающая свеча, которую держит в руке Некто в сером, олицетворяющий не только безучастную судьбу, но и враждебные человеку законы жизни. Волошин предлагает оригинальную трактовку этого символа: «Понятие насильственного государственного закона Леонид Андреев возводит до степени мистического закона, управляющего Вселенной, и преходящий общественный строй России он считает прообразом устройства всего мира… „Некто в сером“ – это не борьба и не закон – это представитель закона, космический жандарм с андерсеновской свечкой жизни в руке».