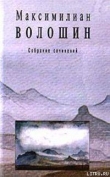Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 50 страниц)
– Достоевский прав: звук пощёчины – действительно мокрый. (А ведь и сам Волошин задолго до этого написал: «…Заглушить позорный звук / Мокро хлещущих пощёчин…»).
– Ты мне за это ответишь, – как-то свистяще шепчет Гумилёв.
На лице Макса нет злости или сожаления. Как учитель к ученику, он обращается к автору «Капитанов»:
– Вы поняли – за что?
Тот смотрит на него с ненавистью.
22 ноября 1909 года. Пустынное место за Новой Деревней возле Чёрной речки. Вдоль дороги голые вербы. Застрял в сугробе автомобиль с Гумилёвым. Участники дуэли – противники и секунданты – дружно вытаскивают его из снега. Отмеривает шаги секундант Волошина А. Н. Толстой. Другой секундант – А. К. Шервашидзе. Со стороны Гумилёва – М. А. Кузмин и секретарь «Аполлона» Е. А. Зноско-Боровский.
– Стреляться в пяти шагах… и до смертельного исхода! – неожиданно заявляет Гумилёв.
К нему бросаются сразу несколько человек, спорят, увещевают; наконец, мрачный и гордый «конквистадор» даёт согласие стреляться в пятнадцати шагах. Михаил Кузмин робко выглядывает из-за дерева. Алексей Толстой перемеривает расстояние. Николай Гумилёв просит его шагать не столь широко… На предложение «помириться» он отвечает «глухо и зло»: «Я приехал драться, а не мириться».
Передавая пистолет Гумилёву, Толстой едва ли не по колено проваливается в рыхлый снег. Создатель «Капитанов» не спешит ему помочь. Стоя без шубы, в чёрном сюртуке и цилиндре, он окатывает своего противника волнами ледяной ненависти. Волошин стоит, широко расставив ноги и немного покачиваясь. Кажется, он не совсем понимает, что происходит. Ему стрелять первому. Осечка. Стреляет Гумилёв. Возможно, в воздух. Прекрасный стрелок, он всё же сознаёт, какую берёт на себя ответственность перед литературой и Богом. Михаил Кузмин не решается отвести от лица хирургический ящик. Ему страшно. Волошин взводит курок и спрашивает Гумилёва:
– Вы отказываетесь от своих слов?
– Нет.
Волошинский пистолет что-то заклинило. (Ещё бы: ведь обошлись «если не той парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то, во всяком случае, современной ему»). Толстому приходится разрядить его в снег.
– Пусть этот господин стреляет ещё раз, – требует Гумилёв, но не встречает поддержки.
Всё кончено. Никто не пострадал. На грязном мокром снегу остаётся забытая кем-то калоша… (Что даст повод Саше Чёрному закрепить за Волошиным прозвище: «Вакс Калошин»), Руки друг другу противники так и не подали. «Мы с Толстым довезли Макса до его дома и вернулись каждый к себе, – вспоминает А. К. Шервашидзе. – На следующее утро ко мне явился квартальный и спросил имена участников. Я сообщил все имена. Затем был суд – пустяшная процедура, и мы заплатили по 10 рублей штрафа. Был ли с нами доктор? Не помню. Думаю, что никому из нас не были известны правила дуэли…»
М. А. Кузмин записал в дневнике: «…не дойдя до выбранного места, расположились на болоте, проваливаясь в снегу выше колен. Граф распоряжался на славу, противники стали живописно с длинными пистолетами в вытянутых руках. Когда грянул выстрел, они стояли целы: у Макса – осечка. Ещё выстрел, ещё осечка. Дуэль прекратили. Покатили назад. Бежа с револьверным ящиком, я упал и отшиб себе грудь. Застряли в сугробе. Кажется, записали наш номер. Назад ехали веселее, потом Коля загрустил о безрезультатности дуэли…»
Волошин и Гумилёв встретились ещё раз летом 1921 года в Феодосии незадолго до гибели последнего. Гумилёв прибыл в Крым, сопровождая командующего морскими силами РСФСР контр-адмирала А. В. Немитца. Макс, по его же словам, высказал наболевшее: «Николай Степанович, со времени нашей дуэли произошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки». Гумилёв пробормотал что-то в ответ, и бывшие дуэлянты пожали друг другу руки. Однако вместо того чтобы поставить на этом точку. Волошин «почувствовал совершенно неуместную потребность договорить то, что не было сказано в момент оскорбления:
– Если я счёл тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому что сомневался в правде ваших слов, но потому что вы об этом сочли возможным говорить вообще.
– Но я не говорил. Вы поверили словам той сумасшедшей женщины… Впрочем… если вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда…
Это были последние слова, сказанные между нами…»
А Елизавета Ивановна Дмитриева (Васильева), так и оставшаяся в истории литературы Черубиной де Габриак, признавалась в «Исповеди»: «После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль. Я так и не стала поэтом: передо мной всегда стояло лицо Н. С. и мешало мне.
Я не могла остаться с М. А. В начале 1910 года мы расстались, и я не видела его до 1917 года (или до 1916-го?). Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку.
А мне?! До самой смерти Н. С. я не могла читать его стихов, а если брала книгу – плакала весь день… Он не был виноват передо мною, очень даже оскорбив меня, он ещё любил, но моя жизнь была смята им, – он увёл от меня и стихи, и любовь…»
Волошин посвятил своей коктебельской гостье стихотворение «К этим гулким, морским берегам…», венок сонетов «Corona Astralis», а также ряд стихов из цикла «Блуждания». Лиля жила в основном в Петербурге. Выезжала в Германию, Швейцарию и Финляндию по делам Антропософского общества, членом которого состояла. Переводила со старофранцузского. Позже жила в Екатеринодаре (Краснодаре). Служила в Кубанском университете, работала вместе с С. Я. Маршаком в Театре для детей. Иногда писала стихи. По большому счёту, её литературная звезда закатилась со «смертью» Черубины. Скончалась Елизавета Ивановна в ночь с 4 на 5 декабря 1928 года в Ташкенте, куда была сослана.
События осени 1909 года показательны как пример волошинского благородства, в частности, по отношению к женщине. Многие восторгались способностью и потребностью Макса создавать и расцвечивать новые поэтические миры. Но правы и те критики, которые видят в этой истории пример пагубности мифотворческих экспериментов Серебряного века. То, что муссировалось в литературной среде как анекдот, могло закончиться весьма печально для любого из участников дуэли, а саму «Царицу призрачного трона» привело к тяжёлым психическим последствиям.
И всё же именно её стихами, написанными через много лет после Петербургской драмы, мы завершим эту главу:
Я СТАЛ СТРОКАМИ КНИГИ…
Ты сделай так, чтоб мне сказать: «Приемлю»,
как благостный предел, завещанный для всех,
души, моей души, не вспаханную землю
и дикою лозой на ней взошедший грех, —
Чтоб не склоняться мне под игом наважденья,
а всей, мне всей гореть во сне и наяву,
на крыльях высоты и в пропасти паденья.
– Ты сделай так, чтоб мне сказать: «Живу».
Кому земля – священный край изгнанья,
Того простор полей не веселит,
Но каждый шаг, но каждый миг таит
Иных миров в себе напоминанья…
Corona Astralis, XI
…кто хочет искать пути, ведущие за пределы чувственного мира, тот скоро научится понимать, что человеческая жизнь приобретает цену и значение только через прозрение в иной мир.
Р. Штейнер. Теософия
Конец первого десятилетия XX века… Максимилиан Волошин – признанный большинством ценителей русской словесности поэт, известный критик: его статьи об искусстве и литературе вызывают жаркие дискуссии. Однако положение Волошина в литературной среде не назовёшь стабильным. Он ещё не выпустил ни одной солидной поэтической книги. Необходимость подстраиваться под чьи-то вкусы всегда была для Макса неприемлема. 29 ноября 1909 года он жалуется в письме А. М. Петровой: «„Аполлон“ к стихам моим охладел… Моего влияния там нет никакого… Вся атмосфера литературная, около него скопившаяся, мне тягостна, и Гумилёв был как раз одним из главных, установивших эту атмосферу литературного карьеризма, столь неподобающую искусству». Не приняли даже венок сонетов «Corona Astralis», а ведь это, вероятно, лучшее из того, что он создал как поэт.
Волошин мечтал популяризировать в «Аполлоне» современных французских писателей. И что же? В шестой номер взяли его переводы нескольких глав из «Яшмовой трости» Анри де Ренье, в девятый – перевод оды Поля Клоделя «Музы», и на этом дело застопорилось. Трагедия Вилье де Лиль-Адана «Аксель», а также драма Поля Клоделя «Отдых седьмого дня» не были востребованы. Изводят «беспрерывные уколы» в литературной жизни, мелкие склоки крупных авторитетов. Да и материальное положение, как всегда, «из рук вон плохо». В личной жизни – «та же запутанность и неразрешимость».
Вообще, создаётся ощущение, что Петербург – «главная реторта всероссийской психопатии». Возникает желание «бросить литературу в журналах и заняться чтением публичных лекций в провинции» – много денег не заработаешь, но хоть получишь «возможность узнать Россию». Намечается расхождение поэта с тем миром, в котором литературное творчество уступало место окололитературной борьбе, где систему художественных ценностей определяли «иерархи» – будь то В. Брюсов, Вяч. Иванов или С. Маковский, – на смену которым уже готов был венценосно заступить будущий глава акмеистов Н. Гумилёв. В самом конце «дуэльного» 1909 года А. В. Гольштейн писала Волошину из Парижа: «Я бы хотела взять Вас на руки и унести куда-нибудь от пошляков, подлецов, от всей вони и грязи, скопившейся во всех углах русской земли. Не Вам, Макс, справиться с этим „литературным“ миром и с этими обрывками человека…»
Да, отношение к Максу в этом мире капризных муз было неровным. За последнее время поэт очень сблизился с А. Головиным, заканчивающим большой портрет Макса; драматург, режиссёр и теоретик театра Н. Евреинов надписывает «дорогому Максимилиану Александровичу Волошину» свою книгу «Введение в монодраму»; писатель В. Гордин дарит «высокочтимому, глубокому, чуткому художнику и поэту нежнейших красивых песен» сборник рассказов «Одинокие люди». Вместе с тем есть люди, которые порицают Волошина за нарочитую парадоксальность выступлений, излишнюю красивость стиха, нелепость поведения. «И мышь, и Аполлон были мало к месту», – пишет о лекции «Аполлон и мышь» поэт В. Гофман; К. Богаевский, называя посвящённую его творчеству статью «великолепной», всё же находит в ней много лишнего и не приемлет легкомысленных отзывов об Айвазовском; зло подтрунивает над «Ваксом Калошиным» Саша Чёрный, а И. Бунин ехидничает по поводу личной жизни поэта: Волошин-де, «съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора…».
Тема «Волошин и прекрасный пол» казалась многим «критикам» наиболее благодатной.«…Когда меня влечёт женщина, когда духом близок ей – я не могу её коснуться, это кажется мне кощунством», – признался однажды он. Возможно, с этим связана и та интригующая недомолвка в характеристике, которую дала поэту М. Сабашникова в разговоре с С. Маковским. На его вопрос, почему так странны дружеские приключения Волошина с женщинами, Маргарита Васильевна ответила: «Макс? Он недовоплощённый…» Недовоплощённый, с точки зрения расхожих представлений о мужской норме поведения. Ну и конечно же, применительно к их «специфическому» браку…
Удивительно, но странное восприятие Волошина – поэта, художника и человека – имело место и в последние десятилетия. Так (отвлечёмся немного от хронологии повествования), в своей обширной, можно сказать, монографической статье, предваряющей парижский двухтомник сочинений поэта (1982), Эммануил Райс, словно бы в пику Андрею Белому (Волошин – «целое единственной жизни; поэт-Волошин, Волошин-художник, Волошин-парижанин, Волошин – коктебельский мудрец, отшельник и краевед, даны в Волошине, творце быта…»), упрекает художника в том, что он «так и не сумел окончательно выбрать своего пути – между поэзией, живописью, эзотерикой, между историками, поэтами и богословами и, наконец, простым и искренним русским исканием Божьей правды, в его случае особенно мучительным, из-за оторванности его от русской стихии…»
Сам поэт и филолог, Эммануил Райс признаётся, что ему трудно «по этой же причине… о Максе Волошине писать. У него всё перепутано, всё вместе, всё сразу. Да к тому же часто не на своём месте». И словно бы боясь, что ему не поверят, критик спешит пожаловаться на то, что ему в лице Волошина предстоит иметь дело с «воплощённым беспорядком», а именно: «В беспорядочном нагромождении и переплетении всего со всем – масонства с католицизмом, Родена с Аввакумом и богемы с аскетизмом, как только схватишься за какую-либо из беспорядочно торчащих во все стороны нитей, за ней потянется всё сразу – клочок рыжего крымского чертополоха на обломке резного деревянного украшения из недостроенного Гётеанума и глубокомысленные размышления о перевоплощении рядом с непристойной шуткой парижских художественных кофеен…»
Что же здесь плохого? С каких пор узость и творческое однообразие возводили художнику в заслугу, а многосторонность и широту таланта порицали?! Может ли в одаренном человеке удручать многогранность его духовных интересов? Оказывается, по Райсу, может. Волошин – «глубоко несовершенное и несчастное существо, трудная для разрешения задача, поставленная судьбою перед ним самим». Вот так. Не больше и не меньше. То, что «все эти начала в нём уживаются вместе и одновременно», вовсе даже не возвышает художника и поэта, не делает его интереснее. «Это только одна из причин некой как бы недовоплощённости его облика».
Что же, Волошин в литературе один такой? Нет, есть ещё В. Розанов, который (попался под горячую руку) «так же бесформенно мягкотел…», правда, вылеплен Волошин «из иных и иначе замешанных материалов», – глубокомысленно замечает автор статьи. Дальше – больше. Вспомнив, очевидно, что определение «недовоплощённый» по отношению к Волошину принадлежит его жене М. В. Сабашниковой, Э. Райс упоминает о его (Волошина) «затруднениях в области половой жизни, о которых сохранились свидетельства лиц, близко его знавших» (интересно – кого ещё, кроме Сабашниковой?). Приводится тут же и мнение В. Ходасевича: «советская власть потому и пощадила Волошина, что не принимала его всерьёз как противника, рассматривая и его гневные обличения, и его личное бесстрашие как безобидное чудачество и даже юродство». (Жаль, что этот «советский гуманизм» не распространился на таких «чудаков» от поэзии, как Н. Гумилёв, О. Мандельштам, Н. Клюев…)
Однако вернёмся в начало XX века… 30 ноября 1909 года скоропостижно умирает И. Анненский. Смерть настигает его у входа в Царскосельский вокзал. 4 декабря поэта и переводчика, директора гимназии и учёного провожали в последний путь Маковский, Кузмин, Волошин, Толстой, Ауслендер, Дымов, Зноско-Боровский, Зелинский, Котляревский, Булич и другие… Максу запомнилось: «Белый катафалк с гробом, с венками лавров и хризантем медленно и тяжело двигался по вязкому и мокрому снегу; дорогу развезло; ноябрьская оттепель обнажила суровые загородные дали…»
Маковский же в своих воспоминаниях выделяет другой аспект, характеризующий Макса, с его точки зрения, не очень лестно: «После похорон я ехал на извозчике с Волошиным, развивавшим мне свой взгляд на смерть и на мёртвых… – „Люди, умирающие скоропостижно, не успевшие приготовиться к иному существованию в другом измерении, бесконечно изумлены в первое время… Многие от неожиданности, догадавшись внезапно, что они – мёртвые, сходят с ума…“ Волошин это „сходят с ума“ произнёс особенно улыбчивым голосом, и меня отшатнуло от него в эту минуту: он показался мне… уж очень бессердечно-умствующим философом, смакующим приключения своей фантазии даже перед гробом друга». Трудно сказать, насколько всё это правдиво. Вроде бы и похоже на Волошина, но ещё больше – на шарж…
Так или иначе, смерть «подземного классика», творчество которого в той или иной степени было близко как писателям-символистам, так и пришедшим им на смену поэтам-акмеистам, подвела итог целой литературной эпохе, характеризовавшейся относительным единством эстетических исканий. К концу же 1900-х годов в русской литературе намечается очередной раскол. Прежде всего, ослабляется роль символизма, представители которого уже не могут претендовать на роль духовных лидеров, задавать тон в поисках новых средств самовыражения. Да и не только в символизме дело… Евг. Аничков в статье «Последние побеги русской поэзии» (1908) констатирует повсеместный разброд и шатание в лагере русской словесности: «Нет более ни кружков, ни школ, ни близких направлений, которые не расшатались бы. Всякий только за себя и всякий против всех. Даже не разобрать в этом гомоне, кто, кого и за что изобличает».
К. Бальмонт в 1907 году сделал выпад в сторону младшего поколения писателей: «Змей показал райское древо, но люди не стали богами. Несколько сильных змеев родило многих малых змеёнышей, разных, но свившихся в один спутанный клубок» («Наше литературное сегодня»), «Младшие», естественно, не оставались в долгу и больно задевали «отцов» символизма: «Безверие, беспочвенность, безыдейность, какое-то шаткое туманное пятно», – так, явно перегибая палку, характеризует «колыбель русского символизма» будущий «синдик» акмеизма С. Городецкий («Аминь», 1908).
Не удержался от дискуссии и «прямой наследник Вл. Соловьёва». Прежняя школа и прежнее направление, пишет А. Блок, «были только мечтой, фантазией, выдумкой или надеждой некоторых представителей „нового искусства“, но никогда не существовали в русской действительности…» («Вопросы, вопросы, вопросы», 1908). Блок одним из первых в лагере символизма задумывается о закате, внутренней исчерпанности этого направления. Позднее, в предисловии к поэме «Возмездие» (1919), он напишет: «…1910 год – это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу; акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек – но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то первозданный Адам».
Вслед за первой русской революцией, считает поэт, наступило «неистинное мистическое похмелье»; истинная сопричастность Вечности, «несказанному», подлинная духовность были утрачены. «Восьмидесятники, – пишет Блок матери, – не родившиеся символистами, но получившие по наследству символизм с Запада (Мережковский, Минский), растратили его, а теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием. К тому же, они – мелкие – слишком любят слова, жертвуют им людьми живыми, погружёнными в настоящее, смешивают всё в одну кучу (религию, искусство, политику и т. д.) и предаются истерике».
Предчувствовал грядущие изменения на литературном Олимпе и Вяч. Иванов. В докладе «Заветы символизма», прочитанном в Москве и Петербурге (март 1910), он противопоставил поэзию «магического внушения», лирику, основанную на восхождении от явления к сущности, от земных вещей к ноуменальной, сверхчувственной реальности, эстетическим представлениям XVIII–XIX веков, опирающихся на самодостаточность слова относительно разума, на «непосредственную сообщительность прекрасной ясности». Ныне, заключает Иванов, намечается поворот вспять. Современные поэты, раздавленные «данностью» хаоса, капитулируют перед внешним миром, впадают в иронию и отчаяние. Лишённые крыл, они не в состоянии освободиться от оков натурализма, хотя некоторые их произведения и не лишены «изящества шлифовального и ювелирного мастерства». Удел подобных авторов – возводить в «перл сознания» «всё, что ни есть красивого в этом, по всей видимости, литературнейшем из миров».
Вяч. Иванов с некоторой долей язвительности предвосхищает явление «русского Парнаса», «школы гармонической точности» (как назвала Л. Я. Гинзбург лирику, основанную на пушкинских традициях). И он не ошибся. Поэтика французских парнасцев (Ш. Леконт де Лиль, Т. Готье, А. Сюлли-Прюдом и др.) была действительно взята на вооружение будущими акмеистами и прежде всего их лидером Н. Гумилёвым.
Годом позже, анализируя сборник стихов Вячеслава Иванова «Cor Ardens» (Ч.1), Гумилёв сформулировал различие между поэтами «линий и красок» (Пушкин, Лермонтов, Брюсов) и Вяч. Ивановым: «Их поэзия – это озеро, отражающее в себе небо, поэзия Вяч. Иванова – небо, отражённое в озере». В первом случае, как считал ближайший литературный сподвижник Гумилёва С. Городецкий, имеется в виду «творчество, непосредственно воспринимающее сущее» и не затемняющее «его природы субъективными своими переживаниями и молниеносными впечатлениями». Во втором случае происходит растворение земных реалий и собственной поэтической индивидуальности в «сущем», «целом», поглощение «озера» «небом».
Литературные манифесты акмеистов предвосхитил М. Кузмин, не принадлежавший к какому-либо конкретному эстетическому направлению. В первом номере «Аполлона» за 1910 год появляется его статья «О прекрасной ясности». Автор делит представителей искусства на две категории: «несущих людям хаос, недоумевающий ужас и расщеплённость своего духа» и других – «дающих миру свою стройность». Вторые, при равенстве таланта, несомненно «выше и целительнее первых», особенно в смутное время, имеющее непосредственное отношение к автору и его читателям. Кузмин требует от писателя, каким бы художественным методом он ни пользовался, логики в замысле и построении произведения, точности и экономии в средствах, ясной гармонии и архитектоники. Выполнение этих условий приведёт художника к секрету «прекрасной ясности», «кларизма» (от лат. clarus – ясный), высшей цели искусства.
Такова была обстановка в литературном мире, когда в печати появилась книга стихов Волошина. 23 марта 1910 года В. Брюсов пишет литературоведу П. Перцову о «великом расколе» в кругу экс-декадентов – борьбе «кларистов» (С. Маковский, М. Кузмин и др.) с мистиками (В. Иванов, A. Белый, С. Соловьёв), о том, что издательство «Мусагет» решительно отмежевалось от «Скорпиона». Вот-вот должны были заявить о себе акмеисты. С. Городецкий, выступая в Литературно-художественном кружке, разнёс в пух и прах «Аполлон» вместе с его продукцией, после чего С. Маковский, уже в Петербурге, не подал ему руки. Поднимали голову эгофутуристы во главе с И. Северяниным. В 1908 году в еженедельнике «Весна» состоялся дебют «будетлянина» B. Хлебникова. А спустя два года поэт, художник, издатель и теоретик искусства Давид Бурлюк, вместе с братьями, Владимиром и Николаем, способствует рождению кубофутуризма…
Итак, 27 февраля 1910 года издательство «Гриф» в Москве выпускает книгу М. А. Волошина «Стихотворения. 1900–1910» тиражом 1200 экземпляров, с рисунками К. Ф. Богаевского. «Это лирика ума, лирика эмоций и созерцаний, схваченных рассудком», как отмечал рецензент газеты «Утро России»; «богатая и скупая книга замкнутых стихов, образ замкнутой души», по определению Вяч. Иванова. Это подведение итогов творчества поэта за первое десятилетие, художественный сплав традиций французской культуры и русской поэзии рубежа веков.
Сборник открывается характерным для молодого Волошина четверостишием. Это своего рода эпиграф ко всей книге:
…И мир, как море пред зарёю,
И я иду по лону вод,
И подо мной и надо мною
Трепещет звёздный небосвод…
Четыре строки порождают массу ассоциаций. Просматривается символистская концепция мессианства, избранничества поэта. Движение по лону вод вызывает определённые библейские аллюзии. Сразу же вспоминается: «Я только гроб, в котором тело Бога / Погребено». Или: «Не отходи смущённой Магдалиной – / Мой гроб не пуст…» Или: «Чьей рукой плита моя отвалена…» Поэт – это «освободитель божественных имён», божественной сущности, таящейся в людях, вещах, природе. Это бессмертный, неугомонный дух в его земной ипостаси, «себя забывший бог», тоскующий по Вселенной и вечности, но обречённый земным путям и трагедиям.
Поэтическое бытие воспринимается вне времени и пространства. Не случайно название небольшого цикла стихотворений: «Когда время останавливается». А пространство в данном случае лишается видимых границ. Звёздный небосвод, окружающий поэта, делает его соприродным космосу, «восхищает» от земли и обрекает на одиночество. Одиночество в философско-мировоззренческом плане – неизбывное состояние поэта. В дни мира и в дни войны…
И средь ладоней неисчётных
Не находил еще такой,
Узор которой в знаках чётных
С моей бы совпадал рукой, —
напишет Волошин в феврале 1913 года (нечётные числа воспринимались в эзотерическом смысле как мужские, чётные – как женские), а в ноябре 1919-го – завершит стихотворение «Гражданская война» хрестоматийно известной строфой:
А я стою один меж них,
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
«Иду по лону вод…» Движение. Устремление «туда – за грань». Странничество. Этот мотив – один из ведущих у поэта назвавшего себя в расширенном варианте этого стихотворения-«эпиграфа» «Вечный Жид». Это и реальные странствия «пилигрима», и духовные «блуждания», поиски философской истины. Свершая свой путь, восходя к вершинам познания, поэт и художник остаётся как бы наедине с морем (из которого, согласно преданиям, родилась жизнь), с целым мирозданием. Наедине с историей человечества.
«Трепещет звёздный небосвод…» Трепещет. Этот глагол выбран поэтом не случайно. Он не только позволяет ощутить необъятную, постоянно меняющуюся картину космоса, но и определяет саму природу поэзии, которая, если вдуматься суть мерцание, нечто колеблющееся. Пример подали те же символисты, которые, как считал их оппонент С Городецкий, старались использовать «текучесть слова…» Теории Потебни устанавливают с несомненностью подвижность всего мыслимого за словом и за сочетанием слов; один и тот же образ не только для разных людей, но и для одного и того же человека в разное время значит разное. Символисты сознательно поставили себе целью пользоваться главным образом, этой текучестью, усиливать её всеми мерами Символ таким образом приобретает потенциальную возможность вбирать в себя бесчисленное множество значений, сопрягать «всё со всем».
У молодого Волошина поэтика недоговорённого, ускользающего, ноуменальная (вертикальная) система образов характерны Для многих стихотворений. Самая яркая иллюстрация вышесказанного – «звёздный венок», первый сонет которого открывается запоминающейся строфой:
В мирах любви неверные кометы,
Сквозь горних сфер мерцающий стожар —
Клубы огня, мятущийся пожар,
Вселенских бурь блуждающие светы
Мы вдаль несём…
Неверные кометы, мерцающий стожар, мятущийся пожар блуждающие светы – безграничный, колеблющийся, неуловимый в своей сущности мир…
И все же не следует считать, что в первое десятилетие XX века символизм является доминирующим художественным методом Волошина. В 1910 году он определяет свою творческую манеру в статье «Анри де Ренье» как новый реализм – синтез традиционного реализма XIX века, импрессионизма («реалистического индивидуализма») и символизма. Подобно многим поэтам своего поколения, Волошин не ощущает прямой зависимости от французских символистов, хотя и переводит несколько стихотворений П. Верлена и С. Малларме, которого английский поэт и искусствовед Э. Люци-Смит считает ключевой фигурой европейского символизма, поскольку в его творчестве есть всё то, что составляет родовую печать этого метода: осознанная двуплановость мира, смысловой герметизм, символ, вызывающий резкий душевный сдвиг, отторжение сферы искусства от реальной жизни и т. д.
Волошин к подобной эстетической системе относится избирательно. Придерживаясь установки на синтез (синэстезию), он не принимает то, что делает лирику герметически замкнутой, «храмом для посвящённых». Ему чужды те художники слова, которые, подобно Малларме, заключают «свои идеи в алхимические реторты, магические кристаллы и алгебраические формулы», уводят поэзию внутрь самой себя, в самодовлеющие замкнутые формы. Волошину импонирует Анри де Ренье, разъявший формальный строй и разбивший причудливые «амфоры». Заслуга этого поэта в том, что он придал стиху символистов чувственную сказочность, «неторопливую прозрачность, а новым символам – чёткость и осязаемость».
Русский поэт надолго усвоит творческий принцип Ренье – «воссоздать, обессмертить в себе самом и вне себя убегающие мгновения», через мимолётное выразить вечное. Излюбленный образ французского писателя – золотые осенние листья, исчезающие от порыва ветра, но оставляющие «запах Славы и Смерти». Цвет Смерти и Солнца, запах Славы и Смерти, сочетание Смерти и Эроса – в этих антиномиях, по Волошину, заключена природа поэтического творчества. «Воистину мудр лишь тот, кто строит на песке, сознавая, что всё тщетно в неиссякаемых временах и что даже сама любовь так же мимолётна, как дыхание ветра и оттенки неба», – цитирует Волошин лирическую миниатюру Ренье, сопрягая её с известным стихотворением последнего в собственном переводе (1910):
Приляг на отмели. Обеими руками
Горсть русого песку, зажжённого лучами,
Возьми… и дай ему меж пальцев тихо стечь.
Потом закрой глаза и долго слушай речь
Журчащих вод морских и ветра трепет пленный,
И ты почувствуешь, как тает постепенно
Песок в твоих руках… и вот они пусты.
Тогда, не раскрывая глаз, подумай, что и ты
Лишь горсть песка, что жизнь порывы воль мятежных
Смешает, как пески на отмелях прибрежных…
Совмещение мгновения и вечности, преходящего и неизбывного, Смерти и Эроса должно сочетаться с внутренним сознанием своего «я» («…подумай, что и ты / Лишь горсть песка…»). Творческий импульс даёт возможность ощутить внутри себя «весь великий сон земли». Почувствовать божественную целокупность мира – значит дать изображение «Лика Невидимого» в «медалях» творчества, которые сделаны «из глины сухой и хрупкой», потому что в этой хрупкости скрыта правда, роднящая их с мимолётностью всех явлений. «Всё преходящее есть символ», а всё мировое целое «находит себе отображение лишь в текущих и преходящих формах». Божественные первообразы, платоновские эйдосы, идеальные сущности вещей и явлений напоминают о себе тем,
…что они были живым лицом
Того, что мы чувствуем в розах,
В воде, в ветре,
В лесу, в море,
Во всех явлениях
И в нашем теле
И что они, божественно, – мы сами…
Ортодоксальный символизм не устраивает Волошина своей тенденцией к усложнённым аллегориям, загадкам и шарадам, закрытому в себе образу, требующему разгадки. «Закристаллизованный» символ становится грубым и мёртвым. «Но с того момента, когда всё преходящее было понято как символ, исчезла возможность этой игры в загадки. Снова всё внимание художника сосредоточилось на образах внешнего мира», однако образах ускользающих, подобно прекрасной нимфе из лирико-философского этюда Ренье «Пленница»: «Ты убежала от меня, но я видел твои глаза, когда ты убегала. Рука моя знает вес твоей упругой груди, вкус, цвет… извив твоего исчезнувшего тела, за которым гонится моё желание…» Задача художника – закрепить стихом ускользающее мгновение.