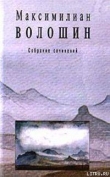Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 50 страниц)
Впрочем, тему «Петербурга под немцами» Волошин рассматривал в другом ключе. 27 февраля он писал Петровой: «„Петербургу быть пусту“. Помните это пророчество Петровских времён? Сейчас совершается трагедия не России, а Петербурга. Жду с напряжённым вниманием и ужасом момента, когда он будет взят немцами: в этот миг, представляется мне, вдруг и сразу осветится его судьба, та историческая ошибка, которая породила проклятие (Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I, насильно постриженной в монахини. – С. П.), на нём лежащее. Не в том ли она, что он был подменой Царьграда, каким-то временным центром национального сознания, лежащим вне физического тела народа? В его последней агонии, которая кажется на этот раз неотвратимой, это выяснится». Вспоминает Макс в эти дни и слова Р. Штейнера о том, что Россия «выплавит из себя шестую великую расу, но под опекой Германии». (Пятая раса, которая доминирует ныне, арийская. Штейнер в середине 1900-х годов читал лекцию на тему «Культура пятой арийской расы».)
И всё же возникает стойкое ощущение: в то время как ум Волошина создаёт сверхоригинальные теории (или следует за уже готовыми), его душа, простые человеческие чувства не принимают их. Особенно, когда это касается экспансионистских устремлений по отношению к России. Заканчивает он письмо о возможной «опеке Германии» такими словами: «И вот всё как будто идёт к тому, становится неизбежным и это всё же самое страшное и невольно шепчешь: Да минет чаша сия…»
Эти две ипостаси поэта постоянно взаимодействуют, порой вступают в противоречие друг с другом: интеллектуально-творческая, рождающая парадоксальные умозаключения, и чисто человеческая, душевно-трепетная, непосредственно реагирующая на события, пропускающая их сквозь сердце. Верх берёт то одна, то другая. Эту неоднозначность Волошина хорошо почувствовал И. Эренбург, который писал в воспоминаниях: «Макс был в Коктебеле. Он не прославлял революцию и не проклинал её. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше ни Вилье де Лиль-Адана, ни прорицания Казота, а погрузился в русскую историю и в свои раздумья. Понять революцию он не смог (здесь необходимо учитывать обстоятельства: когда писалась и печаталась книга Эренбурга – разумеется, ни о каком „правильном“ понимании Волошиным революции автор не мог бы сказать при всём желании. – С. П.), но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьёзность…
Иногда я спрашиваю себя, почему Волошин, который полжизни играл в детские, подчас нелепые игры, в годы испытаний оказался умнее, зрелее да и человечнее многих своих сверстников-писателей? Может быть, потому что был он по своей натуре создан не для деятельности, а для созерцания, – такие натуры встречаются. Пока всё кругом было спокойно, Макс разыгрывал мистерии и фарсы не столько для других, сколько для самого себя. Когда же приподнялся занавес над трагедией века – в лето 1914 года и в годы гражданской войны, – Волошин не попытался ни взобраться на сцену, ни вставить в чужой текст свою реплику. Он перестал дурачиться и попытался осознать то, чего не видел и не знал прежде».
В письме к А. М. Петровой от 10 мая 1918 года поэт спускается с теоретических построений на грешную землю, однако «прихватывает» с собой и опутавшие его исторические аллюзии: «Вчера я в первый раз с момента оккупации Крыма увидал немецких солдат воочию и говорил с ними (30 апреля немцы заняли Феодосию. – С. П.). Это не произвело такого тяжёлого впечатления, которого я ожидал. Когда я увидал их в бинокль на коктебельском берегу – купающимися, то это было скорее удивление: как будто я воочию увидал римских солдат, вступивших в Митридатово царство. Конкретно ощутился исторический размах германского предприятия. В факте присутствия германцев в Крыму для меня нет ничего оскорбительного, как это, вероятно, было бы, если бы я встретился с ними в Москве». А дальше берёт верх «первая» его ипостась: он вновь начинает воздвигать геополитические, футурологические теории, весьма любопытные и конечно же не бесспорные.
«Крым – слишком мало для России и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видал за истекшие полтора века (та же мысль содержится и в стихотворении „Дом Поэта“. – С. П.). Самостоятельным он быть не может, так как при наличности двенадцати с лишним народностей, его населяющих, и притом не гнёздами, а в прослойку, он не в состоянии создать никакого государства.
Ему необходим „завоеватель“. Для Крыма, как для страны, выгодно быть в ближайшую эпоху связанным с Германией непосредственно (а не с Украиной, а не с Австрией). Он попадает в глубокие руки, из которых он выйдет не скоро. Но я смотрю с точки зрения того „Армагеддона“, который разразится в ближайшие годы между Европой и монголами на всём пространстве европейской России, от которой после этого камня на камне не останется. В этой борьбе Крым будет играть роль крепости-убежища на правом фланге европейско-германского фронта. И я думаю, что германцы начнут тотчас же готовиться к этой войне и укреплять Крым (Крым – Кермен – Кремль – Крепость [12]12
Слово «Крым» лингвистически связано скорее не с «кремлём» или «крепостью», а с тюркским «кырым» (ров, вал) или монгольским «хэрэм» (вал). – Авт.
[Закрыть]– в самом имени его записана его роль)».
Прервём здесь ход волошинских мыслей и сделаем небольшое отступление. В поэзии и философии Серебряного века было сделано немало попыток осмыслить революционное лихолетье через евразийскую судьбу России. Говоря об историческом пути своей родины, А. Блок в своём цикле «На поле Куликовом» (1908) использует мотив степи в сочетании с «татарской» темой: «… До боли / Нам ясен долгий путь! / Наш путь – стрелой татарской древней воли / Пронзил нам грудь…» Продолжением этой темы стали блоковские «Скифы» (1918), написанные за два месяца до цитируемого письма Волошина. Блок отталкивается здесь от идеи Вл. Соловьёва. Усомнившись на закате жизни в исторических перспективах прогресса, философ и поэт грозил погрязшему в грехах Западу и самодовольной России («Третьему Риму») нашествием с Востока «пробудившихся племён», «жёлтых детей». «Движение крайнего монгольского Востока, которое Вл. Соловьёв называет панмонголизмом, – пишет Н. Бердяев, – было для него предвестием судьбины Божьей, указующим на апокалипсические судьбы человечества». Кара, по Соловьёву, грозит всем, «кто мог завет любви забыть». Эта же мысль звучит и в «Скифах». Спасшая от нашествия монголов Европу Россия, предостерегает Блок, «отныне вам не щит», если европейские государства не вложат «старый меч в ножны». А у столкновения «стальных машин, где дышит интеграл, / С монгольской дикою ордою» может быть один исход – не в пользу Запада. Волошин же, говоря о будущем западно-восточном «Армагеддоне», не заостряет внимания на его исходе, он лишь настаивает на том, что «роль крепости-убежища на правом фланге европейско-германского фронта» сыграет Крым, укреплённый Германией.
С другой стороны, по Блоку, Россия – не только «щит меж двух враждебных рас / Монголов и Европы». «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы…» Безусловно, здесь сказалась концепция А. Белого (да и не только его), согласно которой исторические скифы, населявшие припонтийские степи, были прямыми потомками первейшего праарийского племени и сохранили в себе такие исконные начала, как огонь, движение, катастрофическое мировосприятие, жизненный максимализм. Поэтому-то Блок пишет в «Дневнике» 11 января 1918 года: «Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольётся Восток».
Волошин иначе понимал евразийскую суть России, скифо-славянскую душу народа, арийскую расу. Однако и он в данном случае не сомневается, что «прольётся Восток». Правда, не «на вас», а скорее «на нас». Поэтому для него важно, чтобы Крым, при отсутствии России как государства, «теперь же был отдан в распоряжение Германии. Вы ведь знаете, что для меня ничего не будет удивительного, если через несколько лет Германия окажется крестоносной защитницей Европы от монголов. Я думаю, что Германия заняла Крым крепко и надолго и что это завоевание для Крыма полезнее русского. Гораздо сложнее вопрос психологический для нас, русских, связанных всеми корнями своей души с Киммерией».
Однако никакие теории не в силах унять тоски по поруганной родине. Она – есть, но что она теперь? «Наша физическая земная родина хирургически отделяется сейчас от родины духовной (Св. Русь); но даже изгнанничество, эмиграция невозможны, потому что России вообще теперь нет. И родина духовная – Русь – Славия – не имеет больше государственного, пространственного выражения. Она для нас остаётся ценностью духовной, какой в сущности была и раньше».
Но письма – не главное. Важнее – стихи. 24 мая Волошин заканчивает свою книгу «Демоны глухонемые» и отправляет рукопись в Харьков. Ждать её выхода придётся более полугода. Буквально вдогонку к завершённому сборнику рождаются стихотворения «Родина», «Молитва о городе», «Коктебель», «Карадаг», но эти произведения в книгу не войдут; не будут отражены в ней и картины начавшейся усобицы. А события между тем набирают ход: мятеж чехословацкого корпуса в Сибири, затопление половины Черноморского флота в Новороссийске, восстание левых эсеров в Москве, формирование «Краевого правительства» в Крыму с немецким ставленником генералом Сулькевичем во главе. Однако самым ярким событием весны, безусловно, стал «Ледяной поход» Добровольческой армии под командованием генерала Л. Г. Корнилова, когда белые в ходе почти двухмесячных непрерывных боёв прорывались с Дона на Кубань в надежде получить поддержку кубанского казачества.
Этот поход, начавшийся 9 февраля 1918 года в Ростове и закончившийся 31 марта под Екатеринодаром, «ледяным», строго говоря, был лишь несколько дней – при переходе от аула Шенджий к станице Новодмитровской. Утром было относительно тепло, но к вечеру холодало, дороги леденели, дожди порой переходили в метель; шли то по глубокому снегу, то по непролазной грязи… Что это было? «Старого мира последний сон – / Молодость, доблесть, Вандея, Дон», – написала М. Цветаева в «Лебедином стане». «Сознание своего одиночества на родной земле», – высказался один из участников похода, генерал А. Богаевский. Тщетная попытка противостоять судьбе России, бросившись под колеса истории… Корниловцы не встретили той поддержки населения, на которую рассчитывали. Екатеринодар сдался без боя красным 14 марта. Не доходя до города, Корнилов переформировал армию и готовился «атаковать по всему фронту». Случайный одиночный снаряд, влетевший в помещение штаба, оборвал его жизнь накануне штурма Екатеринодара. Принявший командование армией А. И. Деникин приказал начать скрытое отступление…
Волошин, естественно, не мог знать подробности этой героической акции (или, как писал историк Г. 3. Иоффе, «открытой попытки контрреволюции переломить ход событий 1917 г. в свою пользу посредством силы»). Однако 2 июня он получает письмо из Новочеркасска от Сергея Эфрона, участника «Ледяного похода». Это было живое свидетельство произошедшего и одновременно – крик отчаяния: «Нам пришлось около семисот вёрст пройти пешком по такой грязи, о которой не имел до сего времени понятия, – читает Волошин. – Спать приходилось по 3–4 часа, не раздевались мы три месяца, шли в большевистском кольце, под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боёв… от ядра корниловской армии почти ничего не осталось…»
Перед ним возникло лицо Сергея, до боли знакомое, красивое, только осунувшееся, с огромными впавшими глазами. Казалось, он слышит его голос:
– Что делать, Макс? Ты всегда говорил правду, ты – мудрый, ответь! Куда идти? Неужели все жертвы – даром?!
– Бороться с оружием в руках – не твоё дело, – мысленно отвечает Волошин. – Да и за что бороться теперь?.. Физически мы разбиты и отданы на милость победителю… Дальше – оспаривание клочков нашей плоти между бывшими врагами и бывшими союзниками. Не знаю, поймёшь ли ты это сейчас, Серёжа, но потом, когда немного утихнет боль, поймёшь: нам остаётся одно – национальное самосознание в духе… Единственное оружие России теперь – это дух и внутреннее просветление. Наша душа, Сергей, как древний Китеж во времена Батыя, ушла под воды озера, назови его Светлояр или как-то по-другому, поэтому и благовест её не слышен…
Как жаль, что эти события, эти мысли так и не вошли в книгу. А хотелось бы написать стихотворения историко-философского плана – «Дикое поле», «Китеж»… Пока же он сделал упор на темы, отражающие «революционные отсветы разных веков и широт». И персонажи подобраны соответствующие – Стенька Разин, Лжедмитрий, Аввакум… И эпохи, и события более чем актуальны: Смутное время, Раскол, Французская революция, «предвестия» российской катастрофы, революционная Москва, Петроградская бесовщина, Брестский мир… И всё это – сквозь призму тютчевского стихотворения, образ из которого вынесен в заглавие книги.
Ф. И. Тютчев:
Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.
Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять всё потемнело.
Всё стихло в чуткой темноте —
Как бы таинственное дело
Решалось там – на высоте.
(1865)
М. А. Волошин:
Они проходят по земле,
Слепые и глухонемые,
И чертят знаки огневые
В распахивающейся мгле.
Собою бездны озаряя.
Они не видят ничего,
Они творят, не постигая
Предназначенья своего.
Сквозь дымный сумрак преисподней
Они кидают вещий луч…
Их судьбы – это лик Господний,
Во мраке явленный из туч.
«Смысл „Демонов глухонемых“ Вы поняли вполне, – писал Волошин Петровой 19 января. – Тут не только русские бесы, но демоны истории, перекликающиеся поверх формальной ткани событий». В числе русских демонов истории поэт выделяет прежде всего «Дмитрия-императора». Это некий демонический синтез, совокупное единство, «распылённое… между тысячами бесов».
…Тут тогда меня уж стало много:
Я пошёл из Польши, из Литвы,
Из Путивля, Астрахани, Пскова,
Из Оскола, Ливен, из Москвы.
Именно поэтому он – «мёртвый, неизбывный»…
В Стеньке Разине, по мнению Волошина, «больше бесовщины, чем демонизма. Он – легион, несмотря на свою индивидуальность». Он, как и Ермак, реальное историческое лицо, растворившееся в массах, «народный эпос в действии». Поэт использует в стихотворении старинное волжское предание, согласно которому Разин не погиб, а, подобно Фридриху Барбароссе, заключён в недра горы на берегу Каспия и ждёт условного знака, чтобы выйти «судить русскую землю». По легенде, его иногда встречают на берегу «великого моря Хвалынского» (Каспийского), и он начинает расспрашивать о нынешних порядках на Руси: предают ли его ещё анафеме, не начали ли уже в церквах зажигать сальные свечки вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону «самолётки и самоплавки»? «Эти вопросы, столь напоминающие совершавшееся здесь, – пишет Волошин, – и сама идея Страшного Суда, вершащегося над Русской землёй тёмными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой, внушили мне поэму „Стенькин суд“».
Об авторской оценке Аввакума уже говорилось. Актуализируя эту фигуру, поэт в качестве эпиграфа одного из разделов выбирает его слова: «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервленит ю кровью мученической».
Комментируя в письме от 30 декабря 1917 года название книги «Демоны глухонемые», Волошин пояснял, что Демон – «не непременно бес – это среднее между Богом и человеком: в этом смысле ангелы – демоны и олимпийские боги – тоже демоны. В земной манифестации демон может быть как человеком, так и явлением. И в той, и в другой форме глухонемота является неизбежным признаком посланничества, как Вы видите по эпиграфу из Исайи. Они ведь только уста, через которые вещает Святой Дух…». Демон, согласно волошинскому пониманию, не обязательно заключает в себе нечто зловещее. В любом случае он (или оно, явление) – лишь проводник высших сил, высшей воли, проявляющейся в своей земной форме. Как и в греческой мифологии, это «мгновенно возникающая и мгновенно уходящая… роковая сила, которую нельзя назвать по имени, с которой нельзя вступить ни в какое общение…» (Мифы народов мира. Т. 1.).
«Формальная ткань событий» революции и Гражданской войны начинает вплетаться в его новые стихи, которые ходили по рукам и «списывались тайно и украдкой». Поэт объединит их в так и не опубликованную при его жизни книгу «Неопалимая Купина».
Волошин принимает участие в оформлении готовящегося к изданию сборника («Демоны глухонемые»): делает заставки и надписи. Работа над графикой и штриховой техникой, как всё новое, его чрезвычайно увлекает. Занимается Макс в это время и живописью: пишет серьёзные философские вещи, а также – «акварельки для продажи». В целом его образ жизни в это невесёлое время мало изменился: чтение лекций, участие в концертах, выступление со стихами, организация вечеров в пользу безработных Учительского союза (Феодосия), детского туберкулёзного санатория (Алупка)…
Не пустует и коктебельский дом. Постоянно живут там с семьями Николай и Константин Кедровы, неизменные партнёры Макса по концертной деятельности. Николай – певец, профессор Петроградской консерватории; Константин – певец и декламатор. Гостит харьковский издатель книги Волошина П. Б. Краснов, бывает художник А. К. Шервашидзе, наведывается критик, драматург и режиссёр Н. Н. Евреинов. Именно тогда впервые в доме поэта появляется бактериолог и поэтесса Татьяна Давидовна Цемах, Татида, с которой у Макса устанавливаются очень тёплые, если не сказать, «горячие» отношения. Чувство, судя по всему, было взаимным, но что-то и на этот раз помешало ему оформиться. Волошин посвятит Татиде стихотворение «Плаванье» (1919), а её портрет, точнее, «надпись к портрету» набросает в следующих словах:
Безумной, маленькой и смелой
В ваш мир с Луны упала я.
Чтоб мчаться кошкой угорелой
По коридорам бытия.
Не правда ли – очень мило, образно, интимно и… чувством юмора природа не обидела их обоих…
Летом 1918 года в «анархической республике поэтов и художников» побывал начинающий журналист и театральный критик Илья Березарк. Из Феодосии до Коктебеля он добирался на бричке, запряжённой ослами, поскольку лошадей немцы реквизировали, в ослах, видимо, нужды не испытывали. Судя по его воспоминаниям, жизнь в «обормотнике» даже тогда текла в прежнем русле: «Всякие попытки следовать приличиям воспринимались как оскорбление коктебельских нравов, как покушение на коктебельские свободы».
Где-то в Симферополе сидело-заседало правительство во главе с литовским татарином Сулейманом Сулькевичем, но «на местах крымских властей что-то видно не было. А немцев крымская деревня, расположенная тогда вдали от проезжих дорог, мало интересовала… Был только деревенский староста, который по всем вопросам приходил советоваться с Максом». Илья отмечает необычайную популярность Макса среди местных крестьян. Снискал он её не тем, что был поэт и художник, а своими практическими знаниями и мудростью. Волошин действительно прекрасно знал свой край («каждый ручеёк, каждое деревцо»), разбирался в сельском хозяйстве, давал ценные советы.
«В частности, – пишет И. Березарк, – он научил коктебельских крестьян делать маленькие ручные домашние мельницы (якобы по античному образцу). Такие домашние мельницы были во всех крестьянских дворах Коктебеля и, кажется, в соседних селениях. Здесь в это время царило натуральное хозяйство. Был, правда, в деревне небольшой рынок, но там больше не продавали, а меняли». Волошина это вполне устраивало. Он то и дело повторял свою излюбленную фразу: «Деньги нам не нужны», и, судя по всему, в этом была его убеждённость, а не эпатаж. Правда, за поэтические концерты и выставки в «Бубнах» всё-таки взимались «самые прозаические деньги».
Дом Поэта уже тогда представлял собой небольшой музей. «В нём чувствовался поэтический вкус хозяина. В доме хранилось много больших камней интересной формы, стояли диковинные деревья в кадках, интересно подобранные цветы и листья; рядом с ними – скульптуры и картины начала нынешнего века, близкие к декадентству и формализму». Мать поэта «держала себя по тому времени непривычно. Она постоянно курила, носила широкие шаровары. Теперь этим никого не удивишь, но тогда привлекало внимание. Она была настоящим художником в области вышивания и аппликации. Некоторые её вышивки, ещё до войны, удостоились наград на парижских выставках. Особенно славились её тюбетейки, которые она охотно дарила».
Разумеется, автор воспоминаний не мог не заметить «родства» поэта с Киммерией «Кстати сказать, особенно удачно звучали его стихи здесь, на пляже, под аккомпанемент волн. Когда потом я увидел его в Харькове в обычном костюме, мне показалось, что он поблёк, утерял свою внешнюю поэтическую привлекательность». Как многие мемуаристы, он отмечает, что Волошин был человеком «огромных знаний, впоследствии по его указаниям производились не только археологические раскопки, но и горные разработки». Правда, по мнению будущего журналиста, Макс не слишком хорошо разбирался в людях. В его доме обретался некий врач, напоминающий «первобытного человека в шкуре с палицей», явный шарлатан. Здесь же маячил другой тип, выдававший себя за внебрачного сына Николая Второго. Проницательный Евреинов сразу определил, что это просто жулик, намеревающийся обокрасть дом. Но Макс охотно принимал за чистую монету любую легенду.
Разумеется, среди гостей дома в основном были люди творческие.
В сентябре прибыл подышать морским воздухом молодой поэт Георгий Шенгели. Зачарованный атмосферой, царящей в Коктебеле, он окрестил это место «Киммерийскими Афинами». Да и сами «коктебельские излоги и лукоморья – героическая поэма. Тысячелетнее борение космических сил вылилось наружу, оцепенело в напряжённом равновесье. И припасть к развёрстым недрам трагической земли так же отрадно, как омыться гекзаметрами Гомера и сгореть вместе с градом копьеносца Приама», то есть Трои. Впрочем, «пустынные гекзаметры волны» воспел в своих стихах и Волошин, которого Шенгели возвёл в ранг «архонта» (высшая и самая почётная должность) этой новоявленной «республики», со «своими нравами, обычаями и костюмами, с полной свободой, покоящейся на „естественном праве“, со своими патрициями – художниками и плебеями – „нормальными дачниками“».
Вспоминал Г. Шенгели и свою первую встречу с хозяином: «С уютной софы… подымается невысокий грузный человек. Тёмно-рыжие поседелые волосы, сдержанные ремешком, синий античный хитон, сандалии. Внимательные серые глаза. Из-под подрезанных усов – нежный женский рот: Волошин». Уже в 1936 году гость посвятит ему стихотворение, так и названное – «Максимилиан Волошин»:
Огромный лоб и рыжий взрыв кудрей,
И чистое, как у слона, дыханье…
Потом – спокойный, серый-серый взор.
И маленькая, как модель, рука…
«Ну, здравствуйте, пойдёмте в мастерскую» —
И лестница страдальчески скрипит
Под быстрым взбегом опытного горца,
И на ветру хитон холщовый хлещет,
И, целиком заняв дверную раму,
Он оборачивается и ждёт…
Однако вернемся к нашему повествованию. «Начинается беседа. Внимательно выслушивая партнёра, принимая все его положения, Волошин незначительными поправками доводит его до согласия с собой. И тогда – изумительный гейзер знаний, своеобразнейшие сопоставления и сближения; вырастает стройная система воззрений на мир, на человека, на искусство. Потом становится парадоксальной. И вы теряете отчётливое представление: серьёзно ли говорят с вами? Из-под непроницаемой брони логики сквозит всё время лёгкая усмешка».
Сколько людей, знавших Волошина, столько мнений относительно его манеры чтения. Шенгели отмечает, что поэт читал стихи «превосходно». Причём чужие – лучше, чем свои. При этом – пламенный восторг по их поводу. И – непременный рассказ о самих поэтах, в шутку и всерьёз.
– Присылает мне Илья Эренбург книгу стихов. Книга неправильно сброшюрована: обложка вверх ногами. Я сначала вознегодовал, сочтя это намеренным. Потом понял. Приходит ко мне сестра поэта, желая поговорить о присланной книге. Я беру книгу и читаю. Она потом пишет брату: «Какой оригинал этот Волошин! Представь: держал твою книгу вверх ногами и читал. Даже неприятно».
Неизменными атрибутами жизни «Киммерийских Афин», как следует из воспоминаний Шенгели, оставались всевозможные спектакли и розыгрыши. Реальность постоянно раздваивалась, подвергалась ироническому переосмыслению, переворачивалась с ног на голову; неожиданно выходило, что «длиннобородый молчаливый господин оказывается Папюсом, юноша с высоким лбом и чёрной гривой – секретарём президента Андоррской республики, причём вас тихонько предупреждают, что он страдает клептоманией», тут же разыгрывались любовные страсти, сцены ревности, попытки утопиться – уже знакомые нам компоненты, заимствованные из трагифарса или комедии положений.
Волошин большую часть времени посвящал акварелям, «пишучи их по пяти, по шести в день. Живопись его, которую отец П. Флоренский метко назвал мета-геологией, вся посвящена раскрытию сущности коктебельской природы и в чёткой графике своей, в бархатном разливе красок воспроизводит напряжённость карадагских складок, зной и сухость степных балок, ультрамариновые тени ущелий, воспалённые полдни и веера закатных облаков». Поэт Волошин, по мнению Шенгели, не «светлый лирник», а «кузнец упорных слов», он – «вкус, запах, цвет и меру выплавляет их скрытой сущности». Это поэт-пластик, а не «музыкант», но при этом – мастер ритма. «Своеобразный и богатый, он в каждой строке переливается по-иному, в точности соответствуя всем изгибам логического рельефа». Волошинский верлибр «приближается к пушкинскому, далеко оставляя за собой почти все попытки современных стихотворцев, и опыты введения в русский стих античных размеров стоят выше фетовских… Таким образом, формальное совершенство стихов Волошина – непререкаемо». Автор воспоминаний, сам поэт и переводчик, видит в Волошине большого труженика, «чеканщика монет», «гранильщика камней». Над одним стихотворением Макс мог работать несколько лет. «Не потому ли так равны книги Волошина, так выдержан лирический уровень его стихов? Какой урок стихотворцам, эшелонами отправляющим стихи в типографию»…
Ни для кого не секрет, что «известность поэта и весомость поэзии далеко не всегда находятся в прямом отношении». К Волошину это имеет прямое касательство. Ведь он живёт вдали от литературных рынков (правда, в Москве и Питере бывает по своим издательским делам весьма часто, что не учитывает автор эссе) и потому не слишком часто печатается; к тому же «стихи его слишком насыщены культурой, обращающей повышенные требования к читателю», поэтому «мало известен широкой публике… Но в литературных кругах имя Волошина пользуется высокой репутацией».
Так или иначе, но к началу усобицы Макс Волошин завоёвывает популярность. Он – автор трёх поэтических книг, на выходе – четвёртая, которая, по оценке издателя Краснова, заключает «в себе потрясающую силу». Ни одна из них не была проходной, легковесной; каждая удостаивалась повышенного внимания критики. Кого-то поэт поражал, кого-то приводил в восторг, у кого-то вызывал шок, кого-то заставлял задуматься… В чём же, если не в этом, предназначение художника?.. «Если критики спорят между собой, значит, художник – в согласии с собой», – утверждал О. Уайльд, с которым А. Белый соотносил М. Волошина. Правда, задачу свою, возможно – главную, ему ещё предстояло реализовать…
А пока Волошин задумывается о новом лекционном турне, на этот раз – по городам юга, хотя идёт война. Но ведь именно сейчас воодушевляющее слово, напоминание о вечных истинах, особенно значимо. Репертуар можно оставить тот же (лекции о Верхарне, Сурикове, а также «Жестокость в жизни и ужасы в искусстве»), добавив к обкатанным темам новую, обобщающую последние события мировой истории: «Скрытый смысл войны». Конечно, хорошо бы подобрать материал о нынешнем положении в России, но здесь всё ещё в состоянии бурного брожения, и до конца непонятно, какой жребий вынет «горькая детоубийца-Русь»… Макс с интересом следит за развитием современной поэзии, ведь кто-то уже откликнулся на злобу дня, причём не просто выплеснул эмоции, а вывел свои наблюдения на историко-философский уровень. Прежде всего это А. Блок со своими программными произведениями «Двенадцать» и «Скифы», первое из которых уже подверглось обструкции в интеллигентско-поэтической среде… Вышла книга стихов И. Эренбурга «Молитва о России», в которой Макс почувствовал «такой же пророчески-библейский подход к текущей современности», как у французского поэта, историка Агриппы д’Обинье – к событиям Варфоломеевской ночи, свидетелем которых он был. Здесь уже можно что-то обобщить, и по заказу П. Б. Краснова Волошин посылает в издательство «Ка-мена» статью «Поэзия и революция», в которой утверждает: «В эпохи катастрофические поэт может быть унесён какой угодно струёй внезапного водопада, сражаться в рядах какой угодно партии» как человек; но как поэт «он станет голосом всей катастрофы, и его творчество будет всегда стоять по ту сторону партийной слепоты» – мысль, к которой художник будет возвращаться постоянно.
Ну а в Европе произошло долгожданное событие. 11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне-салоне французского маршала Фердинанда Фоша, стоящем на «запасном пути» в Компьенском лесу, в семидесяти километрах от Парижа, был подписан Компьенский мир между Германией и главными странами Антанты – Англией, Францией и США. Первая мировая война, длившаяся четыре года три месяца и десять дней завершилась поражением Германии и её союзников. Некогда могучая немецкая армия попросту разложилась, и, надо сказать – не без влияния славянства, распространявшегося с Восточного фронта. Война бросила в свой адский котёл 38 стран и обошлась человечеству почти в 360 миллиардов долларов золотом. Погибло и умерло от ран 9,5 миллиона солдат и офицеров, в их числе – 1,89 миллиона русских. А сколько миллионов было ранено, контужено и осталось калеками… Какими логическими построениями можно оправдать этот страшный мировой абсурд?.. Повторится ли что-то подобное в будущем?.. С этими вопросами можно обращаться только к Всевышнему:
Так дай же силу
Поверить в мудрость
Пролитой крови;
Дозволь увидеть
Сквозь смерть и время
Борьбу народов,
Как спазму страсти,
Извергшей семя
Всемирных всходов!
(«Не ты ли…», 1915)
Война закончилась. В Крыму сменилось правительство: на место ставленника Германии Сулькевича был посажен ставленник Антанты, член Первой Государственной думы, караим по национальности, Соломон Крым. Наступило кратковременное политическое затишье. Волошин отправляется в полугодовое турне…