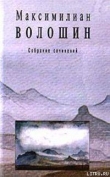Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 50 страниц)
Слышится шорох. Лиля всматривается в тёмный угол комнаты. Кажется, там кто-то есть. Руки судорожно обнимают колени. Она явственно слышит слова, произносимые грустно и протяжно. Что это – звуковые галлюцинации, раздвоение личности?
Царицей призрачного трона
меня поставила судьба…
Венчает гордый выгиб лба
червоных кос моих корона.
Но спят в угаснувших веках
все те, кто были бы любимы,
как я, печалию томимы,
как я, одни в своих мечтах.
И я умру в степях чужбины,
не разомкнуть заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
так тонко имя Черубины.
Свет луны падает на лицо таинственной незнакомки в чёрном платье и широкополой шляпе. Она загадочно улыбается. На тахте только скомканное одеяло…
Так и продолжалось коктебельское лето. Лиля Дмитриева всё больше времени проводила с Волошиным. Они оба погрузились в придуманный ими мир, мир их общей тайны. Отвергнутый Гумилёв на какое-то время задержался в Крыму. Он ходил мрачный и нелюдимый, ловил тарантулов и устраивал между ними настоящие сражения. Лиля казалась счастливой. Но, к сожалению, её болезненные душевные состояния время от времени давали о себе знать, о чём свидетельствуют дневниковые записи Волошина за июль 1909 года: «Это было вчера. Лиля пришла смутная и тревожная. Её рот нервно подёргивался… Мы сидели на краю кровати, и она говорила смутные слова о девочке… о Петербурге…
– Лиля, что с тобою было?
– Не знаю, я ведь спала…
– Нет, ты не спала.
– Макс, я что-то забыла, не знаю что. Что-то мучительное. Скажи, ты не будешь смеяться? Нет, если я спрошу… Скажи, Аморя твоя жена?.. Да… И она любила… Да, Вячеслава… Макс, я ведь была твоей… Да, но я не помню… Но ведь ты всё знаешь, ты помнишь… Тебе меня отдали. Я вся твоя. Ты помнишь за меня…
Она садится на пол и целует мои ноги. „Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой бог. Я тебе молюсь, Макс“».
Затем в сознании Лили возникает полумистический образ «Того Человека»: «Он появился между мною и окном… Я чувствовала холод от него. Точные слова не помню… Они словно звучали во мне… И Он сказал мне, что… пришёл… предупредить… Что если я останусь твоей, то в конце будет безумие для меня… И для тебя, Макс. Страшно сладкое безумие. Он сказал, что девочка может быть у нас, но и она будет безумна… Что её не надо… Макс… и что надо выбрать… Или безумие… сладкое! Или путь сознания – тяжёлый, больной…»
Проникать в тайны подсознания – удел психоаналитиков. Отметим лишь всё более тревожное состояние души коктебельской гостьи, её смутное ощущение какой-то надвигающейся катастрофы. Связано ли оно с предстоящим литературным розыгрышем, с присвоением чужой, несуществующей судьбы, мистической и одновременно более реальной, чем судьба самой Лили Дмитриевой? А может быть, всему виной – сумятица чувств? Или истоки психического разлада лежат где-то совсем в другой сфере?.. Воздержимся от конкретных умозаключений. Во всяком случае, эта судьба уже вступила в свои законные права; «уж занавес дрожит перед началом драмы»… Не будем и мы в нашем повествовании отступать от жанра драмы с элементами мистики или, если угодно, трагикомедии…
Петербург. Редакция «Аполлона». Изысканно-элегантный редактор журнала Сергей Маковский поправляет изящную линию усов. В миндалевидных глазах мерцает огонь страсти и любопытства. Рядом с ним Волошин.
– Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда говорил, что вы слишком мало внимания обращаете на светских женщин. От одной из них я получил сегодня потрясающие стихи:
С моею царственной мечтой
одна брожу по всей вселенной,
с моим презреньем к жизни тленной,
с моею горькой красотой…
Каково?! Это не то, что ваша девица-учительница, внушившая своим воспитанникам любовь к Гришке Отрепьеву…
– Откуда вам это известно?
– Да об этом судачит весь Петербург! Кстати, Максимилиан Александрович, а сами вы могли бы написать такие стихи?..
«Нам удалось сделать необыкновенную вещь, – вспоминал Волошин, – создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призрак». При этом Макс оговаривается: «В стихах Черубины я играл роль режиссёра и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля». Многие критики увидят в стихах Черубины нарочитое самопоклонение, будут проводить параллели с «Дневником Марии Башкирцевой», ещё недавно эпатировавшей читателей непомерной гордыней и дерзкими высказываниями. Если говорить о литературных корнях «графини», нельзя не упомянуть о любовной лирике Мирры Лохвицкой, любимой, кстати, поэтессы Елизаветы Дмитриевой. Кроме того, создавая образ романтической, экзотической Черубины, Макс и Лиля ориентировались на жизнеописание Святой Терезы (1588), страстной, независимой натуры, живущей в мире видений и мистических религиозных откровений.
Петербург. Квартира Маковского. Редактор-эстет болен. Шея обмотана толстым шарфом. Он томно полулежит среди огромных диванных подушек. Волошин – сама невинность – скромно восседает рядом на стуле.
– Она опять прислала стихи. И переложила их травами. Вот полюбопытствуйте. Неподражаемая вербена…
– Это полынь.
– Вы уверены?
– (Скрывая свою роль в этом цветочно-эпистолярном романе.) Впрочем, не берусь утверждать.
– Я всегда ценил в себе один талант: умение по почерку определять судьбу людей, их происхождение, возраст.
– Очень интересно.
– Вот извольте взглянуть (показывает письмо): на редкость выразительные линии. Что здесь можно заключить? Зовут Черубина де Габриак. Впрочем, это она сообщает сама. Отец, несомненно, француз. Что-нибудь из Южной Франции – Марсель, Тулуза. Мать – русская. Ну, а сама девушка получила монастырское воспитание…
– Да что вы говорите… И где?
– Думается – в Толедо.
Макс ошарашен, а Маковский продолжает делиться своими размышлениями:
– Страстная католичка. Питает интерес к староиспанской литературе. Имеет двоюродного брата.
– (Робко.) Двоюродную тётку.
Строгий взгляд Маковского пресекает всякую попытку корректив.
– Не перебивайте. В Петербурге никогда ранее не бывала.
Раздаётся телефонный звонок. Маковский вздрагивает.
– Это она. (Волошин понимающе кивает.) Да, графиня, это я. Да, получил. И буквально сражён вашими стихами. Не могли бы вы?.. Да, присылайте мне всё, что у вас есть, и то, что впредь появится. Да, буду счастлив, любезная Черубина Георгиевна. До свидания!
– Откуда вы знаете её отчество? Вы находите, что Георгий – южнофранцузское имя?
– Она сама мне так представилась.
– (Про себя.) Рискованный ход…
Ну а стихи «призрака» тем временем завоёвывают всё новых и новых поклонников. Свой голос с Таврической улицы подаёт хозяин «Башни». Высоко отзывается о стихах Черубины и другой маститый поэт, Иннокентий Анненский. В статье «О современном лиризме» он, в частности, напишет, что то «зерно, которая она носит в сердце, безмерно богаче зародышами, чем… изжитая… и безнадёжно-холодная печаль» Бодлера и Гюисманса. Открывшуюся ему поэзию Анненский характеризует как «эмалевое гладкостилье». «По русски ещё так не писали», – вторит ему поэт символистского толка Виктор Гофман, высказыавая, однако, сомнения: «Во-первых, начинающие поэтессы не пишут так искусно. А во-вторых, где же и кто, наконец, эта Черубина де Габриак?»
Петербург. Редакция «Аполлона». Взбудораженные стихами Черубины, сотрудники обмениваются их текстами.
– Вы мне переписали?
– Да, вот возьмите.
– Это потрясающе. Вы только послушайте:
Даже Ронсара сонеты
не разомкнули мне грусть.
Всё, что сказали поэты,
знаю давно наизусть.
Тьмы не отгонишь печальной
знаком Святого Креста,
а у принцессы опальной
отняли даже шута.
Здесь же и Вячеслав Иванов:
– Должен признаться – эта дама весьма искушена в мистическом Эросе!..
Иннокентий Анненский:
– Да, старую культуру и хорошую кровь нельзя не почувствовать! Но знаете: эта девушка, хоть отчасти, но русская – она думает по-русски.
Неожиданно «выстреливает» Алексей Толстой:
– А вам не кажется, что многое здесь – от Макса Волошина?
Волошин, который до того сладко улыбался и кивал, бросает на Алихана уничтожающий взгляд, и тот исчезает. К счастью, кто-то отвлекает внимание присутствующих от реплики Толстого:
– Господа, обратите внимание – она пишет о своей родословной. Даже описывает родовой герб:
Червлёный щит в моём гербе,
и знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
последней – в роде дерзких волей.
– Где это, где?
– Да вон, на бумаге с траурным обрезом.
– Какой вкус, какой полёт чувства!
Кто-то пытается вовлечь в разговор Гумилёва, но тот, скрестив на груди руки, с презрением взирает на всю эту кутерьму. Наконец, Маковскому задают вопрос по существу:
– Сергей Константинович, так когда же выйдут стихи Черубины де Габриак?
– Я в отчаянии. Номер уже составлен. Иннокентий Фёдорович, не уступите ли вы, ну хотя бы две свои полосы?
– Ради такой очаровательной женщины…
Волошин, с удивлением:
– Откуда вы знаете, что она очаровательна?
Телефонный звонок. Все умолкают. Маковский срывает трубку:
– Это вы? Умоляю. Давайте договоримся о встрече. Что? На островах? Потом будете в театре? Но как мне вас… (Медленно кладёт трубку.) Сказала: я должен опознать её шестым чувством…
Петербург. Набережная. Волошин и Маковский возвращаются из редакции.
– Признаюсь вам: я написал ей ответ на французском языке. Только вот не знаю, куда его… Я попросил её порыться в старых тетрадях и прислать всё, что она до сих пор писала.
– Вы считаете, что и детские её стихи заслуживают внимания?
– Я уверен: они столь же совершенны. Очаровательная женщина.
– Почему вы так в этом уверены?
– Не знаю. Но мне постоянно видится её облик. Как жалко, что отец не передал мне свой талант живописца! Кстати о художниках… Сомов… он сегодня меня уверял, что готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать её портрет. Он готов дать ей честное слово не злоупотреблять её доверием.
– Сомов? Откуда он знает, что она живёт на островах?
– Он только предполагает. Но при этом он обещает не допытываться, кто она такая и по какому адресу проживает.
– Весьма благородно с его стороны.
– Весьма глупо! Ведь он просит меня уговорить её позировать, а я понятия не имею, где её искать!
– Она что же – не оставила вам адреса?
– Только запах духов. Удивительно тонкий запах.
– И полыни.
– Полыни?
– Ах, простите – вербены…
Петербург. Старинный особняк. К дому приближаются Маковский и Сомов.
– Уже полдня ходим и хоть бы на метр приблизились к цели!
– Искусство, господин Сомов, требует немалой крови и нервов. Не мне вас учить.
– Не только нервов, но и денег. Я слышал, Сергей Константинович, что с помощью подкупа вы заручаетесь доверием невинных людей и уже опросили всех дачевладельцев Каменноостровского по поводу Черубины.
Маковскому крыть нечем.
– Ну что, рискнём?
Сомов дёргает звонок у парадной, и вскоре в дверях показывается дворецкий. С некоторым удивлением и тревогой смотрит он на господ явно богемного вида. Маковский берёт инициативу в свои руки:
– Вот что, голубчик, у нас к тебе конфиденциальный разговор.
Дворецкий напрягается.
– Мы из редакции литературного журнала «Аполлон». Нам сказали, что в этом доме (сверяется с бумажкой) проживает или, ну скажем, может проживать, молодая особа, графиня, приехавшая из Франции, поэтесса Черубина де Габриак.
Дворецкий бросает на любопытствующих господ подозрительный взгляд, но всё же отвечает:
– Их превосходительство графиня Нирод уехали за границу.
– А куда именно, любезный?
– В Париж.
– И давно она покинула Россию?
У обоих «сыщиков» хищно загораются глаза. Хитроумный слуга, смекнув, что господам нужны какие-то факты, в которые они очень хотят поверить, мгновенно перестраивается:
– Да ещё весной.
– Что же, она одна уехала?
– Никак нет-с. С мужем, Иваном Ардальонычем-с.
Видя, что оба посетителя разочарованы, добавляет:
– У их превосходительств – две внучки-с. В Париже проживать изволят-с. Да, вот… та, что помоложе, сейчас здесь, в Петербурге.
Маковский машинально суёт ему купюру и задаёт главный вопрос:
– Как зовут ту, что сейчас в Петербурге?
– Не извольте гневаться, ваше благородие… Мудрёное имя. Вроде как Жозефина. Но графиня называет её как-то ещё и по-другому.
Сомов, вручив старику ещё несколько бумажек, заговорщицким шёпотом:
– Не Черубиной ли?
– Да, ваше сиятельство. Именно так-с, Черавиной-с.
– И что же, мадемуазель Черубина сейчас дома?
– Никак нет-с. Уехали с утра. Верхом-с.
Литераторы, не солоно хлебавши, отбывают прочь.
Петербург. Квартира Маковского. И вновь телефонный звонок.
– Ах, это вы!
– Сегодня утром я написала стихи. Думаю посвятить их вам. Завтра вы их получите.
– Но я не могу ждать до завтра!
– Хорошо. Я прочту их вам прямо сейчас:
Лишь раз один, как папоротник, я
цвету огнём весенней, пьяной ночью…
Приди ко мне к лесному средоточью,
в заклятый круг, приди, сорви меня!
Люби меня! Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче,
Я, как миндаль, смертельна и горька,
нежней, чем смерть, обманчивей и горче.
– Черубина Георгиевна, милая Черубина, где я смогу вас увидеть? Вчера вечером я был на островах…
– И что же, сердце не подсказало, не направило вас ко мне?
– Мне кажется, я видел вас в автомобиле. На вас было одето…
– Я никогда не езжу в авто. Только верхом.
– Я знаю. Несколько часов назад ваш дворецкий сообщил мне, что вы отправились верхом, на прогулку…
– В Петербурге я не держу слуг… Очевидно, вас известили о моей тёзке… или двойнике…
Петербург. Кафе. Волошин, Толстой и взбудораженный Маковский.
– Сегодня я сражён окончательно! Она читала мне стихи. И мне же их посвятила.
Толстой:
– Так вы нашли её?
– Нашёл. Потом потерял. Короче говоря, это было чтение по телефону.
Волошин:
– А из телефонной трубки пахло полынью?
Маковский бросает на него свирепый взгляд.
– Ах, простите, вербеной.
– Знаете, мне не до шуток. Будь у меня сорок тысяч годового дохода, я бы решился за ней ухаживать.
– По телефону?
Волошин и Толстой смеются. Маковский сидит решительный и мрачный.
Стихи Черубины де Габриак были опубликованы (оттеснив, кстати, произведения И. Анненского) во втором номере «Аполлона» за 1909 год, а в третьем появился критический очерк не забывавшего подливать масло в огонь Волошина «Гороскоп Черубины де Габриак», где говорилось о свойственной ей «любви, безысходной и неотвратимой, о сатанинской гордости и близости миру подземному». А главное, что сейчас мы стоим «над колыбелью нового поэта», что Черубина де Габриак – «подкидыш в русской поэзии». Между тем в редакции не утихало брожение чувств. За несуществующей поэтессой была установлена настоящая слежка. На каждой премьере балета просматривались все ложи бенуара; на Каменноостровском продолжался опрос дачников; даже на вокзал к отходу поездов, отбывающих в Париж, посылались соглядатаи.
Редакция «Аполлона». Взъерошенный Маковский бросается навстречу входящему Волошину.
– Катастрофа! Она уезжает в Париж.
Волошин удивлён.
– Вы это точно знаете?
– Она мне прислала письмо. Бежим – надо успеть к отходу поезда!
Вокзал. Волошин и Маковский протискиваются сквозь толпу. Шеф «Аполлона» отдаёт распоряжения:
– Вы идите к концу поезда, а я покручусь здесь…
Спустя пару дней. Кафе. Те же персонажи.
– Она прислала мне письмо из Парижа.
– Как это ей удалось – так скоро?
Но эта деталь влюблённого редактора не интересует. Он читает письмо:
– «Милый друг! Я так и предполагала увидеть Вас на вокзале в качестве сыщика, возможно даже – с накладной бородой. Но не думала, что Вы прихватите с собой Вашего соглядатая, который высматривал меня в хвосте поезда…»
– Какая проницательность! Но как она могла увидеть одновременно, что делается возле головных и хвостовых вагонов?
– Ах, не забивайте себе голову всякой чепухой! Кстати, дальше она пишет о вас: «Кто он такой, этот Ваш друг, можно ли ему доверять?» Она пишет, что вы совершенно не похожи на поэта. Простите. И что вследствие вашей комплекции на таможне у вас наверняка бывают неприятности. Ещё раз простите.
– Что это она так заинтересовалась моей особой?
– Судя по загару, вы часто бываете в Крыму и вид у вас – дачевладельца.
– Потрясающе! Пожалуй, я поеду за ней в Париж, разыщу, приглашу на дачу, и… хотя у меня и нет сорока тысяч годового дохода…
Петербург. Скверик. Сидя на скамье, беседуют Макс и Лиля.
– Сегодня я сказал Маковскому, что разыщу тебя в Париже и… приглашу в Коктебель, в свои владения.
– Ты сделал паузу, Макс. Спасибо тебе за то, что затерялось между слов.
Оба некоторое время молчат.
– Ну как ты, Лиля? Устала от поэтических успехов?
– Назвался груздем… Кстати, Макс, моя «мать», то есть Черубинина, она умерла или нет? Я это совсем упустила, а в разговоре с Маковским ляпнула по телефону: «Моя покойная мать…» Я очень боюсь ошибиться в фактах «своей» биографии…
– Я что-то тоже подзабыл. Надо подумать…
Редакция «Аполлона». Маковский самостоятельно достраивает биографию Черубины, так что Волошину остается только соглашаться.
– Какая изумительная девушка! Я прекрасно знаю, что мать её жива и живёт в Петербурге, но она считает её умершей с тех пор, как та изменила мужу, и недавно так и сказала мне по телефону: «Моя покойная мать»…
– Она звонила вам из Парижа?
– А что тут особенного?..
Квартира Маковского. Редактор «Аполлона» не находит себе места. Иннокентий Анненский пытается его успокоить:
– Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истратьте сто – ну, двести рублей, оставьте редакцию на меня… Отыщите её в Париже!
– Да не в этом дело. Я получил известие, что она заболела. Очень плоха, и если поправится, то, возможно, пострижётся… Уйдет в монастырь.
– Какое несчастье!
«Однако Сергей Константинович не поехал, – рассказывает Волошин, – что лишило историю Черубины небезынтересной страницы.
Для его излияний была оставлена родственница Черубины, княгиня Дарья Владимировна (Лида Брюллова). Она разговаривала с Маковским по телефону и приготовляла к мысли о пострижении Черубины в монастырь…. Кризис болезни Черубины намеренно совпадал с заседаниями Поэтической Академии в Обществе ревнителей русского стиха, так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произведёт на Маковского известие о смертельной опасности.
Ему ежедневно по телефону звонил старый дворецкий Черубины и сообщал о её здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественной тишины, во время доклада Вячеслава Иванова, Маковского позвали к телефону. И. Ф. Анненский пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: „Она будет жить!“…
Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам массу хлопот. Так, например, мы придумали на своё горе кузена Черубине, к которому Papa Mako ужасно ревновал. Он был португалец, атташе при посольстве, и носил такое странное имя, что надо было быть так влюблённым, как Маковский, чтобы не обратить внимания на его невозможность. Его звали дон Гарпия ди Мантилья. За этим доном Гарпией была однажды организована целая охота, и ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его не существовало. В редакции была выставка женских портретов, и Черубина получила пригласительный билет. Однако сама она не пошла, а послала кузена. Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить дона Гарпию. В прихожей были положены листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда „он“ распишется. Однако каким-то образом дону Гарпии удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всём рассказал Черубине».
Петербург. Набережная. Николай Гумилёв замечает мелькнувшую в одной из арок фигуру Лили.
– Лиля! Куда вы пропали? Я уж начал подумывать – не уехали ли вы за границу?
Лиля невольно улыбается этому соответствию легенде.
– Нет. Я здесь. Учительствую.
– А как же стихи? Продолжаете писать?
– Да нет, как-то… После того нашего разговора что-то не тянет.
– Это вы зря. Впрочем, смотрите сами. Надумаете их издать – я бы мог составить протекцию.
– Вы это серьёзно?
– Ещё как! Я теперь правая рука Маковского. Он прислушивается к каждому моему слову.
– Что ж, рада за вас. Но не думаю, что мне понадобится ваша помощь. Тем более, я слышала, что у Маковского все интересы сосредоточены на французской графине. Говорят, она тоже пишет стихи.
– Не знаю. Я не охотник до женской поэзии.
Пауза. Лиля задаёт неожиданный вопрос:
– Кстати, как она вообще?
– Маковский сегодня на заседании сказал: «Она будет жить». Ему, дескать, сообщили.
– Что же. Это совсем неплохо…
Пустынный демонический Петербург. Петербург Достоевского и Андрея Белого. Петербург Черубины де Габриак, где, кажется, сами стены домов овеяны поэтическими снами и мистикой. В опускающихся сумерках движется, точнее, скользит фигура женщины в чёрном вечернем платье и широкополой шляпе. В одном из домов высвечивается окно. В комнате за столом сидит Лиля Дмитриева. Пытается что-то писать. То ли в её сознании, то ли где-то в отдалении звучат стихи:
Есть на дне геральдических снов
перерывы сверкающей ткани;
в глубине анфилад и дворцов
на последней таинственной грани
повторяется сон между снов.
В нём всё смутно, но с жизнию схоже…
Вижу девушки бледной лицо, как моё,
но иное и то же, и моё на мизинце кольцо.
Это – я, и всё так непохоже.
Лиля Дмитриева смотрит прямо перед собой. Она больше грезит, чем пишет.
Я так знаю черты её рук,
и, во время моих новолуний,
обнимающий сердце испуг,
и походку крылатых вещуний,
и речей её вкрадчивый звук.
Женщина в шляпе приближается к дому, в котором живёт Лиля…
И моё на устах её имя,
обо мне её скорбь и мечты,
и с печальной каймою листы,
что она называет своими,
затаили мои же мечты.
Лиля снова склоняется к бумаге. В прихожей раздаётся звонок. Она тревожно вскидывает голову, медленно поднимается и идет к двери…
(«Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе, – вспоминает Волошин. – Ей всё казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у неё ответа…»)
Входит красивая женщина в вечернем платье. Хозяйка отпрянула.
– Кто вы?
Взгляд незнакомки проникнут добротой и печалью.
– Не бойся. Я – это ты. Истинная ты. Такой тебя не видят другие. Но они не видят ничего.
– Ты пришла покарать меня за то, что я присвоила чужую судьбу?
– Я здесь, чтобы помочь. Подарить тебя тебе, одержать победу над теми, кто не верит в тебя.
– Ты другая. Ты живёшь в другом, нездешнем мире.
– Я – это ты. Ты – это я. Павший ангел, который своим падением искупает вину за содеянное на земле.
– Наверное, я виновата. Я взяла на себя слишком много и должна быть наказана за гордость.
– Ты взяла на себя свободу. Свободу творить… себя и мир, достойный тебя.
– Но я недостойна этого нового мира. Я устала. Покинь меня. Дай мне возможность быть просто Лилей Дмитриевой, той, что преподаёт детям словесность и не мечтает ни о чём большем.
– Но ведь ты этого хотела – поэтической славы, признания?
Вместо ответа Лиля протягивает гостье листок, на котором перед её приходом что-то писала, отходит к окну, всем своим существом устремляясь в ночь, к мистическим провалам петербуржских дворов, мерцанию Невы, мрачной непреклонности каменных исполинов…
«Я ещё даже не знаю – поэт я или нет. Может быть, мне и не дано будет узнать это. Одно верно: я больше не в силах удержать истоки уходящего подземного ключа…Теперь от мира я иду в неведомую тишину и не знаю, приду ли. Я знаю, что уже давно умерла, и все вы любите умершую Черубину… девушку из Атлантиды, которая всё могла и ничего не сумела…»
А ведь не только Елизавета Ивановна боялась призрака загадочной поэтессы. Иннокентий Анненский однажды заявил: «Пусть она – даже мираж, мною выдуманный, я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой чёрной склонённой фигуры с веером около исповедальни, откуда маленькое ухо, розовея, внемлет шёпоту египетских губ. Я боюсь той, чья лучистая проекция обещает мне Наше Будущее в виде Женского Будущего…»
Редакция «Аполлона». Обстановка здесь накалена. Нанесён удар по честолюбию известных литераторов.
– Это переходит всякие границы. Черубина де Габриак выживает нас из журнала! У меня сократили целую полосу, у Анненского забрали…
– Я добровольно уступил своё место Черубине.
– Это делает вам честь, Иннокентий Фёдорович. Но я не собираюсь следовать вашему примеру. Я не настолько благороден. Да и было бы кому уступать!
– Не так давно, дорогой мой, вы превозносили творчество Черубины де Габриак. Ставили её выше Бодлера и Рембо.
– Напрасно иронизируете, Михаил Алексеевич. Насколько я знаю, в следующем номере должны пойти Ваши стихи. Вы уверены, что всё сойдёт гладко?
Постучавшись, Михаил Кузмин открывает дверь в кабинет редактора «Аполлона».
– Сергей Константинович, у меня к вам разговор…
Маковский смотрит на него вопросительно…
Спустя некоторое время кабинет Маковского. Раздаётся телефонный звонок. Маковский снимает трубку и – вялым голосом:
– А, это вы? Знаете, я хотел заказать вам поэму. Не догадываетесь, ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, о ком? О Григории Отрепьеве…
Может быть, всё было и не совсем так. Это – лишь одна из версий случившегося. Но можно утверждать с определённостью: сюжет постепенно выходил из-под контроля драматурга и режиссёра. «Мы с Лилей стали замечать, что кто-то другой, кроме нас, вмешивается в историю Черубины. Маковский начал получать от её имени какие-то письма, написанные не нами. И мы решили оборвать.
Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я – автор Черубины, так как говорил мне: „Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это – мистификация, то это – гениально“. Он рассчитывал на то, что „ворона каркнет“. Однако я не каркнул. А А. Толстой давно говорил мне: „Брось, Макс, это добром не кончится“.
Черубина написала Маковскому последнее стихотворение. В нём были строки:
Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали…
Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже давно обо всём знал. „Я хотел дать вам возможность дописать до конца вашу красивую поэму“. Он подозревал о моём сотрудничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрёкся от всего. Моё отречение было встречено с молчаливой благодарностью».
По воспоминаниям Маковского, Елизавета Ивановна сама нанесла ему визит и высказала сожаление по поводу причинённой ему боли. «Было 10 вечера, когда раздался её звонок… В комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина, с крупной головой… Она была на редкость некрасива». Если верить Маковскому, Дмитриева сказала ему: «Сегодня, с минуты, когда я услышала от вас, что всё открылось, я навсегда потеряла себя: умерла та единственная, выдуманная мною „я“, которая позволяла мне чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя…»
Так кто же всё-таки сыграл главную роль в разоблачении Черубины? Послушаем ещё раз Волошина: «Лиля обычно бывала в редакции одна, так как жених её, Воля Васильев, бывать с ней не мог: он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбуждённом состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от неё каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилёв говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Всё это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле „очную ставку“ с Гумилёвым, которому она вынуждена была сказать, что он лжёт…»
Очевидно, Иоганнес фон Гюнтер и стал первым (среди новых персонажей) обладателем тайны неуловимой графини. Именно ему, возможно, и сказала Дмитриева в порыве экзальтированного откровения: «Знаете что: Черубина де Габриак – это я». А затем уже Гюнтер рассказал всё Михаилу Кузмину.
Петербург. Мариинский театр. В фойе театра входит Волошин. Дают «Фауста». Макс поднимается по лестнице. Наверху – мастерская художника Александра Яковлевича Головина. Там часто позируют поэты, сотрудники «Аполлона». Ведутся разговоры об искусстве, обсуждаются последние литературные новости. Волошин открывает дверь и заходит в мастерскую. Сегодня его очередь позировать…
Кабинет Маковского. В полузабытьи, подперев ладонью голову, за столом восседает редактор «Аполлона». Комната погружается в полумрак. Всё становится зыбким, нерезким. Медленно открывается дверь. На пороге возникает фигура женщины. Маковский вздрагивает и подаётся ей навстречу.
– Кто Вы?
– Где же Ваше шестое чувство? Я – Черубина де Габриак. Я слышала: Вы были невежливы с моей сестрой…
Маковский ниспадает на стул. Вглядывается в расплывающийся силуэт женщины, прекрасной в лучах уходящего дня. Губы пытаются что-то произнести, но слова застревают в горле.
– Вы искали меня, и вот я пришла сама. Пришла, чтобы уйти навсегда.
– Прошу Вас… Простите… я право…
– Вы разуверились в мечте, любезный Сергей Константинович, похоронили самое лучшее, что Вам подарила судьба. Но я спасаю Вас. Я ухожу, а в сердце Вашем навсегда останется незаживающий след Черубины…
Маковский на какое-то мгновение закрывает глаза, пытаясь стряхнуть наваждение. Через секунду, «прозрев», он видит пустую комнату…
Милый рыцарь Дамы Чёрной,
Вы несли цветы учтиво,
Власти призрака покорный,
Вы склонялись молчаливо.
Храбрый рыцарь. Вы дерзнули
Приподнять вуаль мой шпагой…
Гордый мой венец согнули
Перед дерзкою отвагой.
Бедный рыцарь. Нет отгадки,
Ухожу незримой в дали…
Удержали вы в перчатке
Только край моей вуали.
Мастерская художника Александра Головина, где часто позируют поэты, сотрудники «Аполлона», обсуждаются последние литературные новости. Здесь многолюдно. Бросается в глаза узкая фигура Гумилёва. Откуда-то змеится взгляд Вячеслава Иванова. В другом конце комнаты Волошин разговаривает с Толстым. Сегодня Максу изменяет его обычное добродушие. Он что-то явно выговаривает своему другу. Неожиданно взгляды Волошина и Гумилёва перекрещиваются. Николай Степанович беседует с кем-то из поэтов.
– И всё-таки по-русски так ещё никто не писал, – говорит ему собеседник.
– Да бросьте… Я довольно хорошо знаю эту особу: как женщина – в определённые моменты бытия – она обладает куда большими способностями, чем как поэтесса… Я мог бы рассказать…
Но докончить фразу ему не даёт Волошин. Стремительно подойдя к Гумилёву, Макс даёт ему пощёчину. (Сам Гумилёв, большой специалист в этой области наставлял его в прошлом году: «Сильно, кратко и неожиданно».) Шаляпин только что допел «Заклинание цветов». На мгновение зависла тишина. Тем отчётливей звучит реплика Анненского: